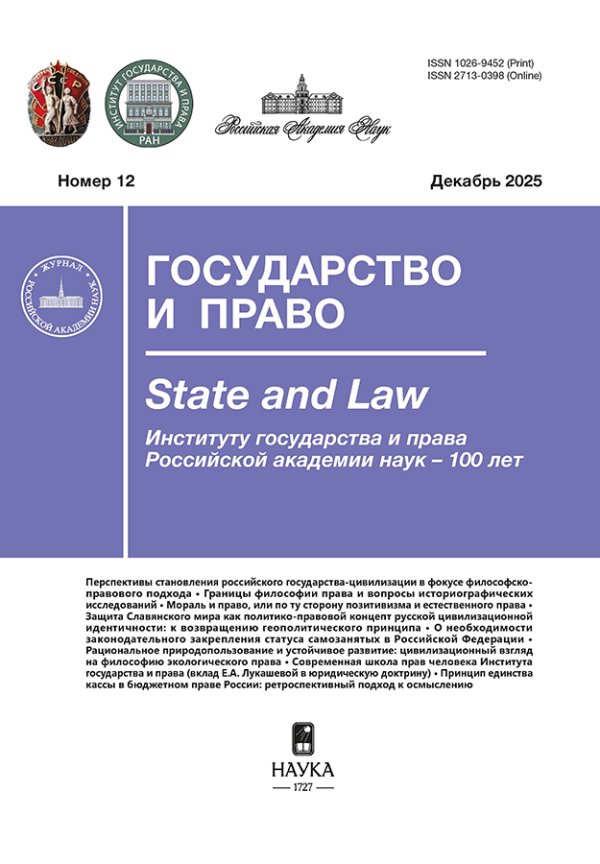System of criminal measures procedural coercion: What signs indicate for its existence?
- Authors: Rossinskiy S.B.1
-
Affiliations:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 120-127
- Section: Strengthening of legality and struggle with criminality
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9452/article/view/263266
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224060107
- ID: 263266
Cite item
Full Text
Abstract
The article attempts to consider the entire set of currently existing measures of criminal procedural coercion from the point of view of systems theory, that is, through comparison with the known signs of systematicity: unity, integrity, interconnection of elements, structure and orderliness, hierarchical structure, multiplicity of descriptions, dynamic development. It is noted that the totality of coercive measures provided for criminal justice meets only two of the specified characteristics. At the same time, circumstances are analyzed that prevent the identification of other signs of systematicity in a given set. As a result, the conclusion is formulated that the system of measures of criminal procedural coercion is another, in no way substantiated and unsubstantiated doctrinal myth, which owes its emergence to incorrect legal and technical approaches that imply a desire to group the provisions of the law, regardless of the essence, content and legal the nature of the relevant techniques and procedures.
Full Text
Меры уголовно-процессуального принуждения – это особые правоограничительные приемы, пригодные к использованию в следственной (дознавательской) и судебной практике в качестве инструментов внешнего воздействия на поведение подозреваемых, обвиняемых, а также некоторых иных лиц, непредрасположенных к надлежащему исполнению установленных законом предписаний и запретов, то есть препятствующих либо способных воспрепятствовать продуктивному решению задач досудебного или судебного производства по уголовному делу1. Являясь достаточно жесткими формами реализации дискреционных полномочий органов дознания, предварительного следствия и суда, они подлежат применению лишь в отношении невластных участников уголовно-процессуальных отношений, при наличии строго определенных правовых условий, ввиду соответствующих оснований и посредством издания специальных правоприменительных актов, а наиболее строгие, выраженные в ограничении конституционных прав личности – не иначе как путем вынесения судебных решений. Причем в жесткости мер уголовно-процессуального принуждения, в их явно более обременительном характере по сравнению с принудительными приемами, применяемыми в иных сферах публично-правового регулирования, нет ничего удивительного – в силу вполне понятных причин именно уголовное судопроизводство сопряжено с самыми высокими рисками неисполнения существующих предписаний и запретов, в том числе с возможностью активного противодействия предварительному расследованию и судебному разбирательству.
По этим же причинам меры принуждения всегда являлись непреложным атрибутом уголовного судопроизводства (любой иной деятельности, направленной на обеспечение возможности уголовной репрессии), были и остаются присущи работе органов уголовной юстиции любых государств, любым существовавшим и существующим правопорядкам. В частности, некоторые из них упоминались еще в архаичных сводах законов и других источниках права Московского государства и Российской Империи, другие обязаны своим возникновением Уставу уголовного судопроизводства Российской Империи 1864 г., третьи стали результатом советского уголовно-процессуального правотворчества и т. д. Однако лишь в действующем процессуальном законе была предприняла первая попытка их «поселения под одной крышей» – все положения о мерах принуждения были собраны вместе, помещены в общий раздел Уголовно-процессуального кодекса РФ.
По всей видимости, подобное правотворческое решение стало одним из шагов, направленных на реализацию глобального замысла разработчиков проекта УПК РФ, состоящего в стремлении к некоему упорядочению многих институтов уголовно-процессуального права, а если быть точнее, к объединению ранее разрозненных, но схожих по каким-либо критериям положений в общие главы и разделы УПК РФ. Ведь аналогичные шаги одновременно были предприняты и в отношении принципов уголовного судопроизводства, участников уголовного судопроизводства, правовой основы уголовного преследования и т. д.
Правда, вполне вероятно, что такие решения были вызваны и какими-то другими причинами. Однако, в сущности, по крайней мере в контексте замыслов настоящей статьи, подобные детали не так уж и важны. В любом случае ясно одно: законодатель постарался собрать все положения о мерах принуждения вместе, в разд. IV УПК РФ, состоящий из трех самостоятельных глав, посвященных соответственно задержанию подозреваемого (гл. 12), мерам пресечения (гл. 13) и т. н. иным мерам уголовно-процессуального принуждения (гл. 14).
В этой связи в ряде доктринальных источников высказываются, по крайней мере подразумеваются, идеи о существовании и нормативном закреплении некой системы мер уголовно-процессуального принуждения. Хотя одновременно обращается внимание на ее серьезные недостатки, лакуны, «белые пятна». В частности, говорится об ее неполноте, о невключении в нее ряда оставшихся «за скобками» процессуально-принудительных приемов – т.н. «мер принуждения не в чистом виде», о принципиально разном характере входящих в нее элементов и т.д .2 Попутно формулируются различные предложения, направленные на устранение отмеченных недостатков посредством внесения ряда коррективов в нормативную регламентацию системы мер уголовно-процессуального принуждения3.
Возможно, что некоторые из таких позиций и предложений не лишены определенного смысла и при разумном использовании законодателем смогут оказать позитивное влияние на совершенствование уголовно-процессуального закона и оптимизацию правоприменительной практики. Однако, прежде чем соглашаться или не соглашаться с очередными (какими по счету?!) правотворческими инициативами, необходимо разобраться с самим системным характером вытекающей из смысла УПК РФ совокупности мер принуждения, т. е. с приемлемостью/неприемлемостью ее позиционирования как полноценной системы. Иными словами, вначале требуется ответить на вопрос: действительно ли эта совокупность отвечает всем признакам системности, по крайней мере большинству из них, или является не более чем простым множеством различных правоограничительных механизмов, формально объединенных законодателем в одну большую «семью», говоря образно, «сваленных в одну кучу», называемую некоторыми авторами системой не более чем ради красного словца и (или) ввиду непонимания подлинного смысла данного термина.
В связи с чем такую совокупность требуется оценить с точки зрения общей теории систем и сопоставить с сущностными признаками, позволяющими характеризовать некое множество элементов как систему. Решению указанной задачи и посвящена настоящая статья.
Итак, авторы научных публикаций по теории систем и системному анализу под системой обычно понимают целостную совокупность взаимосвязанных, расположенных в строгом порядке и играющих строго определенную роль элементов4. А к признакам системы традиционно относят: а) единство; б) целостность; в) взаимосвязь элементов; г) структурность и упорядоченность; г) иерархичность; е) множественность описания; ж) динамичность развития5. Но соответствует ли таким подходам вытекающая из смысла разд. IV УПК РФ совокупность мер принуждения? Ответ на этот вопрос представляется далеко не таким однозначным, каковым он должен являться в случае безусловного признания некоего множества элементов полноценной системой.
Думается, что такая совокупность отвечает лишь двум из указанных признаков: 1) структурности и упорядоченности, подразумевающей нахождение всякого элемента на «своем месте», т. е. выполнение каждым из них строго отведенной роли – любая из предусмотренных УПК РФ мер принуждения действительно характеризуется собственным предназначением, а возникающие в связи с их правильным выбором трудности обуславливаются сугубо практическими причинами, например недостаточным профессионализмом некоторых правоприменителей, сложностью и неоднозначностью обстоятельств многих уголовных дел и т. п.; 2) динамичности, способности к развитию в зависимости от объективно существующих факторов – ввиду постоянных и достаточно частных изменений и дополнений, вносимых в уголовно-процессуальное законодательство, в том числе в разд. IV УПК РФ, в соответствии совокупности мер принуждения данному признаку вообще не может быть никаких сомнений.
Вместе с тем сопоставление всей совокупности процессуально-принудительных приемов с другими признаками системности уже не приводит к столь позитивным результатам. При детальном рассмотрении и осмыслении всех нюансов правового регулирования мер уголовно-процессуального принуждения их вроде бы как системная организация начинает представляться далеко не такой однозначной.
Например, такую совокупность вряд ли можно оценить как отвечающую признаку единства, подразумевающему унифицированный, в определенном смысле безальтернативный характер соответствующей системы. В противном случае в нее надлежало бы включить все предусмотренные для дознавательской, следственной и судебной практики принудительные приемы, по крайней мере нацеленные именно на подавление намерений участников тех или иных правоотношений при нежелании добровольного исполнения установленных запретов и предписаний. Однако разд. IV УПК РФ охватывает далеко не все подобные правоограничительные механизмы, далеко не все средства принудительного воздействия на поведение невластных субъектов уголовно-процессуальной деятельности: некоторые из них установлены другими положениями уголовно-процессуального права – как уже было отмечено выше, на этот нюанс уже обращалось внимание в целом ряде научных публикаций.
Конечно, можно было бы согласиться с некоторыми авторами, полагающими, что подобным способом законодатель пытается отграничить процессуальные приемы, предназначенные исключительно для принуждения, от механизмов, имеющих иное «титульное» предназначение и сопряженных с возможностью использования средств принудительного воздействия лишь в случаях возникновения соответствующей потребности – тех самых, вышеупомянутых «мер принуждения не в чистом виде», например освидетельствования, обыска, выемки и т. д. В частности, подобную позицию высказывают авторы Курса уголовного процесса под редакцией Л. В. Головко: говорится о мерах принуждения в широком смысле, охватывающем все существующие принудительные приемы, и узком смысле, ограниченном содержанием разд. IV УПК РФ. При этом правовая регламентация последних увязывается с автономным правовым институтом, сформированным по целевому признаку – входящие в него меры предлагается отграничивать от других форм процессуально-принудительного воздействия, например используемых в ходе обыска в жилище и т. п., на основании изначальной направленности на подавление воли какого-либо невластного субъекта как единственной цели любого подобного приема6.
Однако полностью признать справедливость подобных оценок все-таки достаточно сложно. Ведь разд. IV УПК РФ предусматривает далеко не все процессуальные приемы, не имеющие иных целей кроме оказания принудительного воздействия на поведение участников досудебного или судебного производства по уголовному делу7. К примеру, «за скобками» этого раздела остаются нормы, позволяющие поместить обвиняемого (подозреваемого) в стационар для проведения экспертного исследования (ст. 203 УПК РФ), удалить нарушителя установленного порядка из зала судебного заседания либо отключить его от видео-конференц-связи (ч. 1, 3 ст. 258 УПК РФ). Причем подобные правотворческие решения вряд ли можно объяснить банальной невнимательностью или забывчивостью законодателя. Скорее разработчики проекта Кодекса, будучи одержимы стремлением к систематизации мер принуждения, просто не решились посягнуть на другие нормативно закрепленные системы – не захотели «потрошить» хорошо разработанные и давно устоявшиеся институты уголовно-процессуального права, в частности институты судебной экспертизы и общих условий судебного разбирательства.
К слову, несоответствие вытекающей из смысла разд. IV УПК РФ совокупности мер принуждения системообразующему признаку единства можно уразуметь при ее сравнении с другими известными системами, входящими в предмет уголовно-процессуального регулирования, например с ранее попадавшей в предмет научных изысканий системой следственных действий. Как отмечалось в прежних публикациях, обеспечению единства системы следственных действий способствуют общие правила их проведения, единообразные требования к фиксации их хода и результатов, идентичные виды формируемых доказательств и другие обстоятельства8. Аналогичные или другие существенные сходства можно обнаружить при анализе прочих процессуально-правовых систем9.
Однако выявить какие-либо единые, по крайней мере схожие, атрибуты у предусмотренных разд. IV УПК РФ мер принуждения (разве что за исключением общего принудительного метода правового воздействия на поведение участвующих в уголовном деле лиц) представляется крайне затруднительным. По всей вероятности, подобные сходства можно обнаружить лишь в правовой регламентации мер пресечения как одной из разновидностей процессуально-принудительных приемов, включенных в достаточно «сбитую», имеющую богатую историю автономную подгруппу (гл. 13 УПК РФ) – именно она, а не вся совокупность мер принуждения более всего соответствует сущности системы в целом и признаку системного единства в частности. Тогда как другие меры принуждения представляют собой достаточно разрозненные, направленные на решение совершенно разных задач, предполагающие совершенно разную природу, различные основания, правые условия и механизмы реализации правоограничительные приемы, на что также неоднократно обращалось внимание в научных публикациях10.
Существующее множество мер принуждения вряд ли можно положительно оценить и на предмет соответствия еще одному признаку системности – целостности, предполагающему принципиальную несводимость свойств системы к совокупности свойств входящих в нее элементов, равно как и наоборот, невыводимость из таких элементов свойств всей системы. Данная совокупность просто не располагает какими-то общими свойствами, превращающими ее в некий самостоятельный правовой феномен. В связи с чем гипотетическое упразднение разд. IV УПК РФ (за исключением гл. 13), сопровождаемое разумным распределением содержащихся в нем положений по другим разделам и главам УПК РФ – наподобие юридико-технической модели, свойственной для советского процессуального законодательства, – не принесет негативных последствий для правоприменительной практики.
Тем более что некоторые признаваемые в настоящее время мерами принуждения механизмы вообще представляются достаточно странными, по крайней мере явно не соответствующими правовым инструментам, подлежащим включению в сферу уголовно-процессуального регулирования. В частности, таких оценок заслуживает задержание подозреваемого – правоограничительная операция, представляющая собой не столько классический процессуальный инструмент работы уголовной юстиции, сколько превентивную полицейскую меру обеспечительного характера, позволяющую безотлагательно ограничить право человека на свободу вплоть до его передачи в ве́дение судебно-следственных органов. В публикациях автора настоящей статьи уже неоднократно заявлялось о потребности в депроцессуализации института задержания подозреваемого, в его выведении из предмета уголовно-процессуального регулирования, а также о необходимости его регламентации посредством отдельного законодательного акта межотраслевого характера11.
Таковым видится и денежное взыскание, являющееся типичной карательной формой государственного возмездия за неисполнение (ненадлежащее исполнение) участником уголовного судопроизводства адресованных ему процессуальных запретов или предписаний (ст. 117 УПК РФ). Несуразность правотворческого решения об отнесении денежного взыскания к мерам уголовно-процессуального принуждения должна быть очевидна любому специалисту, понимающему разницу между материальным (деликтным) и процессуальным правом, – по своей сути оно является не столько процессуально-правоограничительным приемом, сколько «штрафной» формой юридической ответственности, явно напоминающей административные наказания за другие проступки в сфере правосудия, установленные гл. 17 КоАП РФ. И в этой связи в более ранних публикациях автора настоящей статьи уже говорилось о необходимости исключения положений о денежном взыскании из УПК РФ с одновременным введением соответствующих дополнений в КоАП РФ12.
Не менее странным представляется еще один предусмотренный действующим уголовно-процессуальным законодательством прием – обязательство о явке, состоящее в письменном «обещании» человека своевременно являться по вызовам в органы предварительного расследования или суд, а также незамедлительно уведомлять о смене места своего жительства (ст. 112 УПК РФ). Необычность этого якобы правоограничительного механизма видится в том, что, будучи формально включенным в совокупность мер принуждения, на самом деле никакого принудительного воздействия на поведение участвующих в уголовном деле лиц он не предполагает, а фактически сводится к подтверждению кем-либо из них своих пока еще добровольных намерений по исполнению установленных обязанностей. Тем более что, несмотря на вытекающую из смысла законодательства номинальную угрозу наступления неких неблагоприятных последствий (ч. 2 ст. 112 УПК РФ), какие-либо санкции за нарушение данного обязательства в реальности не предусмотрены, в связи с чем ее «коэффициент полезного действия» фактически стремится к нулю.
Хотя причины, некогда побудившие законодателя к введению данной меры принуждения в сферу уголовно-процессуального регулирования, достаточно очевидны. Во-первых, это позволяет преодолеть известную правотворческую догму, предопределенную стремлениями к абсолютизации прав обвиняемых (подозреваемых) и выраженную в их номинальном освобождении от каких-либо процессуальных обязанностей. Ведь сугубо формально ни одна норма Кодекса не предписывает указанным субъектам являться по вызовам дознавателя, следователя либо суда – такие обязанности надежно спрятаны, замаскированы и усматриваются лишь из смысла других положений закона, в связи с чем могут быть возложены на определенных лиц только посредством специальных распорядительных приемов, в частности получения письменного обязательства о явке.
А во-вторых, потребность в таком механизме возникла в связи с существованием давно подлежащего ликвидации 13 нормативного анахронизма – требования о приоритетности избрания меры пресечения в отношении обвиняемого и возможности ее применения к подозреваемому только в исключительных случаях, причем на весьма непродолжительный срок. В этой связи обязательство о явке становится хорошим подспорьем в ходе проведения ординарных и сокращенных дознаний в порядке гл. 32 и 321 УПК РФ, по общему правилу не предполагающих возможности привлечения в качестве обвиняемого и, следовательно, избрания в отношении лица одной из мер уголовно-процессуального пресечения, в первую очередь подписки о невыезде и надлежащем поведении. К слову, о распространенности практики использования обязательства о явке именно сотрудниками органов дознания отмечается в целом ряде публикаций, посвященных данной научной проблематике14.
Предусмотренное разд. IV УПК РФ множество мер принуждения не отвечает еще одному признаку системности – взаимосвязи элементов, выражающемуся в их определенной зависимости друг от друга, в отражении недостатков функционирования одного из них на остальных, в первую очередь расположенных рядом, элементах системы. Многие из существующих в настоящее время процессуально-принудительных приемов (опять-таки же за исключением мер пресечения) являются автономными и вполне самодостаточными правоограничительными механизмами, не имеющими отношения к другим, в том числе соседним по месту «прописки» соответствующих нормативных положений, мерам принуждения. При этом наименее предрасположенными к взаимосвязи видятся положения гл. 14 УПК РФ – они лишены какого-либо объединяющего стержня и представляют собой хаотичный набор никоим образом не связанных друг с другом правовых инструментов, объединенных в одну общность по остаточному принципу15.
Сугубо отрицательные выводы напрашиваются при сопоставлении совокупности существующих мер принуждения с остальными признаками системности – иерархичностью, подразумевающей особый принцип построения любой системы и взаиморасположения входящих в нее элементов, при котором каждый из них тоже обладает свойствами самостоятельной, но более локальной системы (подсистемы), и множественностью описаний, предполагающей возможность ее рассмотрения с позиций разных областей научного знания. Как отмечалось выше, среди всех предусмотренных УПК РФ процессуально-принудительных приемов подлинные свойства полноценной системы (подсистемы) можно обнаружить лишь в части нормативной регламентации мер уголовно-процессуального пресечения, тогда как задержание подозреваемого и иные меры принуждения подобными свойствами не обладают. Кроме того, их совокупность вряд ли способна стать предметом исследований, проводимых в рамках близких к уголовному судопроизводству, но все же иных областей научного знания: криминалистики, юридической психологии, организации правоохранительной деятельности и т. д. Конечно, отдельные меры принуждения просто не могут не представлять интереса с точки зрения каких-либо из этих наук. Например, задержание подозреваемого неоднократно рассматривалось в публикациях по оперативно-розыскной и административной деятельности органов исполнительной власти, заключение под стражу – в трудах по уголовно-исполнительному праву, временное отстранение от должности – в статьях по трудовому праву и т. п. Однако все эти публикации не касались и в силу понятных причин не могут касаться всей совокупности различных по своей природе и способам воздействия на поведение участвующих в уголовном деле лиц мер принуждения.
* * *
Таким образом, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством совокупность принудительных приемов никоим образом нельзя считать полноценной системой, отвечающей всем или по крайней мере большинству признаков системности. Представляется, что система мер уголовно-процессуального принуждения – это очередной, никак не обоснованный и ничем не подтвержденный доктринальный миф. Причем он обязан своим возникновением лишь стремлению законодателя к использованию особой юридической техники, предполагающей разложение всего нормативного контента «по полочкам» вне зависимости от сущности, содержания и родственности невольно попадающих в одну группу положений уголовно-процессуального права.
Разумны ли подобные подходы к правотворчеству? Способствуют ли они надлежащему развитию уголовно-процессуальной доктрины, законодательства и правоприменительной практики? По всей вероятности, нет, поскольку, как было показано выше, приводят к возникновению очередных надуманных «теорий». Кроме того, такие подходы пагубно сказываются на качестве законодательства и уровне профессионализма осуществляющих его реализацию судей, прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов.
1 См., напр.: Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов, 1978. С. 20; Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 522.
2 См., напр.: Копылова О. П. Меры принуждения в уголовном процессе. Тамбов, 2011. С. 13; Исеев Д. Р. Система мер принуждения и порядок их применения в уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2009. С. 6; Даровских С. М., Даровских О. И. Система мер принуждения в уголовном судопроизводстве России // Вестник Уфимского юридического ин-та МВД России. 2018. № 1. С. 62, 63.
3 См.: Муравьев К. В. Оптимальна ли регламентация системы мер процессуального принуждения в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 5. С. 24–29.
4 См., напр.: Гвишиани Д. М. Избранные труды по философии, социологии и системному анализу / под ред. Ю. С. Попкова, В. Н. Садовского, А. А. Сеитова. М., 2007. С. 245; Садовский В. Н. Система // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова и др. М., 2010. Т. 3. С. 552, 553.
5 См., напр.: Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы / пер. с англ. Э. Л. Наппельбаума; под ред. С. В. Емельяновой. М., 1978. С. 9–11; Блауберг И. В. Проблема целостности и системный подход. М., 1997. С. 249–258; Павлов С. Н. Теория систем и системный анализ. Томск, 2003. С. 7–13; Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ. М., 2014. С. 43–46.
6 См.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 521, 522.
7 См.: Муравьев К. В. Указ. соч. С. 26.
8 См.: Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы собирания доказательств. М., 2021. С. 129.
9 См.: Миликова А. В. Система уголовно-процессуальных актов органов предварительного следствия // Евразийский юрид. журнал. 2019. № 7 (134). С. 302, 303; Калачева А. В. Система органов дознания Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 2024. № 1. С. 39–43.
10 См., напр.: Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве. Омск, 2003. С. 42; Вершинина С. И. Нормативно-правовая сущность уголовно-процессуального принуждения. М., 2017. С. 127.
11 См.: Россинский С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход. М., 2019. С. 175; Его же. Цели и основания задержания подозреваемого: в чем причины существующих противоречий? // Вестник Сибирского юридического ин-та МВД России. 2023. № 3 (52). С. 15.
12 См.: Россинский С. Б. Денежное взыскание как мера уголовно-процессуального принуждения: «За» и «Против» // Уголовно-процессуальное право: понятие, содержание, источники: материалы науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф. Д. С. Карева. М., 2006. С. 214, 215.
13 См.: Россинский С. Б. Правовые условия применения мер уголовно-процессуального пресечения приводят к поспешности и необоснованности обвинения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 5. С. 36.
14 См., напр.: Давлетов А. А., Политыко О. Е. Проблема исключительности применения меры пресечения к подозреваемому // Росс. юстиция. 2018. № 6. С. 52; Гараева Т. Б. Обязательство о явке в уголовном процессе: сущность, основания и особенности применения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2021. № 2 (81). С. 106.
15 См.: Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 43.
About the authors
Sergey B. Rossinskiy
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: s.rossinskiy@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3862-3188
Doctor of Law, Associate Professor, Chief Researcher of the Sector of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology
Russian Federation, MoscowReferences
- Blauberg I. V. The problem of integrity and a systematic approach. M., 1997. Pp. 249–258 (in Russ.).
- Bulatov B. B. State coercion in criminal proceedings. Omsk, 2003. Pp. 42, 43 (in Russ.).
- Vershinina S. I. The regulatory and legal essence of criminal procedural coercion. M., 2017. P. 127 (in Russ.).
- Volkova V. N., Denisov A. A. Systems theory and systems analysis. M., 2014. Pp. 43–46 (in Russ.).
- Garayeva T. B. Obligation to appear in criminal proceedings: essence, grounds and features of application // Scientific bulletin of the Omsk academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 2 (81). P. 106 (in Russ.).
- Gvishiani D. M. Selected works on philosophy, sociology and system analysis / ed. by Yu. S. Popkov, V. N. Sadovskiy, A. A. Seitov. M., 2007. P. 245 (in Russ.).
- Davletov A. A., Polityko O. E. The problem of the exclusivi-ty of applying a preventive measure to a suspect // Russian Justice. 2018. No. 6. P. 52 (in Russ.).
- Darovskikh S. M., Darovskikh O. I. System of coercive measures in criminal proceedings in Russia // Herald of the Ufa legal institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 1. Pp. 62, 63 (in Russ.).
- Iseev D. R. The system of coercive measures and the procedure for their application in criminal proceedings in Russia: abstract … PhD in Law. Ufa, 2009. P. 6 (in Russ.).
- Kalacheva A. V. System of investigative bodies of the Russian Federation // Legal education and science. 2024. No. 1. Pp. 39–43 (in Russ.).
- Kopylova O. P. Coercive measures in criminal proceedings. Tambov, 2011. P. 13 (in Russ.).
- Kornukov V. M. Measures of procedural coercion in criminal proceedings. Saratov, 1978. P. 20 (in Russ.).
- Course in criminal procedure / ed. by L. V. Golovko. M., 2016. Pp. 521, 522 (in Russ.).
- Mesarovich M., Takahara Y. General theory of systems: mathematical foundations / transl. from English E. L. Nappelbaum; ed. by S. V. Emelyanova. M., 1978. Pp. 9–11(in Russ.).
- Milikova A. V. System of criminal procedural acts of preliminary investigation bodies // Eurasian legal journal. 2019. No. 7 (134). Pp. 302, 303 (in Russ.).
- Muravyov K. V. Is the regulation of the system of procedural coercive measures in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation optimal? // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2018. No. 5. Pp. 24–29 (in Russ.).
- Pavlov S. N. Systems theory and system analysis. Tomsk, 2003. Pp. 7–13 (in Russ.).
- Rossinskiy S. B. Monetary recovery as a measure of criminal procedural coercion: “Pros” and “Cons” // Criminal procedural law: concept, content, sources: materials of the Scientific and Practical Conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor D. S. Karev. M., 2006. Pp. 214, 215 (in Russ.).
- Rossinskiy S. B. Pre-trial proceedings in a criminal case: the essence and methods of collecting evidence. M., 2021. P. 129 (in Russ.).
- Rossinskiy S. B. Detention of a suspect: a constitutional-intersectoral approach. M., 2019. P. 175 (in Russ.).
- Rossinskiy S. B. Purposes and grounds for detaining a suspect: what are the reasons for the existing contradictions? // Herald of the Siberian law institute of the Mi-nistry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 3 (52). P. 36 (in Russ.).
- Rossinskiy S. B. Legal conditions for the application of measures of criminal procedural restraint lead to haste and unfounded accusations // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2018. No. 5. P. 15 (in Russ.).
- Sadovsky V. N. System // The New Philosophical Encyclopedia: in 4 vols. / ed. by M. S. Kovalev, E. I. Lakirev, L. V. Litvinov et al. M., 2010. Vol. 3. Pp. 552, 553 (in Russ.).
Supplementary files