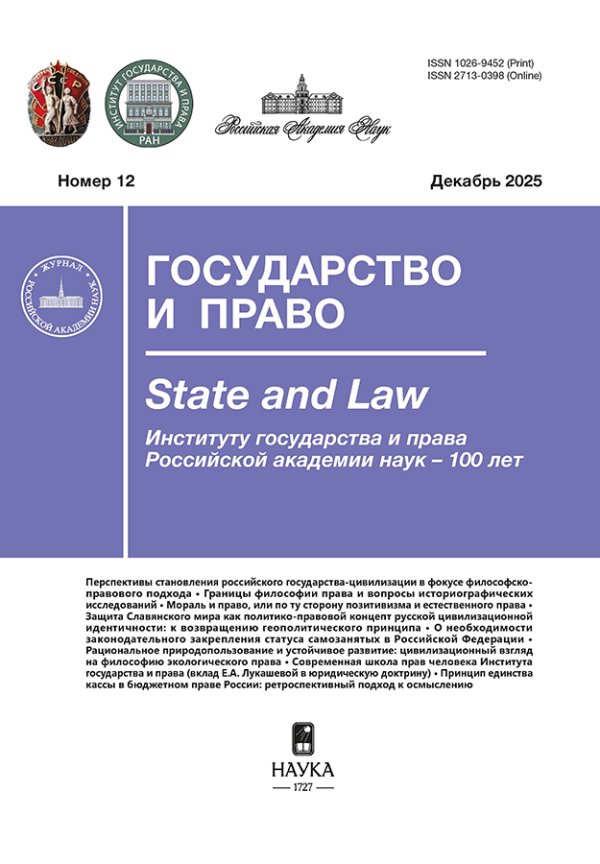Crime: criminal law concept
- Authors: Turyshev A.A.1
-
Affiliations:
- Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 137-146
- Section: Strengthening of legality and struggle with criminality
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9452/article/view/259535
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224030136
- ID: 259535
Cite item
Full Text
Abstract
The author proposes to consider a crime through the construction of a criminal law concept, as an image that includes all possible variations of its manifestation. For this purpose, a process of normalization of the concept has been carried out, in particular, the key feature “activity” has been added and insignificant features have been excluded: guilty and punishability. As a result, an axiomatic concept of a crime is obtained, the volume of which corresponds to objective reality. In addition, the article contains six arguments for the exclusion of signs of guilty and punishability. The concept of “crime”, after establishing a connection with other verified concepts, will form the basis for the development of a new criminal law concept.
Full Text
Всякая отрасль права строится на одном ключевом определении. Для уголовного права это, несомненно, понятие преступления, которое выступает мерой, основой построения всей уголовно-правовой конструкции. Если определение точное, то и конструкция получается крепкая, эффективная, а если скелет недоразвит, то сложно ожидать формирования здорового, функционирующего организма. Отсюда закономерный вопрос: устраивает ли нас существующее понятие преступления? Думаю, что нет. Из этого ответа родилась идея получить понятие преступления, соразмерное целям уголовного права.
Цель статьи декларативная: провозгласить нормализованное понятие преступления в качестве аксиоматической ценности до следующего этапа верификации. Оно направлено на формирование нового виденья, постановку адекватных целей и задач, ожидаемых результатов, четкое определение предмета и методологии научного исследования, что должно перевести юридическую реальность на новый уровень результативности.
Название статьи обусловлено отводимой ей ролью, которая заключается в утверждении понятия «преступление» как концепта – ключевого, аксиоматического, системного определения, выступающего исходной точкой уголовно-правовой мысли, основой для разворачивания новой концепции. В рамках его принятия основные усилия будут направлены на созидательную работу в потоке новой парадигмы уголовного права, а не будут потрачены на попытки осветить ошибки и нестыковки существующей уголовно-правовой конструкции. При этом мы понимаем степень ответственности предложения аксиоматического понятия, поэтому подкрепляем его подробной аргументацией с возможностью дискуссии по ней, а при накоплении определенного объема возражений – проведения очередного этапа верификации. Для облегчения перехода на авторскую позицию статья содержит: 1) нормализованное определение преступления; 2) шесть аргументов исключения виновности и наказуемости; 3) частные проблемные ситуации неверного определения преступления. Непринятие определения преступления предполагает полное и поэтапное опровержение аргументов, указанных в статье.
Основная претензия к понятию преступления состоит в том, что оно не соответствует действительности. С психологической стороны существующее понятие преступления привычно, подтверждено множеством научных работ, однако поддержание социальной иллюзии – достаточно ресурсоемкая задача, которая постоянно сталкивается с действительностью и выводит на неудобные частные вопросы: совершенное невменяемым или лицом, не достигшим 14-летнего возраста, – это «общественно опасное деяние» или преступление? В ст. 105 и 109 УК РФ указаны составы одного или разных преступлений? Совершение преступления в группе с невменяемым, выполняющим необходимые действия, является соучастием или нет? Можно ли причинять вред при задержании лица, совершившего преступление, если это лицо невменяемое или не достигло возраста уголовной ответственности?
Традиции хороши, когда они соответствуют объективной реальности, а когда они отрываются от жизни, то становятся тормозом. Значит, время от времени нужно подвергать сомнению истинность существующих знаний, если есть для этого основания, и проводить их инвентаризацию. Делать это следует системно, через технологию концепта.
Концепт определяют в двух значениях: 1) содержание понятия; 2) основная мысль, идея произведения, сочинения 1. Под ним понимается «смысловое значение имени (знака)» 2, а происхождение от глагола concipere – собирать; составлять по установленной форме, формулировать 3, – выводит концепт к формализованной сущности. В целом под концептом мы будем понимать образ, включающий ряд возможных смысловых значений, определяемых в контексте условий. В последнее время активно используется форма концепт-продукта как сущности, отражающей совокупность качеств, закрывающих боли потребителей (экономическая составляющая). Для нас важно его содержание, определяемое как смысл понятия или практическое воплощение идеи. Концепт есть способ организации предметной области в рамках концепции или теоретического видения, целостного (системного) представления. Основой конструкции является трансформация понятия через гипотезы о желательном результате, а тестирование на практике можно осуществлять через MVP 4. Понятие превращается в концепт (продукт) через рассмотрение системных связей с другими элементами, формируя модель с акцентом на необходимый результат.
Науке необходимо время от времени проводить верификацию понятий. Она осуществляется через ряд операций, приводящих к требуемой норме.
- Объективизация выражается в проверке понятия и всех его частностей на соответствие реальной действительности. Она необходима как процесс очищения от заблуждений, ошибок и навязанных субъективных мнений.
- Нормализация означает приведение понятия к критериям правильного определения. Такая работа осуществляется с объемом понятия через исключение несущественных и сохранение (добавление) существенных признаков.
- Систематизация заключается в детальной проработке связей на иерархических и горизонтальных планах как с одноуровневыми, так и с производными понятиями. Нестыковки устраняются через дальнейшую верификацию связанных понятий по нисходящей линии. Такой алгоритм позволяет получить выверенное, нормализованное, системное понятие, сокращенно именуемое концептом.
Анализ понятий преступлений в науке уголовного права выявил следующие закономерности: большинство ученых определяют преступление через деяние (действие или бездействие), а некоторые используют термин «посягательство» 5. По ограничительным признакам вариативность проявляется более разнообразно и можно выделить три подхода к понятию преступления.
Первая группа определяет преступление через признак противоправности, т. е. запрещенности деяния законом 6, к которому ряд авторов добавляет свои признаки: В. Спасович – «под страхом наказания» 7, Э. Я. Немировский – «виновное… с которым закон связывает наказание как последствие» 8, Л. С. Белогриц-Котляревский – «виновное… под страхом наказания» 9.
Вторая группа определений преступлений строится на связке признаков общественной опасности и противоправности, к которым каждый автор добавляет следующие признаки: А. А. Герцензон – «посягательство на основы советского строя и советский правопорядок, на права и интересы советских граждан… вызывающее отрицательную морально-политическую оценку и влекущее за собой наказание 10, Т. В. Церетелли – «виновное деяние» 11, М. П. Карпушин, В. И. Курляндский – «виновно совершенное вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности» 12, Н. А. Бабий – «виновно совершенное единолично или в соучастии независимо от стадии его осуществления» 13.
Третья группа относится к традиционному определению преступления, основанному на четверке признаков (общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость), где авторы предлагают дополнить своими существенными признаками: Е. В. Епифанова – «посягающее на публичные и частные права, свободы, законные интересы физических лиц, организаций, государства, муниципальных образований…» 14, В. В. Мальцев – «посягающее на мир и безопасность человечества, основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации, личность, экономическую сферу, общественную безопасность и общественный порядок, государственную власть, установленный порядок прохождения военной службы…» 15, Н. Д. Дурманов – «вменяемое…» 16, В. И. Морозов – «совершенное деликтоспособным лицом…» 17, А. И. Марцев – «совершаемое… вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности лицом…» 18.
Существующее разнообразие понятий преступления не вносит ясности, по существу, а лишь запутывает. Вопрос стоит не о придумывании новых признаков преступления, а о выборе из существующего множества в науке уголовного права тех, что являются существенными, а на их роль претендуют только общественная опасность и противоправность.
Будущее уголовное право будет определять следующий концепт «преступления»:
Преступление – общественно опасное деяние или деятельность, запрещенные уголовным законом.
Следует понимать, что объективно преступление может образовывать как деяние единичное, так и действия систематичные. Игнорирование последнего факта необоснованно, так как если в праве есть позитивная систематичная деятельность (например, предпринимательская деятельность), то должна быть и негативная систематичная деятельность или «преступная деятельность». Под деятельностью понимается «активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности» 19. Следовательно, уголовному праву следует сосредоточить усилия на теоретической проработке конструкции «преступной деятельности», тем более что уголовное законодательство накопило достаточное количество предпосылок ее частичной реализации, таких как административная преюдиция, различные виды преступной деятельности (террористической, экстремистской, коррупционной), проявление групповой преступности (соучастие, совокупность и рецидив), преступная деятельность юридических лиц и т. д. Так, преступная деятельность нашла отражение в отдельных статьях Уголовного кодекса РФ, присутствует в жизни, но игнорируется уголовно-правовой теорией. В действующем уголовном законодательстве преступная деятельность рассматривается через отдельные деяния, вырываемые из естественных цепочек.
Исключение несущественных признаков преступления (виновность и наказуемость) позволяет вернуть понятие в состояние советской уголовно-правовой науки до момента отклонения, определив его через совокупность формального и материального признаков. Раскрывать содержание общественной опасности и противоправности не имеет смысла, так как в этом случае реальность совпадает с мнением большинства ученых. Действительная сущность преступления раскрывается через установление связей с другими основополагающими понятиями уголовного права (состав преступления, уголовная ответственность, наказание, множественность преступлений, соучастие преступлений и т. д.), что формирует целостное видение уголовно-правовой концепции.
Текущее понятие преступления, по нашему мнению, неверно выполняет ограничительную функцию в определении объема тех ситуаций, которые относятся к категории преступления, что в итоге приводит к заужению пределов действия уголовного права. Только точная совокупность признаков выводит на требуемый объем понятия, адекватно отражающего действительность.
Ныне понятие преступления объективно-субъективное, причем в приоритете последнее. В уголовном праве отклонение в сторону субъективизма вызвало значительную деформацию уголовно-правовых институтов. Такое положение объяснимо с точки зрения идеологии, где нагнетание истерии по поводу репрессий и невинно осужденных привело к субъективному перекосу и дублированию субъективных элементов в нужных и ненужных местах. По сути, интересы обвиняемого ставятся выше интересов общества (потерпевшего), что отражается как в уголовном праве, так и наиболее ярко в уголовно-процессуальном праве. Конечно, никто не призывает игнорировать субъективную составляющую, однако следует ее вернуть в рамки разумности и достаточности, соразмерно целевым установкам уголовного права. Уголовное право прежде всего должно защищать пострадавшего через установление вины лица, совершившего преступление.
С содержательной стороны любое деяние, причинившее вред, является преступлением. Действия лиц, впоследствии оказывающихся не субъектом (невменяемые или не достигшие возраста ответственности), в моменте расцениваются обществом как преступление, а лишь затем это юридическое обстоятельство влияет на уголовную ответственность. Полагаем, что понятие «преступление» не должно зависеть от юридического статуса субъекта, главное, чтобы деяние было совершено человеком. При таком подходе преступление перестанет быть переменным, а станет постоянным, определенным явлением, отправной точкой для решения других проблем уголовного права.
Социальной характеристикой преступления является способность причинить существенный вред как в частном моменте, так и в целом социальной организации общества. С точки зрения пострадавшего, любой причиненный существенный вред – это преступление, не важно, кем он причинен (вменяемым или невменяемым, достигшим возраста уголовной ответственности или не достигшим). Вред и только причиненный вред является единственным критерием преступления, все остальное вариативно. Например, в определении преступления, где человек лишается жизни, акцент сдвигается на причинение смерти как потерю социальной ценности и уровня благосостояния потерпевшего, а не на то, кто его совершил (это второстепенный вопрос). С точки зрения общества, преступление – это дезорганизация порядка, изменение отношения людей к защите ценностей общества и способности государства справиться с этим. Объективная характеристика преступления используется государством для установления в уголовном законе конкретного состава преступления и его наказуемости, воплощая таким образом формальный признак преступления. Следовательно, социальный вред от преступления – это стабильная характеристика, которую реально оценить, а вина служит целям наказания, влияя на изменение общественной опасности в рамках установленных пределов. К сожалению, в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса РФ такое соотношение не нашло стройного и последовательного отражения во множестве составов преступлений.
Таким образом, статус деяния (преступление или не преступление) не может зависеть от таких обстоятельств, как юридический статус субъекта, его субъективное отношение к совершаемому деянию, а также от того факта, будет ли он наказан в будущем.
Понятие преступления является базой для построения всех теоретических конструкций в уголовном праве, поэтому оно должно быть выверено и найти отражение во всех производных понятиях, где должны присутствовать только существенные, неотъемлемые признаки. Исключение признаков виновности и наказуемости из понятия преступления вызовет определенные возражения научного сообщества, поэтому аргументации данного шага уделено значительное внимание в целях сделать процесс максимально безболезненным. Для этой цели выдвигаем шесть аргументов, подкрепленных доводами в пользу исключения указанных признаков из понятия преступления.
- Исторический аргумент. В уголовном законодательстве несущественные признаки в понятии преступления появились с Уголовного кодекса РФ 1996 г. Период в 27 лет, который ознаменовал их существование, с исторической точки зрения является достаточно непродолжительным. С момента появления понятия преступления в Артикуле воинском Петра I до Уголовного уложения 1903 г. его определение происходило через признак противоправности. Так, преступлением определялось «деяние, воспрещённое, во время его учинения, законом под страхом наказания» 20.
В советский период уголовное законодательство оперировало понятием преступления в основном в рамках признаков общественной опасности и противоправности. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. определял преступление следующим образом: «общественно опасным признается всякое действие или бездействие, направленное против Советского строя или нарушающее порядок, установленный Рабочее-Крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени» 21. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. сохранил подобную схему изложения, обновив лишь объекты посягательства на преступление: «преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок, общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом» 22. Лучшее не значит хорошее. Периоды социального развития сменяются застоем, упадком и формированием новой социальной структуры. Уголовный кодекс РФ принимался в период смуты, когда на останках прежнего государства формировалось новое, поэтому понятие преступления было вынуждено отражать эпоху и реализовывать идеи либерального мироустройства компрадорского типа. Нынешнее время существенным образом изменилось, что требует пересмотра как всего уголовного законодательства, так и понятия преступления, в частности.
- Структурный аргумент. Структурной особенностью несущественных признаков является их соответствие какому-либо связанному с преступлением явлению. Так, виновности соответствует вина как элемент состава преступления, а наказуемости – наказание как мера государственного принуждения. Для признаков противоправности и общественной опасности таких связанных явлений не усматривается, лишь состав преступления можно с некоторой натяжкой соотнести с противоправностью. Такой двойной учет в понятии преступления, наличие пары признака–явления («виновности–вины» и «наказуемости–наказания») вызывает вопросы к структурной организации уголовно-правовой модели.
Следующим аргументом является установление содержательного соотношения этих понятий (виновность–вина, наказуемость–наказание). В этом случае возможны два варианта разрешения: 1) каждый из парных терминов обладает собственным отличительным содержанием; 2) содержание парных терминов идентично, несмотря на различие в названиях. Наиболее простой способ заключается в изучении их значений, даваемых в учебной литературе. Так, контент-анализ учебников по уголовному праву показал, что термин «виновность» описывается в свободной форме, без определения, а его содержание раскрывается через понятие вины, что указано в ч. 1 ст. 24 УК РФ, через принцип вины, а также через вменяемость как основание для возникновения вины 23. Подобный подход в форме определения виновности понимает его как «совершение общественно опасного деяния с определенным психическим отношением конкретного лица к своему деянию и его последствиям, выраженным в форме умысла и неосторожности» 24. Основной посыл следующий: «вина является обязательным субъективным свойством преступления» 25, поэтому виновность отождествляется с виной, через нее раскрывается, что свидетельствует об отсутствии ее собственного содержания.
Относительно признака наказуемости контент-анализ учебников по уголовному праву выявил, что она определяется либо как «возможность назначения наказания за совершенное преступление» 26, либо как «угроза наказания за совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом» 27. При этом под возможностью (угрозой) можно воспринимать как установление такового в уголовном законе, так и фактическую реализацию наказания в реальной жизни. Наказуемость определяют как «признак преступления, не характеризующий его сущность, а указывающий на его неизбежное юридическое последствие, неблагоприятное для правонарушителя» 28. Получается, что наказание дважды фигурирует в понятии преступления: в качестве его признака, означающего «возможность или угрозу наказания», и в качестве самостоятельного «подразумеваемого» явления, выражающего неизбежное следствие любого преступления. Такая конструкция не совершенна. Полагаем, следует внести определенность в вопрос является ли наказуемость признаком или следствием.
В ряде учебников производится разграничение: «наказуемость деяния как угроза, возможность наказания, предусмотренная в санкции уголовно-правовой нормы, не должна смешиваться с наказанием, которое является следствием совершения преступления и потому в него не входит» 29. Под наказуемостью «следует понимать не реальное наказание и не факт его назначения за конкретное преступление, а установленную законом возможность применить наказание за каждый случай совершения деяния, описанного в той или иной норме Особенной части УК» 30. В половине рассмотренных учебников признак наказуемости рассматривается в рамках признака противоправности, что является достаточно логичным. Например, следует обратить внимание на широкое понимание уголовной противоправности, которая представлена в следующих критериях: а) виновность; б) запрещенность уголовным законом; в) наказуемость 31. Действительно, для определения в уголовном законе конкретного вида преступления законодатель его называет, описывает через необходимые элементы и определяет размер и вид наказания. Может ли преступление быть закреплено в уголовном законе без определения наказания? Нет, значит, наказуемость является неразрывной частью противоправности. Если наказуемость – это часть противоправности, тогда возникает закономерный вопрос: зачем выделять отдельный признак, который является частью другого, более общего признака преступления?
- Ролевой аргумент. По ролевому содержанию виновность и наказуемость определены признаками преступления, а каждый признак обладает свойством обязательности. Однако если какой-либо признак определения отсутствует, то данного явления не будет, а будет что-то совершенно другое. Разберемся с функциональным содержание данных признаков.
Виновность (она же вина) необходима прежде всего для назначения виновному соответствующей его поведению меры уголовно-правового воздействия. Так, составы убийства (ст. 105 УК РФ) и неосторожного причинений смерти (ст. 109 УК РФ) с точки зрения объективной стороны одинаковы, а различие прослеживается лишь в форме вины. В санкциях данных норм законодатель установил отличие сроков в 7.5 раза. Получается, что в приведенном случае выражение общественной опасности в большей степени зависит от вины, чем от тяжести последствий. Значит, вина наряду с другими элементами, образующими состава преступления, выступает основанием уголовной ответственности.
Наказуемость можно рассматривать как законодательную предпосылку (возможность) наказания за конкретное преступление, что отсылает нас к проявлению признака противоправности, а с другой стороны, как фактическую реализацию санкции (следствие преступления), что позволяет рассматривать ее в роли наказания. Наказуемость не может быть обязательным признаком преступления, так как определяется через термин «возможность», т. е. ожидаемое при определенных условиях, но не обязательное. Таким образом, виновность и наказуемость не отвечают критериям существенных признаков преступления по ролевым основаниям.
- Концептуальный аргумент. Превалирующее в науке уголовного права разделение преступления и состава преступления как разносущностных явлений (преступление относят к объективной реальности, а состав преступления – к юридической) приводит к дуальности понимания. В такой логике любое преступление должно содержать признаки виновности и наказуемости, чтобы стыковаться с составом преступления. Тогда возникает вопрос: всегда ли у нас преступление обладает такими признаками? Иногда виновность мы подразумеваем, например, в тех случаях, когда совершаемые деяния прошли мимо сознания, скажем, когда лицо совершает деяние в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и при этом ничего не помнит. С точки зрения законодательной модели, деяния ряда субъектов не обладают юридической виновностью, так как субъект не достиг установленного законом возраста или признан невменяемым. Данный факт приводит к тому, что в соответствии с уголовным законом лицо, объективно совершившее преступление, не подлежит наказанию. Даже в том случае, когда есть все основания, наказание не является закономерным исходом. Так, за первое полугодие 2022 г. уголовно-правовому воздействию подверглись 274 683 осужденных. При этом различным видам реального наказания были подвергнуты 188 958 осужденных, условно осуждены к лишению свободы и иным видам наказаний – 79 981 осужденный и 5744 лица по приговору освобождены от наказания или наказание на применялось 32. Таким образом, из общего числа лиц, совершивших преступление, меры воздействия распределяются в процентном отношении следующим образом: 69% подлежат наказанию, 31% фактически не наказываются (29% – условное осуждение, 2% – освобождение от наказания).
Кроме того, 70 839 дел прекращены по различным основаниям: 49 229 – в связи с примирением с потерпевшим, 10 821 – в связи с назначением судебного штрафа (ст. 251 УПК РФ), 3660 – на основании примечания к ст. Уголовного кодекса РФ (в том числе в связи с деятельным раскаянием, ч. 2 ст. 28 УПК РФ), 3617 – в связи с деятельным раскаянием, 2668 – в связи с истечением сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и т.д. 33
Следовательно, наказуемость следует рассматривать не как обязательное следствие, а как гипотетическую возможность, подтверждаемую текущей моделью уголовной ответственности. Так, при доказанности виновности и наличии состава за лицом все еще сохраняется возможность не подвергнуться наказанию в связи с освобождением от уголовной ответственности, а также по отдельным видам освобождения от наказания, в связи с амнистией или помилованием. И даже если ему будет назначено наказание условно, то объективно к лицу не будет применяться наказание, если он не нарушит требуемые условия.
- Статистический аргумент. Признак наказуемости не выдерживает проверки объективной реальностью, поскольку не за все преступления будет наказание, а неотвратимость наказания, по сути, является объективной фикцией или «теоретическим пожеланием», что находит подтверждение в статистических данных. Все совершенные преступления за определенный период можно поделить на группы разного размера.
Многие криминологи указывают, что большинство преступлений относится к категории латентных и количественно значительно отличается от зарегистрированных преступлений. Так, по мнению А. Л. Репецкой, выдерживается следующее соотношение: «при среднем количестве в 2.5–3 млн преступлений, находящихся в регистрации каждый год, текущая латентность по различным методикам расчетов составляет 22 млн преступлений» 34. В 2022 г. было зарегистрировано 1 966 795 преступлений, из которых было раскрыто 1 035 496 преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве в 2022 г.35 То есть, зная соотношение, можно предположить латентную преступность в 2022 г. в размере 14 423 163 преступлений. Таким образом, признак наказуемости не проявляется в 93.68% совершенных преступлений (14 423 163 – латентные + 931 299 – нераскрытые), лишь у 6.32% преступлений (1 035 496 – раскрытые) есть возможность повлечь наказание. Наблюдая такое процентное соотношение в жизни, делаем вывод, что преступления больше ненаказуемы, чем наказуемы. Раз наказание не всегда следует за преступлением, значит, наказуемость, как минимум, вариативный признак. Может быть и иная логика: если мы признаем наказуемость обязательным признаком, то будем вынуждены признать и то, что подавляющее большинство совершенных деяний преступлением не является. Но, поскольку такого не может быть, значит, вывод один: наказуемость не признак преступления.
Более того, такие статистические данные указывают на незначительное количество преступлений, за которые может следовать наказание, что делает постулат о «неотвратимости наказания», появившийся в работе Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», лишь пожеланием автора, а в сущности, просто юридической фикцией.
- Исключительный аргумент. Исключение признаков виновности и наказуемости не повлечет фатальных изменений, не скажется на законности и справедливости уголовно-правового воздействия. Фактически предполагаемые изменения приведут к упрощению уголовно-правовой модели, повышению уровня соответствия действительности, а значит, к повышению эффективности. Не стоит переживать об исключении виновности, поскольку останется принцип вины, пронизывающий все уголовное право, а также практическая деятельность, основанная на субъективном вменении. Вина, как и прежде, будет устанавливаться для каждого совершенного преступления, поскольку является обязательным элементом любого состава преступления, а он, в свою очередь, выступает основанием уголовной ответственности. Таким образом, принципа вины и вины как элемента состава достаточно для поддержания необходимого уровня субъективности уголовного права в оценке деяния виновного. Исключение наказуемости также не приведет к необратимым изменениям, поскольку этот признак останется частью признака противоправности.
Таким образом, виновность и наказуемость есть суть надуманные конструкции, не имеющие собственного содержания, а призванные поддерживать определенный уровень научного заблуждения. Для сохранения двух несущественных и дублирующих признаков преступления в науке уголовного права должно существовать более веское обоснование.
Признавая наследие и вклад ученых в разработку понятия преступления, необходимо констатировать, что настало время дальнейшего развития, где на основе нового понятия преступления мы будем строить обновленную модель уголовно-правового воздействия.
Верификация понятия преступления позволит решить ряд теоретических проблем уголовного права. Во-первых, исправить историческую ошибку, выразившуюся в отклонении в сторону субъективизма. Понятие преступления очистилось от давления авторитета мнений и ложных идеологических установок, вернулось в точку действительного положения. Во-вторых, лучше отразить соответствие реальной действительности. Главной чертой любого правильного понятия является истинность, оно должно отражать тот объем, что существует в реальной действительности.
Мы видим существенные плюсы нормализации понятия преступления. Точное определение объема понятия позволит, во-первых, определить круг общественно опасных деяний (без исключений), куда включены деяния, совершенные субъектами, невменяемыми, несовершеннолетними (до 14 лет и от 14 до 18 лет), а также юридическими лицами. Фактически этим определением уточняются границы действия уголовного права, его объем, который должен быть не больше и не меньше, а отражать действительное соотношение предметов отраслей российского права.
Во-вторых, правильно выстроить взаимодействие с зависимым понятием – уголовной ответственностью, признав возможность всех ее форм как следствия совершенного преступления: реальное наказание, условное наказание, уголовная ответственность без наказания (в ситуациях освобождения от уголовной ответственности и наказания, амнистии или помилования), принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного воздействия, конфискация имущества, судебный штраф и др.
В-третьих, решить многие практические проблемы, возникшие как следствие запутанности уголовно-правовой теории. Правильное определение преступления позволит адекватно оценивать работу правоохранительных органов, определять объемы и качество работы, снизить процессуальные издержки и потери, правильно формировать статистические данные. Ведь временные и материальные затраты действий по уголовному делу и по материалам проверки одинаковы, а показатели работы должны включать все формы реагирования правоохранительных органов на преступление.
Фактически верификация понятия преступления – это начальный этап формирования новой концепции уголовного права, которая оформится после верификации и установления связей с ключевыми понятиями уголовного права: составом преступления, уголовной ответственностью, наказанием и т. д. Концепция будет отражать новую модель отношений государства и преступника, отражать адекватный уровень уголовно-правового воздействия, а также новые идеологические установки в противодействии преступности.
1 См.: Большой толковый словарь русского языка / авт., сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998. С. 454.
2 Сов. энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд. М., 1982. С. 624.
3 См.: Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология / Л. М. Баш [и др.]. 3-е изд., доп. М., 2002. С. 416.
4 Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт. Такая технология используется для рассмотрения наиболее эффективных вариантов достижения поставленных целей, предполагающей создание минимально работающей модели.
5 См.: Герцензон А. А. Понятие преступления в советском уголовном праве. М., 1955. С. 54; Карпушин М. П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав преступления. М., 1974. С. 89; Марцев А. И. Вопросы совершенствования норм о преступлении // Государство и право. 1995. № 11. С. 86; и др.
6 См.: Алакаев А. М. Понятие преступления (формы и виды): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 7; Смирнов А. М. О понятии преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации // Росс. следователь. 2018. № 8.
7 Спасович В. Учебник уголовного права. СПб., 1863. Т. 1. С. 83.
8 Немировский Э. Я. Основные начала уголовного права. Одесса, 1917. С. 39.
9 Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев; СПб.; Харьков, 1903. С. 103.
10 См.: Герцензон А. А. Указ. соч. С. 54.
11 Церетели Т. В. Основания уголовной ответственности и понятие преступления // Правоведение. 1980. № 2. С. 86.
12 Карпушин М. П., Курляндский В. И. Указ. соч. С. 89.
13 Бабий Н. А. Учение о структуре и составе преступления: в 2 кн. Кн. I. Понятие структуры и состава преступления. М., 2019. С. 278.
14 Епифанова Е. В. Преступление как правовая категория в науке и законодательстве России: история развития и особенности современного состояния / под науч. ред. В. В. Момотова. М., 2013. С. 330.
15 Мальцев В. В. Общественно опасное поведение в уголовном праве. М., 2014. С. 10.
16 Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М. – Л., 1948. С. 259.
17 Морозов В. И. К вопросу о понятии и признаках преступления // Актуальные проблемы учения о преступлении: тезисы докладов и сообщений Междунар. науч. конф., посвященной 90-летию со дня рождения А. И. Марцева. Омск, 2020. С. 101.
18 Марцев А. И. Указ. соч. С. 86.
19 Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. М., 1983. С. 91.
20 Уголовное уложение 1903 г. С. 1. URL: https://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ugolovnoe_ulogenie_ 1903_goda.pdf (дата обращения: 04.04.2023).
21 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. М., 1950. С. 5.
22 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. М., 1989. С. 6, 7.
23 См.: Уголовное право. Общая и Особенная часть: учеб. для средних специальных учеб. заведений / под ред. В. Б. Боровикова. М., 2010. С. 45; Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. С. А. Денисова, Л. В. Готчиной, А. В. Никуленко. М., 2018. С. 65; Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. А. Н. Тарбагаева. М., 2012. С. 55; Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А. И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 35; Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А. В. Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2021. С. 82; и др.
24 Уголовное право. Общая часть: учеб. для вузов / под общ. ред. В. В. Векленко. 2-е изд. М., 2020. С. 109, 110.
25 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учеб. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 64.
26 Уголовное право. Общая часть: учеб. для вузов / под общ. ред. В. В. Векленко. 2-е изд. С. 109.
27 Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. С. А. Денисова, Л. В. Готчиной, А. В. Никуленко. С. 66; Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. А. Н. Тарбагаева. С. 58; Уголовное право. Общая и Особенная часть: учеб. для средних специальных учеб. заведений / под ред. В. Б. Боровикова. С. 45.
28 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А. И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. С. 35.
29 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учеб. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. 3-е изд., перераб. и доп. С. 66.
30 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А. И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. С. 36.
31 См.: Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. И. В. Дворянскова. М., 2023. С. 94.
32 См.: Форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах». URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7069 (дата обращения: 20.04.2023).
33 См.: Форма № 10.2 «Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел». URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7069 (дата обращения: 20.04.2023).
34 Репецкая А. Л. Современное состояние, структура и тенденции Российской преступности // Вестник Омского ун-та. Сер. «Право». 2018. № 1. С. 153.
35 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2022 г. М., 2023. С. 6. URL: https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports/item/35396677/ (дата обращения: 12.04.2023).
About the authors
Alexander A. Turyshev
Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
Author for correspondence.
Email: lawtech15@mail.ru
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law
Russian Federation, OmskReferences
- Alakaev A. M. The concept of crime (forms and types): abstract … PhD in Law. M., 1992. P. 7 (in Russ.).
- Babiy N. A. The doctrine of the structure and composition of crime: in 2 books. Book I. The concept of structure and composition of crime. M., 2019. P. 278 (in Russ.).
- Belogrits-Kotlyarevsky L. S. Textbook of Russian Criminal Law. General and Special parts. Kiev – St. Petersburg – Kharkov, 1903. P. 103 (in Russ.).
- The Great explanatory Dictionary of the Russian language / author, comp., chief editor S. A. Kuznetsov. SPb., 1998. P. 454 (in Russ.).
- Gertsenzon A. A. The concept of crime in Soviet Criminal law. M., 1955. P. 54 (in Russ.).
- Durmanov N. D. The concept of crime. M. – L., 1948. P. 259 (in Russ.).
- Epifanova E. V. Crime as a legal category in science and legislation of Russia: the history of development and features of the modern state / ed. by V. V. Momotov. M., 2013. P. 330 (in Russ.).
- Karpushin M. P., Kurlandsky V. I. Criminal liability and the composition of a crime. M., 1974. P. 89 (in Russ.).
- Maltsev V. V. Socially dangerous behavior in Criminal Law. M., 2014. P. 10 (in Russ.).
- Martsev A. I. Issues of improving norms on crime // State and Law. 1995. No. 11. P. 86 (in Russ.).
- Morozov V. I. On the question of the concept and signs of a crime // Actual problems of the doctrine of crime: abstracts of reports and communications of the International Scientific Conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of A. I. Martsev. Omsk, 2020. P. 101 (in Russ.).
- Nemirovsky E. Ya. The basic principles of criminal law. Odessa, 1917. P. 39 (in Russ.).
- Psychological Dictionary / ed. by V. V. Davydov, A. V. Zaporozhets, B. F. Lomov et al. M., 1983. P. 91 (in Russ.).
- Repetskaya A. L. The current state, structure and trends of Russian crime // Herald of the Omsk University. Ser. “Law”. 2018. No. 1. P. 153 (in Russ.).
- Russian Criminal Law: in 2 vols. 1. General part: textbook / ed. by L. V. Inogamova-Khegay, V. S. Komissarov, A. I. Rarog. 3rd ed., reprint and add. M., 2011. Pp. 64, 66 (in Russ.).
- Smirnov A. M. On the concept of crime in the Criminal Code of the Russian Federation // Russ. the investigator. 2018. No. 8 (in Russ.).
- Soviet Encyclopedic Dictionary / chief editor A. M. Prokhorov. 2nd ed. M., 1982. P. 624 (in Russ.).
- Modern dictionary of foreign words: interpretation, word usage, word formation, etymology / L. M. Bash [et al.]. 3rd ed., add. M., 2002. P. 416 (in Russ.).
- Spasovich V. Textbook of Criminal Law. St. Petersburg, 1863. Vol. 1. P. 83 (in Russ.).
- Criminal Law. General and Special part: textbook for secondary special studies institutions / ed. by V. B. Borovikov. M., 2010. P. 45 (in Russ.).
- Criminal Law. General part: textbook / ed. by I. V. Dvoryanskov. M., 2023. P. 94 (in Russ.).
- Criminal Law. General part: textbook / ed. by S. A. Denisov, L. V. Gotchina, A. V. Nikulenko. M., 2018. Pp. 65, 66 (in Russ.).
- Criminal Law. General part: textbook / ed. by A. N. Tarbagaev. M., 2012. Pp. 55, 58 (in Russ.).
- Criminal Law. General part: textbook for universities / under the general editorship of V. V. Veklenko. 2nd ed. M., 2020. Pp. 109, 110 (in Russ.).
- Criminal Law of Russia. Parts General and Special: textbook / ed. by A. V. Brilliantov. 3rd ed., reprint and add. M., 2021. P. 82 (in Russ.).
- Criminal Law of Russia. Parts General and Special: textbook / ed. by A. I. Rarog. 7th ed., reprint and add. M., 2012. Pp. 35, 36 (in Russ.).
- Tsereteli T. V. Grounds of criminal liability and the concept of crime // Law studies. 1980. No. 2. P. 86 (in Russ.).
Supplementary files