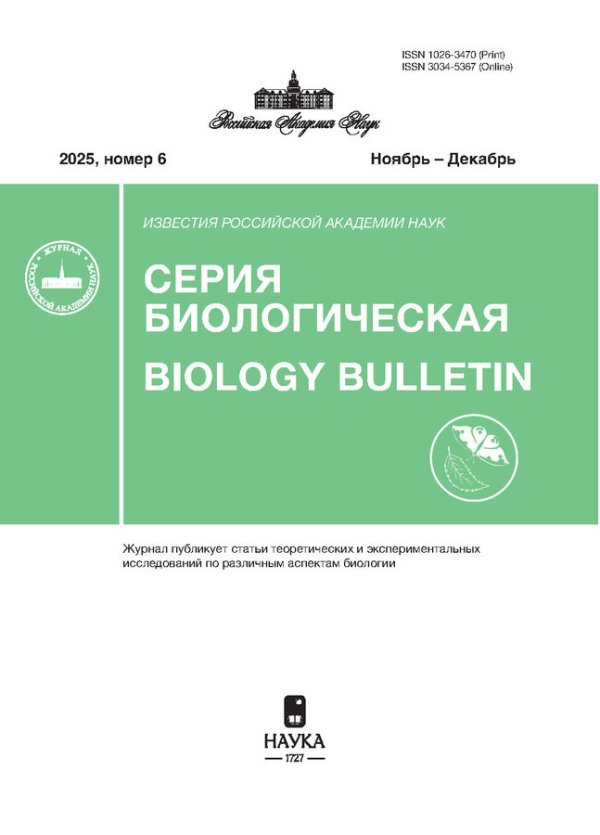Морфология кожи пяти видов скальных ящериц родa Darevskia (Lacertidae, Squamata)
- Авторы: Чернова О.Ф.1, Галоян Э.А.1, Ивлев Ю.Ф.1
-
Учреждения:
- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 460-467
- Раздел: ЗООЛОГИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-3470/article/view/267412
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026347024040049
- EDN: https://elibrary.ru/VHYVAS
- ID: 267412
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Впервые описана микроструктура бугорчатых дорсальных чешуй и брюшных щитков туловища у разновозрастных особей скальных ящериц (Darevskia raddei, D. nairensis, D. valentini, D. dahli, D. armeniaca). Толщина кожи у наиболее ксерофильного вида (D. raddei) меньше таковой у гигрофильных видов. На чешуе скальных ящериц имеются единичные или парные продольные незамкнутые сбоку кожные складки, которые тянутся по внутренней стороне чешуи до ее дистального края. Мелкие складки присутствуют и в выстилке межчешуйного кармана. Они состоят из кожи и подкожной клетчатки. Крупная складка способна полностью перегораживать полость межчешуйного кармана, объем которого может изменяться при сокращении пучков подкожной мускулатуры, достигающих оснований чешуй. На чешуях бугорчатой кожи мелкие складки также присутствуют. У мезофильных ящериц (Zootoca vivipara) сходные образования возникают на более поздних стадиях постнатального онтогенеза, чем у скальных ящериц. Обсуждается вероятное функциональное значение описанных кожных структур.
Ключевые слова
Полный текст
Скальные ящерицы относятся к семейству настоящих ящериц (Lacertidae) и обитают на территории Кавказа, Ирана и Турции в биотопах с многочисленными выходами горных пород. Этот род разделен на семь надвидовых комплексов (raddei, rudis, saxicola, caucasica, chlorogaster, defilippii и steineri) (Arribas, 1999; Ahmadzadeh et al., 2013) и включает 34 вида, среди которых семь размножаются партеногенетически (Ahmadzadeh et al., 2013). Последние возникли в результате гибридизации обоеполых видов (Даревский, 1967; Даревский и др., 2000; Николаев и др., 2021). Это небольшие ящерицы с длиной тела 50−85 мм и с примерно в два раза более длинным хвостом. Тело обычно уплощенное, голова заостренной формы и у большинства видов сплюснута в вертикальной плоскости, что позволяет ящерицам прятаться в узких щелях между камнями и в скалах (рис. 1а). У скальных ящериц сравнительно длинные конечности с пальцами, снабженными острыми когтями. Пальцы покрыты крупными незначительно перекрывающимися щитками. Эти ящерицы могут легко и быстро передвигаться по отвесным скальным поверхностям (Даревский, 1967). Фолидоз изученных ящериц типичный: неперекрывающиеся мелкие чешуи-бугорки покрывают дорсальную поверхность тела, а крупные щитки, перекрывающиеся в разной степени, присутствуют на брюшке.
Рис. 1. Взрослая особь Darevskia valentini в естественной среде обитания (a) и внешний вид кожного покрова ювенильной особи D. valentini (б), слева – дорсальная сторона, справа – вентральная сторона, красной штриховой линией обозначены места взятия проб на гистологию (сагиттальные срезы). Масштаб 2 мм.
Влажность считается одним из важных факторов, определяющих возможности существования скальных ящериц. Сезонные миграции этих рептилий связаны с изменениями режима влажности, а при недостатке влаги в летние месяцы у скальных ящериц отмечена эстивация (летняя спячка) (Даревский, 1967). Биофизические модели, описывающие воздействие микроклимата на ключевые аспекты жизнедеятельности эктотермных организмов, позволяют предполагать, что у ящериц, обитающих в умеренных климатических зонах, с повышением температуры именно проблема поддержания водного баланса может стать основным фактором, ограничивающим их жизнедеятельность и распространение (Mi et al., 2022). Соответственно, у таких видов, к которым допустимо отнести всю группу скальных ящериц, помимо летней спячки можно ожидать наличия более специализированных морфофункциональных адаптаций к продолжительному, хотя и временному, дефициту влаги. Приспособления к такому дефициту можно разделить на две категории: (1) предотвращение потерь воды из организма и (2) способность использовать любые доступные источники влаги.
Роль барьера от потерь воды из организма могут выполнять кератинизированные и липидосодержащие слои эпидермиса рептилий (Landmann, 1986; Соколов и др., 1994, 1997; Alibardi, Thompson, 1999; Alibardi, 2002, 2003).
Немногочисленность отечественных исследований по микроанатомии кожного покрова Squamata является причиной неустоявшейся русскоязычной терминология, в связи с чем, мы приводим синонимы названий основных структур на английском языке и, при наличии, их латинских наименований. Основные особенности эпидермиса и его ороговевших структур у представителей разных таксонов чешуйчатых рептилий хорошо изучены (Maderson, 1964, 1965, fig. 1, 1970, 1985; Flaxman, 1972; Landmann, 1986; Ananjeva et al., 1991; Соколов и др., 1994, 1997; Alibardi, 1996, 1997, 2002, 2003, 2009, 2022; Chang et al., 2009; Dhouailly, 2009; Ruthland et al., 2019, fig. 1; Kandagel et al., 2021; Akat et al., 2022). Для эпидермиса взрослых особей Squamata характерна вертикальная анизоморфия. В период между линьками в эпидермисе формируется не менее шести разнородных клеточных популяций – производных физиологически активных клеток герминативного слоя (germinal layer, stratum basale, stratum germinativum), располагающихся на базальной мембране. Эти клеточные популяции могут быть однослойными или многослойными, однако в литературе они традиционно именуются как “cell layers” (Maderson, 1985). Поверхностный роговой слой (stratum corneum) объединяет “надкожицу” (“Oberhäutchen”, нем.), нижележащий ß-слой (ß-layer), получивший название благодаря присутствию роговых белков класса СßPs (corneous ß-proteins), промежуточный слой (mesos layer) и лежащий под ним “ɑ-слой” (ɑ-layer) с присутствием ɑ-кератиновых белков класса IFs (intermediate filaments). Принадлежность ß- и α-типов белков к разным семействам (filament protein families) обоснована на уровне молекулярной биологии (Calvarezi et al., 2016; Alibardi, 2016). ß-слой развит только на внешней поверхности чешуи, но отсутствует на внутренней поверхности и в межчешуйных участках кожи, в то время как надкожица покрывает всю поверхность кожи Squamata (Maderson, Licht, 1967; Carver, Sawyer, 1987; Swadźba, Rupik, 2010). Надкожица и ß-слой в зрелом состоянии не отделимы друг от друга и, если отслаиваются, то вместе. Артефактическое (по видимому результату) расщепление ß- и ɑ-слоев в виде целого пласта происходит по механически слабому промежуточному слою (Irish et al., 1988). Под α-слоем обычно залегает двух- или многорядный “лакунарный слой” (lacunar layer, lacunar tissue), а еще глубже – “светлый слой” (clear or granulated layer).
Дерма (dermis, corium) выполняет поддерживающую эпидермис функцию, дифференцируется на верхнюю рыхлую (stratum spongiosum) и нижнюю плотную (stratum compactum), состоит из пучков коллагеновых волокон, ориентация и толщина которых зависят от ее расположения на теле. В нижней дерме волокна идут в продольном и вертикальном направлениях, а в верхней они проходят в различных направлениях. Слои переходят друг в друга без резких границ. В плотной дерме присутствуют многочисленные кровеносные сосуды, нервы, меланофоры, механорецепторы и остеодермы (osteoderms). Рыхлая дерма содержит хроматофоры, которые подразделяются на несколько типов в зависимости от структуры и пигмента – меланофоров, ксантофоров и иридофоров (Maderson, 1964; Alibardi, 2003; Chang et al., 2009; Rutland et al., 2019).
В подкожной клетчатке (subcutis, hypoderm, hypodermis) располагаются фибробласты, жировые клетки и макрофаги. У Squamata крупные жировые отложения в этом слое отсутствуют, за редким исключением (Rutland et al., 2019).
В этом аспекте изучены некоторые представители семейства Lacertidae: Lacerta muralis (наст. Podarcis muralis Laurenti 1768) (Breyer, 1929), Lacerta sicula (наст. Podarcis siculus Rafinesque 1810) и Eremias guttulata (наст. Mesalina guttulata Lichtenstein 1823) (Landmann, 1975). У всех Squamata микроанатомическое строение эпидермиса в целом сходно, но отдельные его слои могут отличаться по толщине у разных таксонов, что не всегда можно связать с экологическими особенностями видов. Структурные компоненты дермы, такие как мышечные волокна, сосуды и нервы, а также структуры подкожной клетчатки изучены слабее, и различия между видами не вполне оценены.
Считается, что барьер от потерь влаги через кожные покровы рептилий обеспечивают упомянутые выше промежуточный слой и ɑ-слой, в которых отмечается повышенное содержание липидов, находящихся либо во внутриклеточных гранулах, либо образующих свободные липидные пласты, как в промежуточном слое (Maderson, 1985, Landmann, 1986, Alibardi, Toni, 2006). Степень кератинизации эпидермиса влияет на его водонепроницаемость существенно меньше, чем липиды (Roberts, Lillywhite, 1980). Тем не менее, нельзя исключить вероятность того, что сильно ороговевшие слои эпидермиса (надкожица и ß-слой), механически защищая его более глубокие слои, также могут создавать определенное препятствие для транспирации влаги через покровы (Ruthland et al., 2019).
Известно, что структура чешуйчатой кожи некоторых ящериц из засушливых местообитаний может способствовать пассивному захвату и сохранению воды в случае кратковременного доступа к ее источникам (Sherbrooke et al., 2007; Comans et al., 2015, 2016). Считается, что в “захвате” воды определенную роль играет так называемый “шарнирный эпидермис” (“scale hinges”, “петлистый эпидермис”, “эпидермальные петли”), который присутствует в области межчешуйного кармана (hinge region). По всей видимости, шарнирный эпидермис широко распространен у Squamata и детально описан у целого ряда видов этого отряда рептилий (Гражданкин, 1974; Mittal, Singh, 1987; Mohammed, 1987; Kandagel et al., 2021). В тонком сильно складчатом шарнирном эпидермисе часто отсутствует ß-слой, однако светлый и промежуточный слои хорошо различимы. Надкожица истонченная и часто отслаивается.
К особенностям шарнирного эпидермиса, позволяющим использовать его для захвата и транспорта влаги, относят своеобразные полузамкнутые складки – извитые щелевые структуры, так называемые “островки” (“island structures” по: Sherbrooke et al., 2007), которые участвуют в быстром распространении воды вдоль поверхности кожи посредством капиллярных сил (Sherbrooke et al., 2007; Yenmiş et al., 2016). Наличие выраженных складок такого типа у видов, регулярно сталкивающихся с недостатком влаги, может свидетельствовать о существовании капиллярного транспорта воды поверхности кожи у этих рептилий.
В настоящее время детали морфологической организации эпидермиса скальных ящериц и в целом кожного покрова этих рептилий не известны. Соответственно, не ясно, как и в какой степени кожный покров скальных ящериц способен выполнять роль барьера от потерь воды организмом. Имеющиеся в научной литературе описания структуры чешуйчатого покрова у представителей данной группы предприняты, в первую очередь, для уточнения систематики и филогенетических отношений рода Darevskia (Даревский, 1967; Gabelaia et al., 2017; Galoyan et al., 2020) и не позволяют обоснованно судить об адаптивных особенностях кожи этих ящериц.
В настоящей работе приводится морфологическое описание кожного покрова скальных ящериц, изученное с использованием стандартных гистологических методов с главной целью – проверить, обладает ли их чешуйчатый покров особенностями, которые можно рассматривать как приспособления (в первую очередь, морфологические) к сохранению влаги в организме или к ее захвату из окружающей среды. Свидетельствами наличия таких приспособлений у более ксерофильных видов могут считаться: (1) увеличение толщины кожи (как абсолютной, так и относительно размеров тела); (2) суммарное увеличение толщины эпидермиса с надкожицей относительно общей толщины кожи; (3) вероятное повышенное содержание липидов в эпидермальных слоях; (4) наличие структурных особенностей в организации чешуйчатого покрова (шарнирного эпидермиса), аналогичных тем, что используются другими представителями Squamata для захвата и транспорта воды на поверхности тела.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были исследованы образцы кожного покрова пяти видов скальных ящериц: армянской ящерицы D. armeniaca Mahely 1909, ящерицы Даля D. dahli Darevsky 1957, нарийской ящерицы D. nairensis Darevsky 1967, азербайджанской ящерица или ящерицы Радде D. raddei Boettger 1892 и ящерицы Валентина D. valentini Boettger 1892. Эти виды встречаются в биотопах с разным режимом влажности. Наиболее ксерофильным из указанных видов считается D. raddei (в период активности животных в природе ежемесячно выпадает в среднем 22 мм осадков, см. Дополнительные материалы на сайте ИПЭЭ РАН: https://sev-in.ru/sites/default/files/2023-08/Supplementary_to_Skin_ morphology_of_rock_lizards.pdf). Кроме того, для сравнения был исследован филогенетически близкий скальным ящерицам вид, но обитающий в биотопах, в которых проблема доступа к воде менее актуальна – живородящая ящерица (Zootoca [= Lacerta] vivipara Lichtenstein 1823). Среднемесячное количество осадков в период активности живородящих ящериц, в тех регионах, где были отловлены исследованные особи, составляет примерно 70 мм.
Для гистологического исследования были взяты образцы кожи с дорсальной и вентральной поверхностей туловища у трех ювенильных особей D. valentini (рис. 1б), взрослых особей D. armeniaca, D. dahli, D. nairensis, D. raddei, содержащихся в террариуме Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Аналогичные участки кожи изучили у ювенильной особи Z. vivipara, отловленной 07.08.2022 г. в Одинцовском р-не Московской области, и у двух взрослых особей этого же вида, полученных из спиртовой коллекции Научно-исследовательского зоологического музея Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (табл. 1). Все изученные особи были без признаков линьки, их эпидермис находился на стадии покоя.
Таблица 1. Перечень изученного материала
№ | Вид, пол, возраст | Масса, г | Длина, мм | Коллекционный номер, хранилище | |
тела (SVL) | хвоста | ||||
1 | Darevskia armeniaca, партеносамка, ad., 6 мес. | 1.28 | 34 | 64 | 1050, ИПЭЭ РАН |
2 | D. dahli, партеносамка, ad., 8.5 мес. | 1.10 | 36 | 67 | 1045, ИПЭЭ РАН |
3 | D. nairensis, пол не определен, ad., 9 мес. | ≈1.2 | 56 | 99 | 1213+4, ИПЭЭ РАН |
4 | D. raddei, пол не определен, ad., 9 мес. | 3.86 | 57 | 89 | 1253+401, ИПЭЭ РАН |
5 | D. valentini, пол не определен, juv., 4–5 дн. | ≈0.4 | 24 | 43 | ИПЭЭ РАН |
6 | D. valentini, пол не определен, juv., 4–5 дн. | ≈0.4 | 24 | 43 | ИПЭЭ РАН |
7 | D. valentini, пол не определен, juv., 4–5 дн. | ≈0.4 | 24 | 43 | ИПЭЭ РАН |
8 | Zootoca (Lacerta) vivipara, пол не определен, yuv., ≈ 3 нед. | 0.52 | 29 | 38 | Звенигородская биостанция МГУ |
9 | Z. vivipara, самец, ad. | – | 46 | 64 | ID 1066, Зоомузей МГУ |
10 | Z. vivipara, самка, ad. | – | 61 | 58 | ID 12103, Зоомузей МГУ |
Отбор проб кожи у живых ящериц выполнен в соответствии с правилами проведения научных исследований с использованием экспериментальных животных, одобренными комиссией по биоэтике ИПЭЭ РАН.
Образцы кожи фиксировали в 4% стабилизированном формальдегиде в фосфатном буфере, заливали в парафин, получали срезы толщиной 10–15 мкм, окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином (Соколов и др., 1988) с использованием полуавтоматического специализированного гистологического оборудования TPC-15, заливочной станции TES-99, микротома Meditome M530 (Medite, Германия). Замороженные срезы толщиной 5–7 мкм изготовляли на криостате Leica CM 1900, окрашивали Суданом III и гематоксилином Эрлиха. Препараты фотографировали и изучали при помощи цифрового флуоресцентного микроскопа Keyenсe Biorevo BZ-9000 (Keyence Corporation, США). Кадрирование, яркость и контраст микрофотографий редактировали в программе “Adobe Photoshop Element 11” (США).
Полученные изображения микроструктуры кожи анализировали в программах “ATLAS” (Tescan, Чехия) и “ImageJ” (Abramoff et al., 2004). Описательная статистика морфометрических данных сформирована с помощью программы “STATISTICA 10” (StatSoft, США). Измеряли абсолютную толщину слоев кожи и ее структур, а также вычисляли относительную толщину слоев кожи при нормировании по длине тела.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий план строения кожи скальных ящериц
Покровы спины и брюшка имеют обычное для ящериц строение без заметных признаков линьки, их эпидермис находится на стадии покоя (рис. 2, 3, 4, 5). Надкожица и ß-слой хорошо различимы и во многих местах отслаиваются вместе как во время препарирования, так и при изготовлении гистологических препаратов (рис. 2, 3, 4, 5, 2). Они вместе легко отходят с брюшного щитка в виде цельного прозрачного пласта, имеющего форму параллелепипеда. Эпидермис и сплошной слой меланофоров в верхней части дермы хорошо дифференцируются (рис. 2, 3, 4, 5, 3, 4). В световом просвечивающем микроскопе в эпидермисе всех исследованных видов различимы слабо эозинофильные надкожица и трехрядный ß-слой, присутствующие на всех изученных участках кожи. В зрелом состоянии ß-слой гомогенный и хромофобный (практически не поддается окраске красителями).
Рис. 2. Микроструктура бугорчатых дорсальных чешуй у взрослых особей Darevskia armeniaca (а), D. nairensis (б) и D. dahli (в) на сагиттальных срезах: 1 – чешуйка, 2 – Oberhäutchen – надкожица и ß-слой, 3 – эпидермис, 4 – слой меланофоров, 5– дерма, 6 – лакуна подкожной клетчатки, 7 – кровеносный сосуд с эритроцитами, 8 – подкожная клетчатка, 9 – поперечнополосатая мускулатура, 10 – полость межчешуйного кармана. Стрелками обозначены остеодермы. Здесь и на рисунках 3–6 срез кожи на стадии покоя эпидермиса. Окраска гематоклисин-эозином. Микрофото. Масштаб 20 мкм.
Рис. 3. Микроструктура брюшных щитков взрослой особи Darevskia dahli на сагиттальных срезах. Продольная кожная складка на вентральной поверхности чешуи, образующая незамкнутую трубку (а). Общий вид (б, г). Лакуны подкожной клетчатки, залегающие под дермальным слоем (в). Обозначения как на рис. 2, 11 – открытая полость трубчатой складки. Окраска гематокcилин-эозином. Микрофото. Масштаб 20 мкм.
Рис. 4. Микроструктура бугорчатых дорсальных чешуй (в) и брюшных щитков (a, б, г) взрослых особей Darevskia nairensis (а, б) и D. raddei (в, г) на сагиттальных срезах. Обозначения как на рис. 2, 3, 12 – слой ксантофоров, 13 – пигментированная выстилка брюшной полости. Окраска гематоксилин-эозином + суданом Ш (липидные пласты не выявлены) (в, г). Микрофото. Масштаб 20 мкм.
Рис. 5. Микроструктура бугорчатых дорсальных чешуй (а) и брюшных щитков (б, в, г) ювенильных особей Darevskia valentini на сагиттальных срезах: а, б – № 7, в – № 6, г – № 5. Обозначения как на рис. 2, 3, 4, 13 – жировая клетка с ядром (указана стрелкой). Окраска гематоксилин-эозином. Микрофото. Масштаб 20 мкм.
На стадии покоя эпидермиса в межчешуйных карманах надкожица очень тонкая, хорошо различимы ɑ-кератиновый слой, который имеет слоистую структуру и эозинофилен, слои презумптивных лакунарных клеток над герминативным слоем, а также заметно, что между надкожицей и ɑ-слоем идет разрыв по механически непрочному и тонкому промежуточному слою.
Для более детального цитологического изучения кожи этих мелких тонкокожих ящериц необходимо применение электронной микроскопии, что мы планируем предпринять в будущем.
Дерма относительно тонкая (не превышает 4.5 мкм у самых мелких из исследованных скальных ящериц, ювенильных особей D. valentini, и 49.0 мкм у взрослой особи D. nairensis) (табл. 2, 3), разделяется на рыхлую и плотную, содержит тонкие слабо извитые пучки коллагеновых волокон, вытянутых параллельно поверхности кожи (рис. 2, 3, 4, 5, 5).
Таблица 2. Морфометрические показатели основных структур кожи изученных ящериц рода Darevskia
Вид | D. armeniaca, № 1 | D. dahli, № 2 | D. nairensis, № 3 | D. raddei, № 4 | D. valentini, №№ 5, 6, 7 | |||||
Параметр, M ± m*, n** = 5, мкм | Пробы | |||||||||
Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | |
Толщина | ||||||||||
Кожа | 72.3 ± 3.1 | 33.4 ± 0.6 | 43.4 ± 3.4 | 14.3 ± 1.1 | 59.1 ± 6.9 | 23.3 ± 5.2 | 24.2 ± 1.3 | 21.2 ± 2.7 | 16.0 ± 2.7 | 27.1 ± 3.1 |
Надкожица с ß-слоем | 3.8 ± 0.8 | 5.1 ± 0.2 | 3.1 ± 1.1 | 2.4 ± 0.2 | 2.8 ± 0.4 | 4.4 ± 1.2 | 2.6 ± 0.1 | 4.5 ± 0.9 | 2.5 ± 0.7 | 1.6 ± 0.2 |
эпидермиса (без надкожицы и ß-слоя) | 16.8 ± 1.7 | 11.3 ± 0.6 | 11.1 ± 1.5 | 6.5 ± 0.4 | 9.8 ± 0.6 | 8.5 ± 1.0 | 12.7 ± 1.1 | 7.0 ± 1.0 | 5.2 ± 1.0 | 1.8 ± 0.3 |
Дерма | 18.3 ± 2.0 | 22.3 ± 0.7 | 8.2 ± 1.1 | 10.2 ± 2.6 | 35.2 ± 5.5 | 8.5 ± 0.8 | 12.1 ± 0.6 | 8.1 ± 0.3 | 6.0 ± 1.6 | 3.0 ± 0.8 |
Подкожная клетчатка | 30.4 ± 5.2 | 23.4 ± 0.5 | 27.5 ± 4.8 | 8.7 ± 3.3 | 61.3 ± 18.4 | 11.3 ± 2.3 | 18.0 ± 0.3 | 11.2 ± 2.0 | 35.1 ± 5.2 | 15.5 ± 1.2 |
Слой меланофоров | 10.0 ± 2.0 | 5.5 ± 0.1 | 10.0 ± 1.3 | 4.1 ± 0.3 | 7.8 ± 0.6 | 6.1 ± 0.8 | 5.2 ± 1.2 | 6.2 ± 0.7 | 4.8 ± 0.9 | 1.3 ± 0.5 |
диаметр капилляров | 3.7 ± 0.5 | 4.2 ± 0.1 | 9.2 ± 0.4 | 4.8 ± 0.8 | 7.1 ± 2.3 | 3.0 ± 0.3 | 7.7 ± 0.4 | 2.6 ± 0.1 | 2.5 ± 0.5 | 2.0 ± 0.2 |
Площадь*** | ||||||||||
Лакун в подкожной клетчатке, lim, мкм2 | 389.5–512.7 | 23.0–90.5 | 30.0–90.5 | 42.8–282.7 | 795.0–2231.7 | 251.6–656.9 | 33.5–47.0 | 109.5–139.6 | 148.7–581.2 | 35.9–192.1 |
Полости в кожной складке шарнирного эпидермиса, мкм2 | – | 54.5 ± 0.3 | – | 43.5 ± 0.2 | – | 45.3 ± 0.5 | – | 239.5± 0.3 | 60.5 ± 57.0 | 125.8 ± 65.1 |
Полости межчешуйного кармана, мкм2 | 276.5 ± 14.7 | 1978.5 ± 105.8 | 307.1 ± 125.2 | 2192.1 ± 103.5 | 392 ± 85.2 | 1429.6 ± 748.2 | 309.1 ± 100.0 | 1782.5± 1306.3 | 278.5 ± 57.0 | 657.1 ± 242.2 |
Примечание. * Средняя арифметическая с ошибкой средней арифметической, ** число промеров для каждой особи, *** на сагиттальных срезах кожи, знак – обозначает отсутствие полости.
Таблица 3. Морфометрические показатели основных структур кожи ящериц рода Darevskia, приведенные к размеру тела
Вид | D. armeniaca, № 1 | D. dahli, № 2 | D. nairensis, № 3 | D. raddei, № 4 | D. valentini, №№ 5, 6, 7 | |||||
Параметр, M ± m*, n** = 5, мкм/мм | Пробы | |||||||||
Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | Спина | Брюхо | |
Толщина | ||||||||||
Кожа | 2.13 ± 0.091 | 0.98 ± 0.018 | 1.21 ± 0.094 | 0.40 ± 0.031 | 1.06 ± 0.123 | 0.42 ± 0.093 | 0.42 ± 0.023 | 0.37 ± 0.047 | 0.67 ± 0.113 | 1.13 ± 0.129 |
Надкожицы и ß-слоя | 0.11 ± 0.024 | 0.15 ± 0.006 | 0.09 ± 0.031 | 0.07 ± 0.006 | 0.05 ± 0.007 | 0.08 ± 0.021 | 0.05 ± 0.002 | 0.08 ± 0.016 | 0.10 ± 0.029 | 0.07 ± 0.008 |
эпидермиса (без надкожицы и ß-слоя) | 0.49 ± 0.050 | 0.33 ± 0.018 | 0.31 ± 0.042 | 0.18 ± 0.011 | 0.18 ± 0.011 | 0.15 ± 0.018 | 0.22 ± 0.019 | 0.12 ± 0.018 | 0.22 ± 0.042 | 0.08 ± 0.013 |
Дерма | 0.54 ± 0.059 | 0.66 ± 0.021 | 0.23 ± 0.031 | 0.28 ± 0.072 | 0.63 ± 0.098 | 0.15 ± 0.014 | 0.21 ± 0.011 | 0.14 ± 0.005 | 0.25 ± 0.067 | 0.13 ± 0.033 |
Подкожная клетчатка | 0.89 ± 0.15 | 0.69 ± 0.015 | 0.76 ± 0.133 | 0.24 ± 0.092 | 1.09 ± 0.329 | 0.20 ± 0.041 | 0.32 ± 0.005 | 0.20 ± 0.035 | 1.46 ± 0.217 | 0.65 ± 0.050 |
Слой меланофоров | 0.89 ± 0.153 | 0.16 ± 0.003 | 0.28 ± 0.036 | 0.11 ± 0.008 | 0.14 ± 0.011 | 0.11 ± 0.014 | 0.09 ± 0.021 | 0.11 ± 0.012 | 0.20 ± 0.038 | 0.05 ± 0.021 |
Диаметр капилляров | 0.11 ± 0.015 | 0.12 ± 0.003 | 0.26 ± 0.011 | 0.13 ± 0.022 | 0.13 ± 0.041 | 0.05 ± 0.005 | 0.14 ± 0.007 | 0.05 ± 0.002 | 0.10 ± 0.021 | 0.08 ± 0.008 |
Площадь*** | ||||||||||
Лакун в подкожной клетчатке, lim, мкм2/мм2 | 0.337–0.444 | 0.0199–0.0783 | 0.0231–0.0698 | 0.0330–0.218 | 0.253–0.712 | 0.0802–0.2095 | 0.0103–0.0145 | 0.0337–0.0430 | 0.258–1.009 | 0.062–0.333 |
Полости в кожной складке шарнирного эпидермиса, мкм2/мм2 | – | 0.0471 ± 0.0003 | – | 0.0336 ± 0.0002 | – | 0.0144 ± 0.0002 | – | 0.0737± 0.0001 | 0.105 ± 0.099 | 0.218 ± 0.113 |
Полости межчешуйного кармана, мкм2/мм2 | 0.239 ± 0.013 | 1.712± 0.092 | 0.237 ± 0.097 | 1.691 ± 0.080 | 0.125 ± 0.027 | 0.456 ± 0.239 | 0.0951 ± 0.0307 | 0.549± 0.402 | 0.483 ± 0.099 | 1.141 ± 0.420 |
Примечание. Линейные размеры кожных структур отнесены к длине тела (SVL, см. табл. 1); площади – к квадрату длины тела.
Подкожная клетчатка достаточно плотная или имеет многочисленные расширенные лакуны (рис. 2, 3, 4, 5, 6, 8). Среди этих лакун располагаются узкие или расширенные кровеносные сосуды, в которых видны овальные эритроциты с крупным округлым ядром (рис. 2, 4, 5, 7). В коже спины встречаются лишь отдельные группы лакун, в центре которых также проходят кровеносные капилляры небольшого диаметра. У взрослых скальных ящериц (D. armeniaca, D. dahli, D. nairensis, D. raddei) структурно оформленных жировых клеток с ядрами мы не обнаружили, а лакуны имеют вид разбухших овальных или полиморфных полостей. У одной из ювенильных особей D. valentini в коже спины, помимо лакун, встречаются крупные разбухшие цилиндрические жировые клетки с различимыми ядрами (рис. 5а, 13).
Рис. 6. Микроструктура бугорчатых дорсальных чешуй (а, б) и брюшных щитков (в, г) туловища у взрослой самки Zootoca vivipara на сагиттальных срезах. Обозначения как на рис. 2–5, 14 – кожная складка. Стрелкой указана остеодерма. Окраска гематоклисин-эозином. Микрофото. Масштаб 20 мкм.
Рис. 7. Схема строения щитков вентральной чешуи взрослых (а) и ювенильных (б) ящериц рода Darevskia: 1 – надкожица (Oberhäutchen), 2 – нижележащие слои эпидермиса и дерма, 3 – подкожная клетчатка с пучками мышечных волокон, 4 – подкожная мускулатура, 5 – полость межчешуйного кармана, 6 – соединительно-тканный клапан, способный запирать полость межчешуйного кармана, 7 – кожные складки донной части межчешуйного кармана, 8 – кожный дивертикул каудального края щитка.
Рис. 8. Абсолютная толщина кожи и различных ее слоев (мкм) на дорсальной (1) и вентральной (2) частях тела исследованных ящериц. Толщина кожи без надкожицы с ß-слоем (а) (здесь приведены данные по толщине кожи у обоих экземпляров Zootoca vivipara), толщина надкожицы с ß-слоем (б), и эпидермиса (в).
Общие липиды в виде свободных пластов в покровах скальных ящериц не выявлены при окраске Суданом III.
Сплошной толстый слой меланофоров имеется в верхних отделах дермы кожи спины (рис. 5а), а в коже брюшка присутствуют более светлые желтоватые ксантофоры, а меланофоры отсутствуют (рис. 5б, 5в) или редкие и не образуют сплошного слоя (рис. 5г).
У всех изученных особей снизу дерма подстилается мощным слоем поперечнополосатой мускулатуры (рис. 2, 3, 4, 5, 9), которая может глубоко заходить внутрь вентральных чешуй (рис. 3, 5г). У D. nairensis и D. raddei в коже спины присутствуют единичные остеодермы (рис. 2б, 2г, стрелки).
В табл. 2 приведены абсолютные значения промеров кожных структур на сагиттальных срезах спинных и брюшных чешуй. В табл. 3 указаны те же промеры, но нормированные по длине тела (табл. 3, SVL) ящериц.
Строение кожи Zootoca vivipara
У ювенильной особи Z. vivipara дорсальная кожа спины незначительно толще пластинчатой вентральной кожи, соответственно 22.4 ± 2.8 и 21.1 ± 1.2 мкм, что при нормировании по длине тела (табл. 2) равно 0.77 и 0.73 мкм/мм. Кожа спины имеет высокие чешуйки-бугорки; на брюхе чешуйки более уплощенные. Надкожица с ß-слоем хорошо различима, толщиной 2.3–2.6 мкм (≈ 0.08 мкм/мм). Остальные структуры эпидермиса (промежуточный слой, ɑ-слой, несколько рядов презумптивных лакунарных клеток и герминативный слой), дерма и слой меланофоров толще на спине, чем на брюхе; толщина эпидермиса на спине – 15.7 ± 1.8 (≈ 0.54 мкм/мм) против 11.5 ± 0.2 мкм (≈ 0.40 мкм/мм) на брюхе. Подкожная клетчатка развита сходно в обоих сравниваемых участках кожи.
У взрослых особей Z. vivipara микроструктура чешуек спины и брюшка вполне сходна с таковой у скальных ящериц (рис. 6). Толщина кожи спины составляет 74.5 ± 13.2 мкм (≈ 1.2‒1.6 мкм/мм), толщина кожи на брюшке – 34.5 ± 12.8 мкм (≈ 0.6−0.8 мкм/мм при нормировании по длине тела). Надкожица вместе с ß-слоем примерно вдвое толще (до 5.5 мкм), чем у ювенильных особей, но при нормировании по длине тела отличается не сильно (≈ 0.09‒0.12 мкм/мм против 0.08 мкм/мм у ювенильной особи (см. выше). Эпидермис также толще на спине (13.6 ± 12.8 мкм или 0.2‒0.3 мкм/мм), чем на брюшке (5.7 ± 1.3 мкм или 0.09‒0.12 мкм/мм); т.е. толщина эпидермиса взрослых относительно размеров их тела оказалась примерно в два раза меньше, чем у ювенильной особи. В коже спины крупные пигментные кластеры разрежены, образуют рыхлый слой толщиной 13.9 ± 3.6 мкм (≈ 0.2‒0.3 мкм/мм), который гораздо толще, чем на брюшке (5.5 ± 0.2 мкм; ≈ 0.1 мкм/мм). Дермальный слой плотный, толще на спине (50.2 ± 13.2 мкм или примерно 0.8‒1.1 мкм/мм при нормировании по длине тела), чем на брюшке (13.3 ± 0.4 мкм или примерно 0.2‒0.3 мкм/мм). Присутствуют редкие остеодермы (рис. 6а, стрелка). Подкожная клетчатка на пробах не сохранилась, хотя ниже дермального слоя встречаются редкие и мелкие кластеры жировых клеток и отдельные расширенные лакуны.
Особенности строения кожи межчешуйного кармана
Кожа межчешуйного кармана отличается от кожи наружной поверхности чешуи. У изученных нами скальных ящериц (особенно у ювенильных особей D. valentini) и у взрослых особей Z. vivipara в межчешуйных карманах дорсальной кожи присутствуют единичные складки и дивертикулы кожной выстилки внутренней поверхности чешуи и образуемые ими полости (рис. 2, 5а, 5б), а также небольшая или крупная полость самого чешуйного кармана (рис. 2, 5, 10).
В вентральной коже эти дивертикулы выглядят по-иному. Схема строения вентральных щитков скальных ящериц представлена на рис. 7. У всех взрослых особей по внутренней поверхности чешуйной пластины вблизи ее наружного края тянется продольная кожная складка (из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки), образующая незамкнутый сбоку канал (рис. 3, 4, 11, рис. 7, 8).
Крупная полость чешуйного кармана имеет хорошо выраженные рельефные кожные складки. У ювенильных особей D. valentini складчатость кожи межчешуйного кармана и внутренней поверхности чешуи также присутствует (рис. 5б‒г, 8б), а образуемые ими полости, как и полость самого межчешуйного кармана имеют значительный объем, судя по его площади на сагиттальном срезе (табл. 2, 3). Причем, по середине внутренней поверхности чешуи проходит толстая и широкая продольная кожная складка, образованная в основном сильно васкуляризованной соединительной тканью (рис. 5б‒г, 8, рис. 7б, 6).
У ювенильной особи Z. vivipara межчешуйные карманы, кожные дивертикулы и складки в них не развиты, т.е. складчатость и дивертикулы кожи еще не сформированы у трехнедельной особи Z. vivipara по сравнению даже с четырех–пятидневными особями D. valentini.
Таким образом, у пяти изученных видов рода Darevskia и Z. vivipara в межчешуйных карманах развивается кожная складчатость, особенно сильно выраженная в пластинчатой коже брюха. На вентральной стороне тела взрослых особей представителей рода Darevskia трубчатая кожная складка-дивертикул тянется по внутренней стороне чешуи вблизи от ее проксимального края и образована всеми слоями кожи и подкожной клетчаткой (рис. 7а). К ее дистальному участку примыкают лакуны соединительной ткани (в которых не обнаружены жировые клетки и стандартными гистологическими методами не идентифицированы липидные вещества). Складка-дивертикул ограничивает глубокие отделы чешуйного кармана, которые сами превращаются в трубчатое образование, тянущееся по внутренней поверхности чешуи. Резервуар такой трубки небольшой по сравнению с широкой полостью всего межчешуйного кармана.
Все слои кожи в межчешуйном кармане нормально сформированы, за исключением ß-слоя, который не развит. Его стенки – гладкие или имеют незначительно выраженные кожные утолщения, иногда формирующие мелкие дивертикулы, однако, структур, сколько-нибудь напоминающих извитые щелевые образования, характерные для межчешуйных карманов ящериц, способных захватывать и транспортировать воду на поверхности тела (Sherbrooke et al., 2007), мы не обнаружили.
У взрослых особей Darevskia имеется мощная поперечнополосатая подкожная мускулатура, подстилающая чешую (рис. 3б, г, 4б, г, 9), причем на вентральной стороне туловища пучки этой мускулатуры заходят в тело чешуи (рис. 3б, г, рис. 7а, 4).
У ювенильных особей (D. valentini) складчатость кожи, выстилающей стенки чешуйного кармана, также хорошо выражена. У них в пластинчатой коже брюха внутренняя поверхность чешуи, помимо дивертикулов имеет широкую и толстую соединительнотканную складку (трапециевидную на сагиттальном срезе, рис. 5б‒г, 5, 8, рис. 7б, 6), к которой подходит хорошо развитая (как и у взрослых особей) подкожная поперечнополосатая мускулатура, заходящая внутрь чешуй (рис. 5в, г, 9, рис. 7б, 4).
У ювенильных особей Z. vivipara складчатость внутри межчешуйного кармана не выражена.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Описанные нами особенности строения кожи скальных ящериц не позволяют однозначно судить о выраженных и устойчивых адаптациях кожного чешуйчатого покрова этих рептилий к дефициту влаги.
Кожные липиды
Сколько-нибудь заметного содержания липидов в коже у скальных ящериц, наличие которых могло бы снижать проницаемость кожи для воды, с помощью наших методов обнаружить не удалось. Только у четырехдневных особей D. valentini идентифицированы единичные жировые клетки, имеющие ядро; по-видимому, “живые” (метаболически активные) жировые клетки дегенерируют по мере взросления особи, перерождаясь в лакуны. У живородящих ящериц лакуны развиты существенно хуже, чем у скальных, но функциональная роль данных лакун у скальных ящериц нам пока не ясна.
Толщина кожи и эпидермиса
Данные о толщине кожи и отдельных ее слоев у представителей р. Darevskia, приведенные в табл. 2 и 3, вместе с данными по кожному покрову Z. vivipara не подтверждают наше предположение об утолщении кожи и эпидермиса у более ксерофильных видов. Это предположение было сделано на том основании, что транспорт влаги через кожные слои должен физически зависеть от их толщины (Landmann, 1986; Lillywhite, 2004, 2006). На рис. 8 представлены абсолютные значения толщины кожи, надкожицы и эпидермиса у изученных ящериц (рис. 8а, б, в). Эти параметры у самого ксерофильного вида, D. raddei, в целом не больше, чем у остальных ящериц несмотря на то, что особь D. raddei была наиболее крупной из исследованных (табл. 1). Небольшая выборка животных, имевшаяся в нашем распоряжении, не позволяет дать строгую статистическую оценку связи между влажностью местообитаний и толщиной покровов исследованных видов. Тем не менее, представленные на рис. 8 графики противоречат исходным предположениям и показывают тенденцию к увеличению толщины кожи и ее слоев скорее у более гигрофильных, нежели ксерофильных видов. Нормирование толщины кожи и ее компонентов по длине тела (которое в определенной степени нивелирует влияние общих размеров тела животных на размеры структур их кожи) подчеркивает эту тенденцию, особенно в отношении толщины кожных слоев на спине (рис. 9а, б, в). Значения толщины эпидермиса и надкожицы на спине и брюхе, отнесенные к толщине всей кожи на этих участках тела (рис. 10), также не позволяют сделать однозначный вывод о связи между развитием слоев эпидермиса и влажностью местообитания исследованных скальных ящериц. Показательно, что у представителей Z. vivipara – вида, не испытывающего проблем с доступностью воды в период активности (https://sev-in.ru/...) – кожа, эпидермис и надкожица оказались примерно такой же толщины, что и у наиболее ксерофильного вида скальных ящериц в нашей выборке, D. raddei (рис. 8, 9, 10). Как отмечено выше, отсутствие выраженной связи между толщиной кожных покровов и влажностью местообитаний может быть следствием недостаточно большой выборки. Учитывая полученный нами существенный разброс морфометрических данных, характеризующих строение кожи, необходимая выборка должна быть более многочисленной и отражать вариативность в размерах (возрасте), половой принадлежности и конкретных особенностях микроклимата стаций, где живут ящерицы. Тем не менее, даже такой многочисленный материал не гарантирует установление формальной статистически достоверной связи между толщиной покровов животных и микроклиматическими показателями мест их обитания. Хотя общие потери воды испарением у ксерофильных представителей Squamata, как правило, снижены по сравнению с мезо- и гигрофильными представителями этого отряда (Cox, Cox, 2015; Araya-Donoso et al., 2022), потери испарением с поверхности кожи и с поверхности дыхательных путей могут дополнять и/или компенсировать друг друга.
Рис. 9. Приведенные к длине тела (SVL) значения толщины кожи и различных ее слоев (мкм/мм) на дорсальной (1) и вентральной (2) сторонах туловища исследованных ящериц. Общая толщина кожи (а), толщина надкожицы с ß-слоем (б), и эпидермиса (в).
Рис. 10. Толщина надкожицы с ß-слоем (Ob+ß: верхняя часть диаграммы) и эпидермиса (ep: нижняя часть диаграммы) относительно толщины всей кожи на дорсальной (1) и вентральной (2) частях тела исследованных ящериц.
Кроме того, толщина кожи – не единственный параметр, определяющий темп транспирации воды через кожные покровы рептилий. Существенное влияние на это процесс могут оказывать особенности организации на клеточном уровне покровов в целом и эпидермиса, в частности (Landmann, 1986; Lillywhite, 2004, 2006). В результате реакция кожного покрова на риск дегидратации животных может быть весьма оперативной и при этом обратимой, как показывает пример каролинских анолисов (Anolis carolinensis Voigt 1832), у которых существенное снижение потерь влаги через кожу происходило в течение 8–10 дней и восстанавливалось после очередной линьки, если факторы, вызывающие дегидратацию организма, были устранены (Kattan, Lillywhite, 1989). Таким образом, устойчивое увеличение физической толщины кожных покровов в качестве генетически закрепленного приспособления к снижению потерь воды можно ожидать только у видов, сформировавшихся и обитающих в условиях, в которых угроза дегидратации является одним из ключевых лимитирующих факторов, и в ее преодолении задействованы все доступные для этого морфологические, физиологические и поведенческие механизмы. Хотя влажность является фактором, влияющим на режим активности и распространение представителей рода Darevskia (Даревский, 1967), доступные приспособительные механизмы к недостатку влаги у этих видов могут быть использованы не на пределе своих возможностей, и конечный адаптивный эффект может быть достигнут на основе разной их комбинации. В этих обстоятельствах рассмотрение лишь одного из возможных способов приспособления к дефициту влаги может привести к неопределенному или даже неожиданному результату, каким, например, в нашем случае оказался относительно тонкий кожный покров у наиболее ксерофильного вида D. raddei. В данной связи уместно указать на парадоксальный с первого взгляда факт, касающийся водного обмена у живородящей ящерицы – вида-генералиста, использованного в нашей работе в качестве объекта для сравнения. Зависимость интенсивности потерь воды испарением от влажности местообитания у живородящих ящериц в целом повторяет результаты, полученные при межвидовом сравнении (Cox, Cox, 2015; Araya-Donoso et al., 2022), а именно, у популяций с ограниченным доступом к водным ресурсам интенсивность испарительных потерь воды ниже (Dupoué et al., 2017). Однако, обнаружено, что скорость потери влаги у живородящих ящериц из южных частей ареала оказывается меньше, чем у симпатричных, но более ксерофильных видов – ящерицы Хорвата (Iberolacerta horvathi Méhely 1904) и стенной ящерицы (Podarcis muralis Laurenti, 1768) (Žagar et al., 2017). Одно из возможных объяснений этого парадокса состоит в том, что живородящие ящерицы (как, возможно, и некоторые другие мезо- и гигрофильные виды) неспособны в засушливые периоды переносить ту степень дегидратации, которую выдерживают ксерофилы, и вынуждены предотвращать обезвоживание организма за счет более эффективного снижения потерь воды. Увеличение толщины кожных покровов – один из возможных механизмов такого снижения. В контексте данного предположения считаем нужным обратить внимание на то, что толщина кожи и ее эпидермальных слоев у исследованных нами живородящих ящериц оказалось не меньше, чем в целом у представителей рода Darevskia, в том числе и у особи, представляющей самый ксерофильный вид в нашем исследовании, D. raddei (рис. 7, 8). Было бы весьма интересно посмотреть в этом плане эпидермис, включая толщину его роговых и “живых слоев”, у типичных ксерофилов – например, представителей рода Eremias того же семейства Lacertidae, что мы и предпримем в дальнейшем.
Морфо-функциональный анализ межчешуйных карманов
Строение межчешуйных карманов скальных и живородящей ящериц отличаются от шарнирного эпидермиса тех видов, у которых в межчешуйных карманах сформирована капиллярная система, обеспечивающая пассивный захват и транспорт влаги. Морфологическим маркером такой капиллярной системы можно считать щелевые структуры, образованные складками истонченного эпидермиса на дне чешуйных карманов (Sherbrooke et al., 2007). У исследованных нами видов щелевых структур такого типа не обнаружено. В чешуйных карманах скальных и живородящей ящериц эпидермис не истончен и содержит надкожицу в отличие от “классического” шарнирного эпидермиса, в котором могут отсутствовать надкожица и светлый слой. В коже межчешуйных карманах скальных и живородящей ящериц хорошо развиты все слои, включая дерму и подкожную клетчатку.
В бугорчатой коже спины скальных ящериц кожные складки и дивертикулы развиты слабо, но в пластинчатой коже брюха они представляют собой хорошо выраженные структуры, которые формируют своеобразные борозды между не перекрывающимися чешуями (рис. 3, 4, 11). Просвет между стенками этих борозд может быть не более нескольких микрон (рис. 3, 4). Радиус кривизны менисков, которые могут образоваться в этих бороздах при контакте с водой, будет иметь размер такого же порядка. Капиллярное давление на границе этих менисков, обратно пропорциональное их радиусу и прямо пропорциональное поверхностному натяжению воды, составляющему 0.07 Н/м (Попов, 2013), может достигать и превышать 104 Па (>0.1 атм или 103 мм вод. ст.). Если поверхность кожи в просветах между чешуями смачивается, такого избыточного давления было бы вполне достаточно для того, чтобы обеспечить пассивный транспорт воды вдоль брюшной поверхности кожи при контакте этой части тела с влажным субстратом. В этом случае можно было бы предполагать наличие у скальных ящериц механизмов захвата влаги, аналогичных тем, которые ранее описаны у некоторых видов рептилий (Sherbrooke et al., 2007; Comans et al., 2015, 2016; Yenmiş et al., 2016). Однако, в противном случае, т.е. если поверхность кожи не смачивается, капиллярные силы, наоборот, будут надежно блокировать заход и распространение воды в межчешуйных карманах и кожных бороздах внутри них. Соответственно, для понимания того, какой конкретно капиллярный эффект возможен в межчешуйных карманах на вентральной стороне тела и имеет ли он какое-либо функциональное значение, необходима информация о физико-химических свойствах поверхности кожи скальных ящериц.
Следует отметить сильно развитую подкожную поперечнополосатую мускулатуру исследованных ящериц, которая, как видно на препаратах кожи брюшной поверхности D. dahli (рис. 3б, г) и D. alentini (рис. 5г), может заходить непосредственно в основание чешуи (см. также рис. 7а, б, 4). Нам не известны описания случаев подобного глубокого проникновения подкожной мускулатуры в тело чешуй у каких-либо представителей Lacertidae. При таком залегании мышечного слоя его сокращение способно обеспечить смыкание или отодвигание соседних чешуй. Точный функциональный смысл этой способности кожного покрова скальных ящериц пока не ясен. Однако, стоит заметить, что если поверхность межчешуйных карманов смачивается водой, создавая возможности для ее движения посредством капиллярных сил, то активное изменение просвета между чешуями и ширины борозд внутри межчешуйных карманов меняло бы кривизну капиллярных менисков и, как результат, управляло движением жидкости, направляя ее в сторону более тонких просветов. Активное изменения формы и размеров капилляров, образованных чешуями, было бы функциональным аналогом статичной кожной капиллярной системы с переменными размерами, которая используется, например, такими рептилиями, как техасская жабовидная ящерица (Phrynosoma cornutum Harlan, 1825) для транспорта воды вдоль тела в каудо-краниальном направлении (Comans et al., 2015).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У изученных ящериц вне состояния линьки слои кожи имеют типичное строение и содержат немногочисленные остеодермы, укрепляющие чешуи; бугорчатая кожа дорсальной стороны толще пластинчатой кожи вентральной стороны туловища и, по-видимому, гораздо прочнее. У ящериц рода Darevskia подкожная клетчатка имеет обильное кровоснабжение и сильно развитые лакуны. Предположение о том, что толщина кожи у ксерофильных форм должна увеличиваться, чтобы обеспечить барьер от влагопотерь, не подтверждается. У скальных ящериц, как более ксерофильных, так и более гигрофильных, в кожном покрове не обнаружено сколько-нибудь заметного содержания липидов, которые могли бы улучшать барьерные свойства кожи.
В межчешуйных карманах пяти видов скальных ящериц и у взрослых особей живородящей ящерицы в области основания чешуй (в области “шарнирного эпидермиса”) все слои кожи хорошо развиты, за исключением отсутствующего ß-слоя. В шарнирной области межчешуйного кармана скальных ящериц отсутствуют щелевые структуры, характерные для других видов рептилий, кожа которых способна к пассивному захвату влаги из окружающей среды; однако, у скальных ящериц и взрослых особей живородящей ящерицы в области межчешуйного кармана имеются развитые дивертикулы и борозды, идущие вдоль каудального края чешуй с их внутренней стороны. Наиболее развиты такие структуры на вентральной стороне тела ящериц. Капиллярные силы, которые могут возникать при контакте этих структур с влагой, способны обеспечить избыточное давление до 104 Па или 103 мм вод. ст. Сильно развитая подкожная мускулатура скальных ящериц может заходить внутрь чешуй, что делает возможным активное изменение их ориентации, колебаний ширины просветов между чешуями и объема борозд на внутренней поверхности и краях чешуй, что требует экспериментального подтверждения.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования (ЦКП) “Инструментальные методы в экологии” при Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, а также на оборудовании ЦКП Института биологии развития им. Н.К. Кольцова. Авторы благодарны сотрудникам Звенигородской биостанции и Научно-исследовательского зоологического музея Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова за предоставленный для исследования коллекционный материал. Мы благодарим сотрудника ИПЭЭ РАН А.Г. Буша за помощь в работе с гистологической техникой.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа проводилась в рамках госзадания ИПЭЭ РАН, ЕГИСУ НИОКТР № 121122200210-0 и при частичной поддержке гранта РНФ 22-14-00227.
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
Авторы подтверждают отсутствие конфликтов интересов.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
Все этические стандарты соблюдены. В ходе работы соблюдались все применимые международные, национальные и ведомственные рекомендации по уходу и использованию животных и ее выполнение выполнено при разрешении Комитета по этике экспериментальных животных А.Н. Северцова N48 27 мая 2021.
Об авторах
О. Ф. Чернова
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: olga.chernova.moscow@gmail.com
Россия, 119071 Москва, Ленинский проспект, 33
Э. А. Галоян
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Email: olga.chernova.moscow@gmail.com
Россия, 119071 Москва, Ленинский проспект, 33
Ю. Ф. Ивлев
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Email: olga.chernova.moscow@gmail.com
Россия, 119071 Москва, Ленинский проспект, 33
Список литературы
- Гражданкин А. В. Особенности морфологии кожного покрова наземных рептилий в связи с их терморегуляцией // Зоол. журн. 1974. Т. 53. № 12. С. 1894–1897.
- Даревский И. C. Скальные ящерицы Кавказа: Систематика, экология и филогения полиморфной группы кавказских ящериц подрода Archaeolacerta / Зоол. ин-т. Л.: Наука. Ленингр. отд., 1967. 214 с.
- Даревский И. С., Гречко В. В., Куприянова Л. A. Ящерицы, размножающиеся без самцов // Природа. 2000. № 9. С. 131–133.
- Николаев О. Д., Белова Д. А., Новиковa Б. А., Симисa И. Б., Петросян Р. К., Аракелян М. С., Комарова В. А., Галоян Э. А. Особенности термобиологии партеногенетических скальных ящериц (Darevskia armeniaca и Darevskia unisexualis) и обоеполового вида Darevskia valentini (Lacertidae, Squamata) // Зоол. журн. 2021. Т. 100. № 11. С. 1214–1223. https://doi.org/10.31857/S0044513421090063
- Попов В. Л., Механика контактного взаимодействия и физика трения. От нанотрибологии до динамики землетрясений. М.: Физматлит, 2013. 352 с.
- Соколов В. Е., Даревский И. С., Котова Е. Л., Чернова О. Ф. Специализированные кожные органы такырной круглоголовки Phrynocephalus helioscopus (Reptilia. Squamata, Agamidae) // Зоол. журн. 1997. Т.70. № 4. С. 466–472.
- Соколов В. Е., Котова Е. Л., Чернова O. Ф., 1994. Кожные железы рептилий (Reptilia). Обзор исследований. М.: МЦНЕИ. С. 1–94.
- Соколов В. Е., Скурат Л. Н., Степанова Л. В., Шабадаш С. А. Руководство по изучению кожного покрова млекопитающих. М.: Наука, 1988. 278 с.
- Abramoff M. D., Magalhaes P. J., Ram S. J. Image Processing with ImageJ // Biophotonics International. 2004. V. 11. № 7. P. 36–42.
- Ahmadzadeh F., Flecks M., Carretero M. A., Mozaffari O., Böhme W., Engler J., Harris D. J., IIgaz C., Üzüm. N. Cryptic speciation patterns in Iranian rock lizards uncovered by integrative taxonomy // PloS ONE. 2013. V. 8. № 12. P. 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080563
- Akat E., Pombal V. F., Yenmiş M., Molist P., Megias M., Somuncu S., Vesely M., Anderson R., Ayaz D. Comparison of vertebrate skin structure at class level: A review // Anat. Rec. 2022. V. 305. № 12. P. 3543– 3608. https://doi.org/10.1002/ar.24908
- Alibardi L. Scale morphogenesis during embryonic development in the lizard Anolis lineatopus // J. Anat. 1996. V. 188. P. 713–725.
- Alibardi L. Morphogenesis of the digital pad lamellae in the embryo of the lizard Anolis lineatopus // J. Zool. 1997. V. 243. P. 47–56. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1997.tb05755.x
- Alibardi L. Ultrastructure of the embryonic snake skin and putative role of histidine in the differentiation of the shedding complex // J. Morphol. 2002. V. 251. P. 149–168. https://doi.org/10.1002/jmor.1080
- Alibardi L. Adaptation to the land: The skin of reptiles in comparison to that of amphibians and endotherm amniotes // J. Exp. Zool. Part B. Mol. Dev. Evol. 2003. V. 298. № 1. P. 12–41. https://doi.org/10.1002/jez.b.24
- Alibardi L. Review: Cell biology of adhesive setae in gecko lizards // Zoology. 2009. V. 112. P. 403–424. https://doi.org/10.1016/j.zool.2009.03.005
- Alibardi L. Sauropsids cornification is based on corneous beta-proteins, a special type of keratin-associated corneous proteins of the epidermis // J. Exp. Zool. Part B. Mol. Dev. Evol. 2016. V. 326. № 6. P. 1–14. https://doi.org/10.1002/jez.b.22689
- Alibardi L. Keratinization and cornification are not equivalent processes but keratinization in fish and amphibians evolved into cornification in terrestrial vertebrates // Exp. Dermat. 2022. V. 31. № 5. P. 794–799. https://doi.org/10.1111/exd.14525
- Alibardi L., Thompson M. B. Epidermal differentiation in the developing scales of embryos of the Australian scincid lizard Lampropholis quicnenoti // J. Morphol. 1999. V. 241. P. 139–152. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4687(199908)241:2<139::AID-JMOR4>3.0.CO;2-H.
- Alibardi L., Toni M., Cytochemical, biochemical and molecular aspects of the process of keratinization in the epidermis of reptilian scales // Prog. Histochem. Cytochem. 2006. V. 40. № 2. P. 73–134. https://doi.org/10.1016/j.proghi.2006.01.001
- Ananjeva N. B., Dilmuchamedov M., Matveyeva T. The skin sense organs of some iguanian lizards // J. Herpetol. 1991. V. 25. P. 186–199. https://doi.org/10.2307/1564647
- Araya-Donoso R., San Juan E., Tamburrino I., Lamborot M., Veloso C., Véliz D. Integrating genetics, physiology and morphology to study desert adaptation in a lizard species // J. Anim. Ecol. 2022. V. 91. № 6. P. 1148–1162. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13546
- Arribas O. J. Phylogeny and relationships of the mountain lizards of Europe and Near East (Archaeolacerta Mertens, 1921, sensu lato) and their relationships among the Eurasian lacertid radiation // Russ. J. Herpetol. 1999. V. 6. № 1. P. 1–22.
- Breyer H. Über Hautsinnesorgane und Haftung bei Lacertilien // Zool. Jahr. 1929. Bd. 51. Abt. F. Anatomie. S. 549–581.
- Calvaresi M., Eckhart L., Alibardi L. The molecular organization of the beta-sheet region in Corneous betaproteins (beta-keratins) of sauropsids explains its stability and polymerization into filaments // J. Struct. Biol. 2016. V. 194. P. 282–291. https://doi.org/10.1016/j.jsb.2016.03.004
- Carver W. S., Sawyer R. H. Development and keratinization of the epidermis in the common lizard, Anolis carolinenesis // J. Exp. Zool. 1987. V. 243. P. 435–443. https://doi.org/ 10.1002/jez.1402430310
- Chang Ch., Wu P., Baker R. E., huong Ch.-M. Reptile scale paradigm: Evo-Devo pattern formation and regeneration // Int. J. Dev. Biol. 2009. V. 53. P. 813–826. https://doi.org/10.1387/ijdb.072556cc.
- Comans P., Buchberger G., Buchsbaum A., Baumgartner R., Koller A., Bauer S., Baumgartner W. Directional, passive liquid transport: the Texas horned lizard as a model for a biomimetic ‘liquid diode’ // J. R. Soc. Interface. 2015. V. 12. № 109. P. 20150415. https://doi.org/10.1098/rsif.2015.0415
- Comans P., Withers P. C., Esser F. J., Baumgartner W. Cutaneous water collection by a moisture-harvesting lizard, the thorny devil (Moloch horridus) // J. Exp. Biol. 2016. V. 219. № 21. P. 3473–3479. https://doi.org/10.1242/jeb.148791
- Cox C. L., Cox R. M. Evolutionary shifts in habitat aridity predict evaporative water loss across squamate reptiles // Evolution. 2015. V. 69. № 9. P. 2507–2516.
- Dhouailly D. A new scenario for the evolutionary origin of hair, feather, and avian scales // J. Anat. 2009. V. 214. № 4. P. 587−606. https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2008.01041.x.
- Dupoué A., Rutschmann A., Le Galliard J. F., Miles D. B., Clobert J., Devardo D. F., Brusch G. A. IV, Meylan S. Water availability and environmental temperature correlate with geographic variation in water balance in common lizards // Oecologia. 2017. V. 185. № 4. P. 561–571. https://doi.org/10.1007/s00442-017-3973-6.
- Flaxman B. A. Cell differentiation and its control in the vertebrate epidermis // Integrative and Comparative Biology (ICB). 1972. V. 12. № 1. P. 13−26. https://doi.org/10.1093/icb/12.1.13
- Gabelaia M., Adriaens D., Tarkhnishvili D. Phylogenetic signals in scale shape in Caucasian rock lizards (Darevskia species) // Zool. Anz. 2017. V. 268. P. 32–40. https://doi.org/10.1016/j.jcz.2017.04.004
- Galoyan E., Moskalenko V., Gabelaia M., Tarkhnishvili D., Spangenverg V. E., Shamkina A., Arakelyan M., Syntopy of two species of rock lizards (Darevskia raddei and Darevskia portschinskii) may not lead to hybridization between them // Zool. Anz. 2020. V. 288. P. 43–52. https://doi.org/10.1016/j.jcz.2020.06.007 https://sev-in.ru/sites/default/files/2023-08/Supplementary_to_Skin_morphology_of_rock_lizards.pdf.
- Irish F. J., Williams E. E., Seling E. Scanning electron microscopy of changes in epidermal structure occurring during the shedding cycle in squamate reptiles // J. Morph. 1988. V. 197. № 1. P. 105–126. https://doi.org/10.1002/jmor.1051970108
- Kandagel R., Elwan M., Abumdour M. Comparative ultrastructural-functional characterizations of the skin in three reptile species: Chalcides ocellatus, Uromastyx aegyptia aegyptia, and Psammophis schokari aegyptia (Forskål, 1775): Adaptive strategies to their habitat // Microsc. Res. Tech. 2021. V. 84. № 9. P. 1–15. https://doi.org/10.1002/jemt.23766
- Kattan G. H., Lillywhite H. B. Humidity acclimation and skin permeability in the lizard Anolis carolinensis // Physiol. Zool. 1989. V. 62. № 2. P. 593–606. https://doi.org/10.1086/physzool.62.2.30156187
- Landmann L. The sense organs in the skin of the head of Squamata (Reptilia) // Isr. J. Zool. 1975. V. 24. P. 99–135. https://doi.org/10.1080/00212210.1975.10688416
- Landmann L. Epidermis and dermis // Biology of Integument. V. 2. / Eds Bereiter-Hahn J., Matoltsy A. G., Richards K. S. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1986. P. 150–187.
- Lillywhite H. B. Plasticity of the water barrier in vertebrate integument // International Congress Series. 2004. V. 1275. P. 283–290.
- Lillywhite H. B. Water relations of tetrapod integument // J. Exp. Biol. 2006. V. 209. № 2. P. 202–226. https://doi.org/10.1242/jeb.02007
- Maderson P. F. A. Keratinized epidermal derivatives as an aid to climbing in gekkonid lizards // Nature. 1964. V. 203. P. 780−781. https://doi.org/ 10.1038/203780a0
- Maderson P. F. A. The structure and development of the squamate epidermis // Biology of the skin and hair growth / Eds Lyne A. G., Short B. F. Sydney: Angus & Robertson, 1965. P.129–153.
- Maderson P. F. A. Lizard glands and lizard hands: models for evolutionary study // Forma et Functio. 1970. V. 3. P. 179−204.
- Maderson P. F. A. Some developmental problems of the reptilian integument // Biology of the Reptilia / Eds Hans C., Billett F., Maderson P. F.A. . 1985. V. 14. P. 525−598.
- Maderson P. F. A., Licht P. Epidermal morphology and sloughing frequency in normal and prolactin treated Anolis carolinensis (Iguanidae, Lacertilia) // J. Morphol. 1967. V. 123. P. 157–172. https://doi.org/10.1002/jmor.1051230205
- Mi Ch., Ma L., Wang Y., Wu D., Du W., Sun B. Temperate and tropical lizards are vulnerable to climate warming due to increased water loss and heat stress // Proc. Biol. Sci. 2022. V. 289. № 1980. P. 20221074. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1074
- Mittal A. K., Singh J. P. A. Hinge epidermis of Natrix piscator during its sloughing cycle – structural organization and protein histochemistry // J. Zool. 1987. V. 213. № 4. P. 685–695.
- Mohammed M. B. H. Skin development in the lizard embryo, Chalcides ocellatus forscae (Scincidae, Sauria, Reptilia) // Wasm. J. Biol. 1987. V. 45. № 1−2. P. 49−58.
- Roberts J. B., Lillywhite H. B. Lipid barrier to water exchange in Reptile epidermis // Science. 1980. V. 207. № 4435. P. 1077–1079. https://doi.org/10.1126/science.207.4435.1077
- Rutland C. S., Cigler P., Kubale V. Reptilian skin and its special histological structure // Veterinary Anatomy and Physiology / Eds Rutland C. S., Kubale V. IntechOpen. 2019. P. 1–21. www.intecho.com http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.84212
- Sherbrooke W. C., Scardino A. J., Rocke de Nys, Schwarzkopf L. Functional morphology of hinges used to transport water: Convergent drinking adaptations in desert lizards (Moloch herridus and Phrynosoma cornutum) // Zoomorphology. 2007. V. 126. P. 89–102. https://doi.org/10.1007/s00435-007-0031-7
- Swadźba E., Rupik W. Ultrastructural studies of epidermis keratinization in grass snake embryos Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) during late embryogenesis // Zoology. 2010. V. 113. P. 339–360. https://doi.org/10.1016/j.zool.2010.07.002
- Yenmiş M., Ayaz D., Sherbrooke W. C., Veselý M. A comparative behavioural and structural study of rain-harvesting and non-rain-harvesting agamid lizards of Anatolia (Turkey) // Zoomorphology. 2016. V. 135. № 1. P. 137–148. https://doi.org/10.1007/s00435-015-0285-4
- Žagar A., Vrezec A., Carretero M. A. Do the thermal and hydric physiologies of Zootoca (vivipara) carniolica (Squamata: Lacertidae) reflect the conditions of its selected microhabitat? // Salamandra. 2017. V. 53. № 1. P. 153–159.
Дополнительные файлы