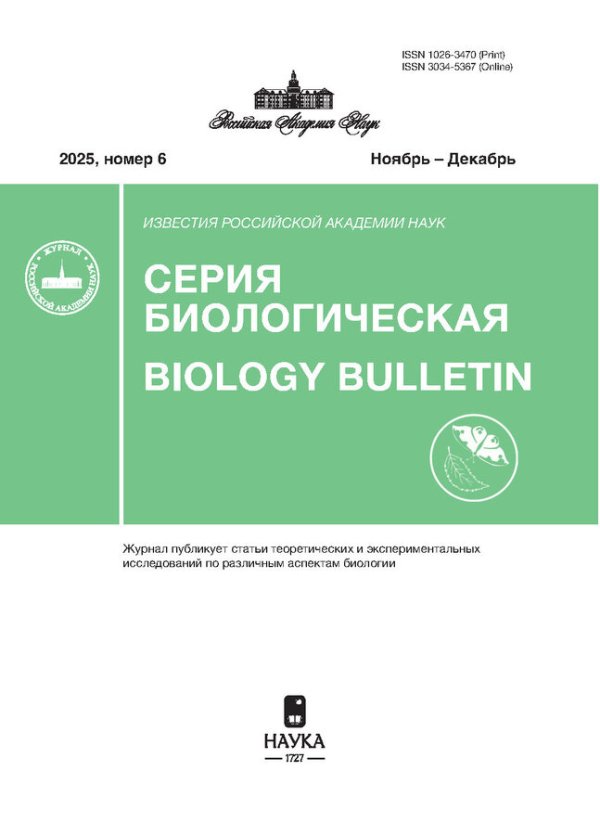Spatial and seasonal variability of chlorophyll A concentration in the Barents Sea
- Authors: Vodopyanova V.V.1, Dvoretsky V.G.1, Bulavina A.S.1
-
Affiliations:
- Murmansk Marine Biological Institute of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 223-233
- Section: ECOLOGY
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-3470/article/view/261360
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026347024020066
- EDN: https://elibrary.ru/WCCDWF
- ID: 261360
Cite item
Full Text
Abstract
Variations of the surface chlorophyll a concentration (Chl-a) measured during 25 cruises conducted from 1984 to 2020 were investigated in the Barents Sea and adjacent Svalbard waters. Seasonal maps of the mean annual Chl-a estimations were created for the Barents Sea. Significant seasonal and temporal variations of Chl-a were found in different water masses. Surface Chl-a content reached a maximum in the spring (46% of the annual estimation). In the summer, it tended to decrease accounting for 28% of the total annual value while in the autumn and winter Chl-a was found to be 21% and 5% of the total annual stock, respectively. Atlantic Water and Arctic Water had the highest contribution to the total annual Chl-a biomass. In Arctic Water, peaks of Chl-a concentrations were registered in spring and these decreased in summer and autumn. Summer season was the most productive period in Atlantic Water. Chl-a dynamics and distribution in relation to climatic factors were investigated. Application of generalized linear and non-linear models to predict Chl-a variations showed high significance of the indices associated with global atmospheric circulation, mean annual temperature and salinity anomalies as well as ice extent in the Barents Sea.
Keywords
Full Text
Баренцево море занимает особое место среди окраинных морей Северного Ледовитого океана. Здесь формируется более 48% первичной продукции (ПП) арктического шельфа и около 40% ПП всего Северного Ледовитого океана (СЛО) (Wassmann et al., 2006). За счет этого Баренцево море является крупнейшим промысловым районом. Термический режим Баренцева моря определяется влиянием теплых вод атлантического происхождения, поступающих из Норвежского моря на юго-западе, а также холодных арктических вод, поступающих из Северного Ледовитого океана на севере. Все это способствует формированию разнообразных планктонных и бентосных сообществ (Матишов, 2011; Дворецкий, Дворецкий, 2015).
Фитопланктон – ключевой компонент пелагических морских экосистем, который обеспечивает трансформацию поступающей солнечной энергии в энергию химических соединений, которые используются на более высоких трофических уровнях (Raymont, 1980). С учетом того, что в Арктическом регионе, включая и Баренцево море, в последние годы регистрируются существенные климатические сдвиги (Jacobsen, Ozhigin, 2011; Matishov et al., 2014; Ожигин и др., 2016; Трофимов и др., 2018) исследование пелагических сообществ и их реакций на внешние изменения представляется актуальной задачей.
Значительный интерес представляет исследование пространственно-временных колебаний концентрации хлорофилла а (Хл-а), поскольку этот показатель отражает обилие фотосинтезирующих организмов в водной толще. Этот параметр хорошо коррелирует с биомассой и первичной продукцией фитопланктона (Lee et al., 2015) и позволяет оценивать реакции фитопланктонных сообществ на климатические колебания и антропогенное воздействие.
Цель работы – исследование пространственной и сезонной изменчивости Хл-а в Баренцевом море и сопредельных водах. Основной акцент сделан на изучение распределения Хл-а в различных водных массах и выявлении влияния климатических факторов на его динамику.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данные для анализа получены в ходе 25 рейсов ММБИ РАН в Баренцевом море и прилегающих водах в период с 1984 г. по 2020 г. (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1. Информация о рейсах, количество станций отбора проб для анализа хлорофилла а в Баренцевом море в 1984–2020 гг.
Рейс | Период | Судно | Количество станций |
1 | Лето 1984 | Помор | 46 |
2 | Лето 1984 | Дальние Зеленцы | 29 |
3 | Лето 1984 | Ахилл | 24 |
4 | Весна 1985 | Помор | 29 |
5 | Лето 1986 | Дальние Зеленцы | 17 |
6 | Лето 1987 | Дальние Зеленцы | 48 |
7 | Весна 1988 | Дальние Зеленцы | 56 |
8 | Лето 1991 | Дальние Зеленцы | 61 |
9 | Лето 1993 | Дальние Зеленцы | 33 |
10 | Лето 1993 | Дальние Зеленцы | 16 |
11 | Лето 1993 | Дальние Зеленцы | 23 |
12 | Осень 2006 | Дальние Зеленцы | 18 |
13 | Лето 2010 | Дальние Зеленцы | 34 |
14 | Осень 2013 | Дальние Зеленцы | 10 |
15 | Лето 2015 | Дальние Зеленцы | 52 |
16 | Весна 2016 | Дальние Зеленцы | 51 |
17 | Лето 2016 | Дальние Зеленцы | 52 |
18 | Лето 2017 | Дальние Зеленцы | 30 |
19 | Зима 2017 | Дальние Зеленцы | 27 |
20 | Весна 2018 | Дальние Зеленцы | 46 |
21 | Весна 2019 | Дальние Зеленцы | 30 |
22 | Лето 2019 | Дальние Зеленцы | 12 |
23 | Зима 2019 | Дальние Зеленцы | 6 |
24 | Осень 2020 | Дальние Зеленцы | 6 |
25 | Осень 2020 | Дальние Зеленцы | 9 |
Всего | 765 |
Рис. 1. Станции отбора проб для анализа хлорофилла а в Баренцевом море в 1984–2020 гг., среднее многолетнее положение фронтальных зон и водные массы Баренцева моря (Matishov et al., 2012).
Проведен анализ 765 проб, отобранных в поверхностном слое (до глубины 1 м) при помощи 5–10-литровых батометров Нискина (Hydro-Bios, Германия). Пробы воды объемом 5 л фильтровали на вакуумной установке на борту судна через мембранные фильтры диаметром 47 мм и размером пор 0.6 мкм. Фильтры хранили при –20ºС. В 1984–1993 гг. концентрацию Хл-а определяли флуорометрически (Strickland, Parsons, 1972). В 2006–2020 гг. использовали стандартную методику (ГОСТ…, 2001): осадок экстрагировали 90%-ным ацетоном. После гомогенизации образцы центрифугировали при 8000 об/мин. Концентрацию Хл-а в экстракте определяли на спектрофотометре Nicolet Evolution 500.
Распределение Хл-а рассматривали в связи с основными водными массами, которые идентифицировали по гидрологическим критериям (Wassmann et al., 2006, Ожигин и др., 2016). Выделено 8 водных масс (ВМ): АВ – атлантическая (T > 3.5 °C, S > 35), АрВ – арктическая (T < 0 °C, S=32…34.8), БВ – баренцевоморская (T= –1.5…5 °C, S=34.5…35), МПВ – мурманская прибрежная (T=1…9 °C, S=33.8…34.7), БПВ – беломорская прибрежная (T= –1.8…8 °C, S=32.5…34.7), ППВ – печорская прибрежная (T= –1.8…8 °C, S=30…34.5), НЗПВ – новоземельская прибрежная (T= –1.8…6 °C, S=33…34.7) и ШПВ – шпицбергенская прибрежная (T=1…6 °C, S=32.8…34.4).
В качестве предикторов сезонных и пространственных вариаций Хл-а использовали: 1) зимний (декабрь–февраль) индекс Североатлантического колебания (North Atlantic Oscillation, NAO); 2) индекс Арктического колебания (Arctic Oscillation, AO); 3) аномалии среднегодовой температуры и солености на вековом разрезе “Кольский меридиан” (dT, dS); 4) площади ледяного покрова в Баренцевом море (SIE – годовая, SIE-a – апрельская, SIE-s – сентябрьская, тыс. км2). Данные были получены из следующих источников: сайты климатического прогностического центра США (NOAA, www.cpc.ncep.noaa.gov), Национального центра климатических исследований США (www.climatedataguide.ucar.edu), Полярного филиала ФГБУ ВНИРО (www.pinro.vniro.ru), Национального центра данных о снеге и льде США (www.nsidc.org), а также получены из отчетов Рабочей группы по комплексной оценке Баренцева моря (Eriksen, Filin, 2022).
Индексы NAO и AO характеризуют глобальную атмосферную циркуляцию в северном полушарии (Hurrell, Deser, 2009). Индекс NAO является суммарной мерой состояния циркуляции в средних широтах Северной Атлантики. Североатлантическое колебание (NAO) отражает колебание атмосферной массы между севером и югом Северной Атлантики с центрами в районе Исландии (минимум) и в районе Азорских о-вов (максимум). Пространственные особенности и временная изменчивость NAO определяют по полю давления на уровне моря. Индекс NAO вычисляется как разность нормированных значений давления на станции Гибралтар (Лиссабон или Понта Дельгада) и станции Рейкьявик (Hurrell, Deser, 2009). Арктическое колебание отражает глобальные процессы аномалий циркуляции в стратосфере Северного полушария (Thompson, Wallace, 1998). Значения индекса вычисляются по данным давления на уровне моря в регионе Северного полушария с координатами (20° с.ш – 90° с. ш.) или по среднемесячным аномалиям высоты геопотенциальной поверхности 1000 (или 700) гПа в узлах регулярной сетки, которые нормализуются относительно базового периода. Аномалии dT, dS отражают гидрологические изменения в Баренцевом море на протяжении более века (Ожигин и др., 2016; Трофимов и др., 2018). В расчетах использовали данные для станций 3–7 (70°30’–72°00’ с. ш., 33°30’ в. д., основная ветвь Мурманского течения, слой 0–200 м). Данные о площади льда являются интегральным показателем процессов потепления/похолодания в Арктике.
Сравнение выборок для сезонов и ВМ проводили при помощи однофакторного дисперсионного анализа или теста Краскела–Уоллиса (Zar, 1999) в случае, когда нормальность данных не выявлена. Множественные сравнения проводили тестом Тьюки–Крамера или Z-тестом Краскела–Уоллиса (Zar, 1999). Для каждой выборки рассчитывали диапазон и средние со стандартными отклонениями.
Для выявления общих тенденций изменения концентрации Хл-а в связи с динамикой климатических факторов, использовали модели, основанные на многофакторных регрессиях (Legendre, Legendre, 1998). Модули GLM и GLZ (Generalized Linear Models) применяются для оценки линейных и нелинейных эффектов для любого количества и типа предикторов с дискретной или непрерывной зависимой переменной. Часть климатических индикаторов, использованных для анализа (индексы NAO и AO, аномалии температуры и солености), не демонстрировала линейных трендов (www.cpc.ncep.noaa.gov; www.climatedataguide.ucar.edu; www.pinro.vniro.ru), тогда как площадь ледяного покрова проявляла тенденцию к снижению на протяжении периода исследования (www.nsidc.org; Eriksen, Filin, 2022). По этой причине были применены, как линейные, так и нелинейные модели. В нашем случае была использована тождественная связь (f(z) = z), поэтому значения концентраций Хл-а были нормализованы десятичным логарифмом. Площади ледяного покрова были нормализованы для приведения величин климатических индексов к одному порядку величин. Статистическая значимость независимых переменных (климатических предикторов) оценивалась на основе статистики Вальда (Legendre, Legendre, 1998). Вклад климатических факторов в общую вариацию Хл-а определяли по коэффициенту детерминации (R2). Cтатистическая обработка данных выполнена с применением программных пакетов Statistica 10 (StatSoft Inc., США) и NCSS-PASS2004 (NCSS Statistical Software, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Баренцевом море и сопредельных водах нами были выявлены существенные сезонные и пространственные вариации содержания Хл-а в поверхностном слое (рис. 2, табл. 2). В различные сезоны года локализация центров с повышенными концентрациями фитопигментов существенно отличалась.
Рис. 2. Сезонное распределение усредненных концентраций хлорофилла а (мг/м3) в поверхностном слое Баренцева моря в 1984–2020 гг. (а) зима: 1 – < 0.05, 2–0.05–0.10, 3–0.11–0.12, 4–0.13–0.15, 5–0.16–0.18, 6 – > 0.18. (б) весна: 1 – < 0.1, 2–0.1–0.5, 3–0.6–0.9, 4–1.0–1.3, 5–1.4–2.2, 6 – > 2.2. (в) лето: 1 – < 0.10, 2–0.10–0.25, 3–0.26–0.39, 4–0.40–0.54, 5–0.55–0.80, 6 – > 0.80. (г) осень: 1 – < 0.08, 2–0.09–0.23, 3–0.24–0.32, 4–0.33–0.50, 5–0.51–0.75, 6 – > 0.75.
Таблица 2. Статистические показатели (диапазон варьирования, среднее ± стандартное отклонение) поверхностной концентрации хлорофилла а (мг/м3) в водных массах Баренцева моря и сопредельных вод в 1984–2020 гг.
Водная масса | Сезон | ||||
Зима | Весна | Лето | Осень | Все | |
АрВ | 0.10–0.22 0.16 ± 0.06 | 0.28–5.61 1.54 ± 1.50 | 0.05–1.51 0.30 ± 0.37 | 0.18–0.36 0.25 ± 0.07 | 0.05–5.61 0.99 ± 1.31 |
АВ | 0.05–0.21 0.14 ± 0.06 | 0.13–4.59 0.74 ± 0.94 | 0.03–4.99 0.98 ± 0.78 | 0.12–1.22 0.51 ± 0.37 | 0.03–4.99 0.81 ± 0.79 |
БВ | – | 0.13–2.58 0.44 ± 0.58 | 0.03–12.36 0.57 ± 1.09 | 0.08–0.91 0.42 ± 0.24 | 0.03–12.36 0.54 ± 0.97 |
МПВ | 0.13–0.21 0.17 ± 0.06 | 0.01–1.91 0.46 ± 0.38 | 0.14–2.78 0.76 ± 0.48 | 0.11–1.65 0.66 ± 0.41 | 0.01–2.78 0.60 ± 0.44 |
НЗПВ | – | 1.12–3.18 2.06 ± 1.04 | 0.09–3.06 0.65 ± 0.77 | 0.32–0.57 0.44 ± 0.09 | 0.09–3.18 0.78 ± 0.85 |
ППВ | – | – | 0.14–0.96 0.41 ± 0.23 | 0.60–1.48 0.95 ± 0.37 | 0.14–1.48 0.48 ± 0.31 |
ШПВ | 0.23–0.28 0.26 ± 0.02 | 1.12–8.25 3.77 ± 2.51 | 0.15–2.99 0.84 ± 0.61 | 0.11–0.18 0.15 ± 0.03 | 0.11–8.25 1.44 ± 1.89 |
БПВ | – | – | 0.28–1.57 0.81 ± 0.36 | 0.45–1.19 0.98 ± 0.27 | 0.28–1.57 0.88 ± 0.33 |
Все | 0.05–0.28 0.18 ± 0.07 | 0.01–8.25 1.01 ± 1.45 | 0.03–12.36 0.66 ± 0.81 | 0.08–1.65 0.55 ± 0.37 | 0.01–12.36 0.73 ± 1.00 |
Примечание. Водные массы: АрВ – арктическая, АВ – атлантическая, БВ – баренцевоморская, МПВ – мурманская прибрежная, НЗВП – новоземельская прибрежная, ППВ – печорская прибрежная, ШПВ – шпицбергенская прибрежная, БПВ – беломорская прибрежная.
Зимой концентрация Хл-а колебалась слабо. Показатели этого параметра на акватории моря находились в пределах от 0.05 до 0.28 мг/м3 (табл. 2). Максимальные значения зарегистрированы в ШПВ (0.23–0.28 мг/м3) (рис. 2а). Весной концентрации Хл-а в Баренцевом море изменялись в широком диапазоне (0.01–8.25 мг/м3), достигая максимальных значений в районе Шпицбергенской банки, у западного побережья Новой Земли и на севере акватории моря (рис. 2б). Средняя концентрация Хл-а в это время года превышала 1 мг/м3 (табл. 2). Наибольшие средние концентрации Хл-а весной наблюдались в ШПВ (3.77 мг/м3), НЗПВ (2.07 мг/м3) и АрВ (1.54 мг/м3). Исследования в ШПВ и НЗПВ весной проводились в разные годы, но всегда в мае, в то время как отбор проб в АрВ производился в разные годы во все весенние месяцы. Это увеличивает разброс значений концентраций Хл-а в АрВ, так как в марте и апреле количественные показатели обилия фитопланктона значительно уступают его уровням в мае, когда в северных районах моря регистрируется максимальное развитие фитопланктона. Летом средняя концентрация Хл-а в Баренцевом море была ниже, чем весной (0.66 мг/м3) (табл. 2). Содержание Хл-а на акватории моря колебалось в широких пределах (0.03–12.36 мг/м3). Наибольшие концентрации регистрировали в центре и на юге моря, а наименьшие, в отличие от зимнего и весеннего периодов, наблюдались в АрВ (рис. 2в). Осенью концентрация Хл-а колебалась в диапазоне 0.08–1.65 мг/м3 (табл. 2). Максимумы Хл-а отмечены на юго-западе и юго-востоке моря (рис. 2г) и приурочены к прибрежным континентальным ВМ – Печорской, Беломорской, Мурманской.
Наибольшие величины содержания Хл-а отмечены в весенне-летний период (табл. 2). Средние значения Хл-а весной, летом и осенью были сходны (p > 0.05), но существенно отличались от концентраций, полученных зимой (p < 0.05) (табл. 2). Множественные сравнения ВМ показали статистически значимые отличия концентрации Хл-а (p < 0.05) для пар АВ–БВ, МПВ–БВ и БВ–ШПВ (табл. 2).
Чтобы проследить сезонную динамику развития фитопланктона на акватории моря, были построены карты аномалий внутригодового хода концентраций Хл-а. Летние аномалии рассчитывались по отношению к базовому периоду март–август (рис. 3а), осенние – по отношению к базовому периоду июнь–ноябрь (рис. 3б). Таким образом, отрицательные аномалии будут наблюдаться в районах, где концентрация Хл-а летом меньше, чем весной (рис. 3а), и осенью меньше, чем летом (рис. 3б). В районах, для которых характерно увеличение концентрации от весны к лету (рис. 3а) и от лета к осени (рис. 3б), аномалии будут положительными.
Рис. 3. Аномалии концентрации хлорофилла а в поверхностном слое Баренцева моря: (а) лето; (б) осень. Водные массы: АрВ – арктическая, АВ – атлантическая, БВ – баренцевоморская, МПВ – мурманская прибрежная, НЗВП – новоземельская прибрежная, ППВ – печорская прибрежная, ШПВ – шпицбергенская прибрежная, БПВ – беломорская прибрежная.
Для АрВ было характерно достижение максимальных концентраций Хл-а весной и последующее их уменьшение летом и осенью. В АВ наиболее продуктивным был летний период. Области увеличения концентрации Хл-а в общих чертах соответствуют области распространения АВ (рис. 3а). Фронтальные зоны Баренцева моря могут менять свое положение в течение года (Ожигин и др., 2016). Наибольшей стабильностью положения отличается участок Полярного фронта, приуроченный к контакту атлантических и арктических вод. Он располагается квазистационарно на стыке Шпицбергенской банки и Медвежинского желоба. Участок Полярного фронта, расположенный в центральной части моря в области контакта АВ и БВ менее контрастен и имеет существенную пространственную динамику. Он может значительно смещаться на восток относительно своего среднего положения, показанного на рис. 3.
Чтобы оценить относительный вклад каждой ВМ в производство первичной продукции Баренцева моря, необходимо учитывать не только концентрацию Хл-а в различные сезоны года в каждой ВМ, но и площадь, занимаемую ей на акватории моря. Используя данные о средней сезонной концентрации Хл-а и средней многолетней площади ВМ, было рассчитано относительное содержание Хл-а в ВМ Баренцева моря в % от годового (рис. 4). Площади ВМ были вычислены по карте в их средних границах, указанных на рис. 1.
Рис. 4. Относительное содержание хлорофилла а в поверхностном слое ВМ Баренцева моря, %. Водные массы: АрВ – арктическая, АВ – атлантическая, БВ – баренцевоморская, МПВ – мурманская прибрежная, НЗВП – новоземельская прибрежная, ППВ – печорская прибрежная, ШПВ – шпицбергенская прибрежная, БПВ – беломорская прибрежная.
Наибольшее относительное содержание Хл-а в поверхностном слое Баренцева моря было зарегистрировано в весенний период – 46% от годового (20.4% в АрВ), что является характерной особенностью арктической и субарктической зоны Мирового океана, где основная часть годовой первичной продукции формируется во время весеннего цветения фитопланктона. Летом, этот показатель снизился до 28.7%, при этом наибольшее содержание Хл-а было отмечено в АВ – 11.8%. Осенью и зимой продолжалось снижение относительного содержания Хл-а до 20.6% и 4.7%, соответственно. Наибольший вклад в суммарное годовое содержание Хл-а внесли АрВ и АВ (рис. 4).
Наблюдалась также и межгодовая изменчивость концентраций и пространственного распределения Хл-а на акватории Баренцева моря. Развитие фитопланктона определяется многими факторами, большинство из которых имеют под собой климатическую основу. В период исследования зимний индекс NAO демонстрировал выраженные колебания, при этом его средняя величина была близка к 0. Прослеживались периоды с выраженными положительными величинами индекса: в 1989–1994 гг., в 1999–2000 гг., и в 2014–2020 гг. Индекс AO сильно варьировал, его среднегодовые величины были ниже 0 в 1984–1989 гг., в 2005–2006 гг., в 2009–2010 гг., в 2012–2014 гг., в 2016 г. и в 2019 г. Аномалии температуры воды на Кольском разрезе были выше среднемноголетней величины в 1989–1992 гг. и начиная с 2004 г. Соленость демонстрировала слабые отклонения от многолетних показателей, однако с 2004 г. регистрировали устойчивые положительные аномалии. Ледовитость Баренцева моря была ниже средних многолетних значений в 1983–1984 гг., в 1991–1996 гг., а также с 2004 г. Сходные тенденции отмечены для апрельских и сентябрьских значений.
Моделирование позволило оценить характер и дать количественную оценку влияния различных климатических факторов. В табл. 3 представлены параметры предикторов регрессионной модели прогноза изменения Хл-а и их статистическая значимость. Практически все факторы, кроме площади льда в сентябре, были значимо связаны с концентрацией Хл-а в поверхностном слое. Обнаружена прямая зависимость концентрации Хл-а от большинства климатических факторов, о чем свидетельствовали положительные коэффициенты регрессионной модели. В случае индекса AO и среднегодовой площади ледяного покрова обнаружена обратная зависимость. Найденная линейная модель была статистически значимой (множественный R = 0.39, множественный R2 = 0.15, скорректированный R2 = 0.14, F = 17.23, p < 0.01).
Таблица 3. Итоговые параметры модели (GLZ-анализ), описывающей взаимосвязи поверхностной концентрации хлорофилла а (мг/м3) в Баренцевом море и сопредельных водах в 1984–2020 гг. с климатическими факторами
Параметр | Коэффициент | Стандартная ошибка | 95% ДИ1 | 95% ДИ2 | Статистика Вальда | p |
NAO-w | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 4.50 | 0.034 |
AO | –0.05 | 0.03 | –0.10 | 0.00 | 4.45 | 0.035 |
dT | 0.26 | 0.03 | 0.20 | 0.32 | 73.36 | 0.000 |
dS | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 5.49 | 0.027 |
SIE-a | 1.73 | 0.21 | 1.31 | 2.15 | 66.00 | 0.000 |
SIE-s | 0.03 | 0.02 | –0.01 | 0.07 | 2.32 | 0.128 |
SIE | –0.80 | 0.13 | –1.06 | –0.54 | 35.38 | 0.000 |
b | –3.00 | 0.47 | –3.91 | –2.06 | 40.04 | 0.000 |
Примечание. NAO-w – зимний индекс Североатлантического колебания, AO – индекс Арктического колебания, dT, dS – аномалии среднегодовой температуры воды (°C) и солености в основной ветви Мурманского течения (разрез “Кольский меридиан”), SIE-a, SIE-s, SIE – десятичные логарифмы апрельской, сентябрьской и среднегодовой площадей ледяного покрова в Баренцевом море (тыс. км2), b – свободный член уравнения (постоянная переменная) модели. Полужирным шрифтом выделены значимые факторы. 95% ДИ1,2 – нижняя и верхняя граница 95%-го доверительного интервала.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Многолетние исследования in situ концентраций Хл-а в Баренцевом море, включая его малоизученные и труднодоступные районы, позволили провести анализ пространственных и сезонных колебаний содержания Хл-а. Были выявлены существенные сезонные различия центров локализации максимальных концентраций Хл-а. Первые очаги развития фитопланктона обнаруживается в весенний период на севере Баренцева моря у ледовой кромки, а также и у побережья архипелагов Шпицберген и Новая Земля. Ранее неоднократно были зафиксированы максимальные значения Хл-а в весенний период в северных районах Баренцева моря и в районе ледовой кромки (Wassman et al., 2006; Макаревич, Дружкова, 2010; Makarevich et al., 2012, 2022). Весеннее развитие фитопланктона определяется комплексом факторов, среди которых температура воды, световой режим и концентрация биогенных элементов играют первостепенную роль (Pal, Choudhury, 2014). Влияние температуры, как правило, опосредовано через формирование стратификации за счет нагревания поверхностного слоя и инициирования таяния льда (Pal, Choudhury, 2014). Образующийся тонкий слой талых вод отделен от нижележащих вод ярко выраженным пикноклином. Благодаря этому весной в АрВ компенсационная точка (глубина, на которой освещенность достаточна, чтобы фотосинтез компенсировал затраты на дыхание) залегает ниже глубины перемешанного слоя, что обеспечивает благоприятные условия для развития фитопланктона (Raymont, 1980).
Высокие концентрации Хл-а весной вблизи западного побережья арх. Новая Земля также, вероятно, связаны с таянием льда и образованием слоя талых вод. Кроме того, сток с арх. Новая Земля может служить дополнительным источником биогенных веществ. В прибрежных водах арх. Шпицберген массовое весеннее развитие микроводорослей наряду с таянием льда связано, кроме того, с мелководностью района (Sakshaug et al., 2009).
В летний период наибольшие концентрации Хл-а были отмечены в южной и центральной частях Баренцева моря. В этих районах формирование квазиоднородного поверхностного слоя связано не с таянием льда, а с сезонным прогревом поверхности воды. Поэтому изолированный поверхностный слой здесь формируется позже, чем на севере моря. Следовательно, глубина залегания компенсационной точки в южных районах моря начинает превышать толщину перемешанного слоя на 1–2 месяца позднее, чем в северных. Таким образом, активное развитие фитопланктона и его максимальная численность в АВ, БВ и прибрежных континентальных водах (БПВ, ППВ, МПВ) наблюдается позднее, чем в АрВ.
Длительное существование изолированного поверхностного слоя препятствует поступлению в него нитратов и фосфатов из нижележащих слоев водной толщи, ухудшая условия для дальнейшего развития фитопланктона (Sakshaug et al., 2009; Pal, Choudhury, 2014). Снижение плотности фитопланктона происходит из-за быстрого истощения питательных веществ (Матишов, 1997; Wassmann et al., 2006; Makarevich et al., 2012), а также за счет интенсивного выедания копеподами и другими зоопланктонными организмами, пики численности которых наблюдаются через 30–35 суток после массового “цветения” фитопланктона (Дворецкий, Дворецкий, 2015). Более раннее начало развития фитопланктона в АрВ означает и более раннее снижение его численности. Поэтому летом концентрации Хл-а в АрВ заметно снижаются. В то же время, в ВМ, где поверхностный слой формируется лишь в конце весны, максимальные концентрации Хл-а приходятся на летний период. В июне и июле в АрВ были обнаружены участки “цветения” фитопланктона, связанные с отступающей кромкой льда (Makarevich et al., 2022). По многолетним данным нами также были зафиксированы отдельные участки с высокими концентрациями Хл-а в АрВ в летний период. Летние максимумы Хл-а в АрВ приурочены к области плавучих льдов, и, вероятно, связаны с более поздним формированием талого слоя в самых северных районах моря. В среднем же, согласно нашим данным, максимальные концентрации Хл-а в АрВ наблюдаются весной, а летом следует их снижение. В АВ, БВ и МПВ максимальное развитие фитопланктона, напротив, приходится на летний сезон. Таким образом, в весенний и летний периоды существование зон повышенных концентраций фитопланктона обусловлено формированием довольно тонкого поверхностного перемешенного слоя, где высокие концентрации биогенных элементов вместе с достаточной освещенностью благоприятствуют эффективному росту и развитию популяций микроводорослей. Важную роль играет и последующее выедание.
В прибрежных водах отмечается несколько вспышек развития фитопланктона (3–4) в течение вегетационного периода. В теплые периоды года в прибрежье существует хорошо выраженный поверхностный опресненный слой. Он способствует вспышкам обилия микроводорослей, а речной сток обеспечивает регулярное пополнение питательных веществ. Это объясняет нахождение осенних максимумов Хл-а преимущественно в прибрежных водах Баренцева моря: МПВ, БПВ, ППВ. В юго-восточной части Баренцева моря (ППВ) наибольшие концентрации Хл-а были отмечены осенью. Этот район подвержен сильному влиянию пресноводного стока реки Печоры. Речной сток обеспечивает поступление значительного количества биогенных элементов, что способствует развитию фитопланктона в прибрежных районах (Makarevich et al., 2012). Предыдущие исследования также установили, что численность и биомасса фитопланктона в Печорском море выше, чем в открытом море (Макаревич, Дружкова, 2010).
Зимой продукция фитопланктона невелика, а распределение питательных веществ в толще воды более однородно. В период полярной ночи концентрации Хл-а редко превышают 0.1–0.2 мг/м3 (Sakshaug et al., 2009). Исследования, посвященные зимнему фитопланктону, немногочисленны, и наша работа расширяет существующие представления о характере локализации Хл-а в западном секторе Баренцева моря. Наиболее высокие концентрации Хл-а зимой были выявлены в ШПВ. Воды, расположенные к западу от Шпицбергена, и в его фьордах сильно подвержены влиянию АВ. Эти воды характеризуются повышенным содержанием биогенных элементов, что благоприятствует существованию микроводорослей даже в условиях неблагоприятного светового режима. Следует отметить, что в пределах ШПВ измерения проводились преимущественно в заливах арх. Шпицберген и это могло повлиять на результат.
Было рассчитано, что почти половина Хл-а в Баренцевом море продуцируется в весенний период. Это объясняется высокой продуктивностью в этот сезон АрВ, которые поставляют около 30% ежегодной продукции Хл-а в Баренцевом море.
Содержание Хл-а в поверхностном слое демонстрировало тенденцию к увеличению в течение периода исследования, поскольку коэффициент в GLZ-модели для года исследования был положительным. Планктонные сообщества очень чувствительны к внешнему воздействию и по-разному реагируют на климатические воздействия (Raymont, 1980). Реакцию фитопланктона можно оценить по ПП, общему годовому запасу, численности, биомассе и концентрации Хл-а (Raymont, 1980; Dalpadado et al., 2020; Водопьянова, Калинка, 2022). Применение линейных и нелинейных моделей показало, что климатические факторы оказывали значимое влияние на межгодовую изменчивость концентраций Хл-а. Результаты моделирования позволяют прогнозировать повышенную концентрацию Хл-а в периоды с положительными значениями индекса NAO, аномалиями температуры и солености на разрезе “Кольский меридиан”, высокой ледовитостью в апреле, низкой средней годовой ледовитостью и отрицательными значениями индекса AO.
Повышение температуры воды приводит к потере льда в окраинных морях СЛО и может сильно повлиять на фенологию и сезонные вариации обилия фитопланктона в Баренцевом море. Результаты недавних исследований свидетельствуют о более раннем “цветении” в Баренцевом море и смещении границы максимальной концентрации Хл-а в северном и восточном направлении (Dalpadado et al., 2020).
Нами были выявлены значимые различия в сезонном распределении Хл-а между ВМ Баренцева моря и различия в их продукционном потенциале. Изменение гидрологической структуры вод Баренцева моря под влиянием происходящих климатических изменений может существенно повлиять на объем первичной продукции. Образование тонкого поверхностного слоя является важным условием для массового развития фитопланктона. Недавние исследования показали, что усиление притока атлантических вод в Баренцево море и сокращение площади льда привело к интенсификации процессов перемешивания и ослаблению стратификации вод Баренцева моря (Lind et al., 2018). Однако наши данные свидетельствуют об общей положительной реакции фитопланктона на потепление, отмеченное в Арктике и, в частности, в Баренцевом море. Ослабление стратификации приводит к изменению ряда других условий и факторов, влияющих на развитие фитопланктона. Выявление этих изменений и их влияния на пелагические сообщества микроводорослей требует дополнительного изучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование многолетних данных позволило уточнить представления об особенностях пространственного распределения Хл-а в Баренцевом море. Получены новые сведения о локализации Хл-а в пределах основных ВМ.
Средние концентрации Хл-а в Баренцевом море достигают максимальных значений в весенний период. Летом и осенью средние концентрации Хл-а в Баренцевом море снижаются. В весенний период продуцируется около 46% от суммарного годового количества хлорофилла. В летний период этот показатель снижается до 28%, в течение осени и зимы – до 21% и 5%, соответственно.
Наибольший вклад в суммарное годовое содержание Хл-а вносят АрВ и АВ. Для арктических вод характерно достижение максимальных концентраций Хл-а весной и последующее их уменьшение летом и осенью. В атлантических водах наиболее продуктивным является летний период. В целом, в более южных районах моря достижение максимальных концентраций Хл-а происходит позже, чем в северных. Вероятно, это связано с особенностями формирования устойчивой стратификации водной толщи. Образование на поверхности изолированного слоя воды и развитие в нем фитопланктона приводит к увеличению концентрации Хл-а. В северных районах моря в связи с таянием льда весной формируется талый слой, отделенный хорошо выраженным галоклином от нижележащих вод. В более южных районах поверхностный слой формируется позже, так как связан с прогревом поверхности воды.
Выявлена значительная роль климатических факторов (индексы глобальной атмосферной циркуляции, аномалии температуры и солености воды, ледовитость моря) в пространственной и сезонной динамике содержания Хл-а в поверхностном слое. Происходящие климатические колебания, приводящие к изменению гидрологической структуры вод Баренцева моря способны оказывать влияние на объем первичной продукции. Полученные данные могут служить основой для дальнейшего мониторинга морского планктона в Арктике.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена в рамках государственного задания ММБИ, тема “Структурно-динамические трансформации пелагических экосистем морских арктических бассейнов в условиях техногенных и естественных изменений среды” (FMEE-2024–0016).
About the authors
V. V. Vodopyanova
Murmansk Marine Biological Institute of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: vodopyanova@mmbi.info
Russian Federation, Murmansk
V. G. Dvoretsky
Murmansk Marine Biological Institute of the Russian Academy of Sciences
Email: vodopyanova@mmbi.info
Russian Federation, Murmansk
A. S. Bulavina
Murmansk Marine Biological Institute of the Russian Academy of Sciences
Email: vodopyanova@mmbi.info
Russian Federation, Murmansk
References
- Водопьянова В. В., Калинка О. П. Мониторинг концентраций хлорофилла в Баренцевом море: сравнение многолетних in situ и спутниковых данных // Труды Кольского научного центра РАН. 2022. Т. 13. № .4 (10). С. 27–34. https://doi.org/10.37614/2307-5252.2022.4.10.003
- ГОСТ 17.1.4.02–90. ВОДА. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла а // Государственный контроль качества воды. М.: ИПК Изд-во стандартов. 2001. С. 551–563.
- Дворецкий В. Г., Дворецкий А. Г. Экология зоопланктонных сообществ Баренцева моря и сопредельных вод. СПб.: Реноме. 2015. 736 с.
- Матишов Г. Г. (ред.). Комплексные исследования больших морских экосистем России. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. 2011. 516 с.
- Макаревич П. Р., Дружкова Е. И. Сезонные циклические процессы в прибрежных планктонных альгоценозах северных морей. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 2010. 280 с.
- Ожигин В. К., Ившин В. А., Трофимов А. О., Карсаков М. Ю. Воды Баренцева моря: структура, циркуляция, изменчивость. Мурманск: Изд-во ПИНРО. 2016. 260 с.
- Матишов Г. Г. Планктон морей Западной Арктики. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. 1997. 352 с.
- Трофимов А. Г., Карсаков А. Л., Ившин В. А. Изменения климата в Баренцевом море на протяжении последнего полувека // Труды ВНИРО. 2018. Т. 173. С. 79–91.
- Dalpadado P., Arrigo K. R., van Dijken G. L., Skjoldal H. R., Bagøien E., Dolgov A. V., Prokopchuk I. P., Sperfeld E. Climate effects on temporal and spatial dynamics of phytoplankton and zooplankton in the Barents Sea // Progr. Oceanogr. 2020. V. 182. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2020.102320
- Eriksen E., Filin A. (eds.). ICES. Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). ICES Scientific Reports. 2022. 4:50. 235 p.
- Hurrell J. W., Deser C. North Atlantic climate variability: The role of the North Atlantic Oscillation // J. Mar. Syst. 2009. V. 78. P. 28–41. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.11.026
- Jakobsen, T., Ozhigin, V.K. (eds.). The Barents Sea: ecosystem, resources, management: Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press: Trondheim. 2011. 825 p.
- Lee Y. J., Matrai P. A., Friedrichs M. A., Saba V. S., Antoine D., Ardyna M., Asanuma I., Babin M., Belanger S., Benoît-Gagne M., Devred E., Fernandez-Mendez M., Gentili B., Hirawake T., Kang S., Kameda T., Katlein C., Lee S. H., Lee Z., Melin F., Scardi M., Smyth T. J., Tang S., Turpie K. R., Waters K. J., Westberry T. K. An assessment of phytoplankton primary productivity in the Arctic Ocean from satellite ocean color/in situ chlorophyll a based models // Journal of Geophysical Research: Oceans. 2015. V. 120(9). P. 6508–6541. https://doi.org/10.1002/2015JC011018
- Legendre P., Legendre L. Numerical ecology. Elsevier Science: Amsterdam. 1998. 853 p. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(00)00291-X
- Lind, S., Ingvaldsen, R.B. & Furevik, T. Arctic warming hotspot in the northern Barents Sea linked to declining sea-ice import // Nature Clim. Change. 2018. V. 8. P. 634–639. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0205-y
- Makarevich P., Druzhkova E., Larionov V. Primary producers of the Barents Sea // Diversity of Ecosystems. In Tech: Rijeka, Croatia, 2012. P. 367–392. https://doi.org/10.5772/37512
- Makarevich P. R., Vodopianova V. V., Bulavina A. S. Dynamics of the spatial chlorophyll-a distribution at the Polar Front in the marginal ice zone of the Barents Sea during spring // Water 2022. V. 14. https://doi.org/10.3390/w14010101
- Matishov G. G., Berdnikov S. V., Zhichkin, A.P. et al. Atlas of climatic changes in nine large marine ecosystems of the Northern Hemisphere (1827–2013). NOAA atlas NESDIS: 78. International ocean atlas and information series. 2014.V. 14. http://doi.org/10.7289/V5Q52MK5
- Matishov, G., Moiseev, D., Lyubina, O. et al. Climate and cyclic hydrobiological changes of the Barents Sea from the twentieth to twenty-first centuries. Polar Biol. 2012. V. 35. P. 1773–1790. https://doi.org/10.1007/s00300-012-1237-9
- Pal R., Choudhury A. K. An introduction to phytoplanktons: diversity and ecology. Springer: New Delhi. 2014. 167 p. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1838-8
- Raymont, J.E.G. Plankton and productivity in the oceans, 2rid ed., vol. 1, Phytoplankton. Pergamon Press: New York. USA, 1980. 477 p.
- Sakshaug E., Johnsen G., Kovacs K. (eds.) Ecosystem Barents Sea. Trondheim: Tapir Academic Press. 2009. 587 p. https://doi.org/10.1007/s00300-011-0985-2
- Strickland J. D.H., Parsons T. R. A practical handbook of seawater analysis. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada. Ottawa, Canada, 1972. 310 p.
- Thompson D. W., Wallace J. M. The Arctic oscillation signature in the wintertime geopotential height and temperature fields // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25. P. 1297–1300.
- Wassmann P., Reigstad M., Haug T., Rudels B., Carroll M. L., Hop H., Gabrielsen G. W., Falk-petersen S., Denisenko S. G., Arashkevich E., Slagstad D., Pavlova O. Food webs and carbon flux in the Barents Sea // Progr. Oceanogr. 2006. V. 71. P. 232–287. https://doi.org/10.1016/J.POCEAN.2006.10.003
- Zar J. H. Biostatistical Analysis. 4th Edition. Prentice-Hall Inc.: USA. 1999. 931 p.
Supplementary files