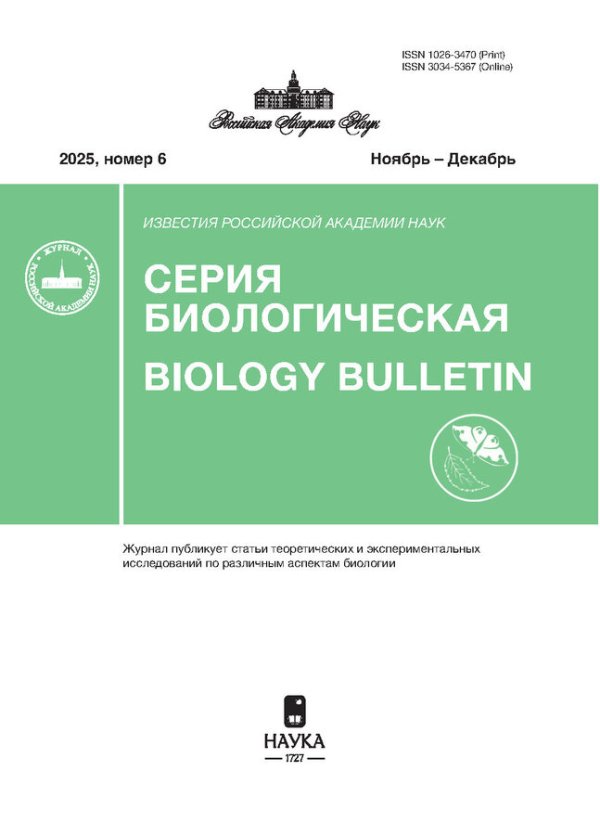Dipeptide L-сarnosine (β-alanyl-L-histidine) — nervous tissue cryoprotector non-hybernate animals
- Authors: Mokrushin A.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Physiology, I. P. Pavlov, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 346-357
- Section: ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-3470/article/view/266054
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026347024030064
- EDN: https://elibrary.ru/VASIBN
- ID: 266054
Cite item
Full Text
Abstract
In this work, the cryoprotective properties of dipeptide L-carnosine (β-alanyl-L-histidine) were studied on slices of the olfactory cortex of the brain of rats. Changes in the activity of N-methyl-D-aspartate receptors were analyzed as the most vulnerable to the effect of cryopreservation (CP), for this purpose, extracellular NMDA potentials were recorded. Slices were incubated with L-carnosine (20 mM) in the medium and frozen at a slow rate (0.1°C/min) down to –10°C and after CS (30 days) they were heated at the same rate (0.1°C/min) to +37°C. The effectiveness of cryoprotection of L-carnosine was determined by changes in the amplitudes of NMDA potentials after CP compared to before CP. The dipeptide restored the pH of the freezing medium 6.9 (without L-carnosine) to the optimum pH 7.3—7.4, promoted dehydration of free water from slices after CP, inhibited the development of glutamate excitotoxicity in slices. The data obtained prove that L-carnosine exhibits the properties of a non-toxic effective cryoprotector in the nervous tissue of warm-blooded non-hibernating animals.
Full Text
Криосохранение (КС) ― это перспективная биотехнология, которая заключается в использовании отрицательных температур для длительного и обратимого ингибирования метаболизма в клетках и тканях. В настоящее время методы КС используются в медицинских и исследовательских целях для хранения биологических материалов, включая клетки, ткани, особенно они востребованы в регенеративной и репродуктивной медицине и при создании криобанка трансплантатов (Giwa et al., 2017).
В практическом плане при КС тканей и органов возникают проблемы, связанные с отсутствием надежных протоколов замораживания/отогревания и неоднородностью морфологической организацией различных тканей (Taylor et al., 2019). Оптимальные результаты получаются с однородными клетками (кровь, сперма, ооциты), для которых применимы протоколы КС клеток (Whaley et al., 2021).
Серьезные проблемы возникают при КС нервной системы, поскольку она морфологически гетерогенна: клетки, синапсы, рецепторные структуры на мембранах. Все они проявляют различную резистентность к действию замораживания/отогревания. Эти условия требуют соответствующего выбора экспериментального объекта при разработке протоколов КС нервной ткани. Учитывая, что для клиники при трансплантации требуется интегрированная нервная структура, полагаем, что переживающие срезы мозга являются наилучшими экспериментальными объектами для исследования закономерностей КС теплокровных.
Преимуществами использования срезов мозга является то, что в них сохраняется цитоархитектоника ткани, из которой они изготовлены, взаимодействие клеток происходит как in vivo, а также реален контроль над составом внеклеточной среды. Наилучшим индикатором функционирования нейронной ткани является электрофизиологическое измерение синаптической активности (Cho et al., 2007).
Наш опыт применения срезов мозга обонятельной коры крыс в исследовании процессов КС выявил определенные критические моменты изменений активности глутаматергических синапсов (Mokrushin, 2015; Мокрушин, 2016). Так, при медленных скоростях охлаждения срезов обонятельной коры мозга (0.1—0.125°C/мин) активности НМДА (N-метил-D-аспартат) механизмов значительно редуцировались или блокировались. Увеличение скоростей замораживания/отогревания (2.0, 4.0, 6.0, 9.0°C/мин) приводило к необратимому ингибированию активности НМДА механизмов. Оптимальной глубиной замораживания срезов, как было установлено, являлась температура –10°C.
Результаты показали, что НМДА механизмы являются наиболее уязвимыми к действию факторов КС и их активность не восстанавливалась при отогревании срезов мозга до нормотермических значений, то есть развивались криоповреждения. Важно отметить, что НМДА механизмы являются ключевыми в системе глутаматергической медиаторной системы мозга. Нарушения их функционирования оказывают значительные эффекты не только на трансляцию сенсорных сигналов, но также и на развитие процессов научения, формирования энграмм памяти. Кроме того, расстройства в деятельности этих механизмов усиливают проявление патологических нейродегенеративных заболеваний (Traynelis, Cull-Candy,1990; Obrenovitch, Urenjak, 1997).
Для сохранения активности клеток при КС применяют криопротекторы (КП). Они должны предотвратить криоповреждения клеточной мембраны и клеточных органелл в процессе КС. Однако высокая токсичность наиболее распространенных КП (диметилсульфоксид (ДМСО), этиленгликоль и пропиленгликоль) ограничивает/исключает их использование в протоколах КС, особенно для нервной ткани (Pichugin et al., 2006; Hanslick et al., 2009; Jacob, Torre, 2009; Yuan et al., 2014).
Кроме отсутствия токсичных влияний на ткань, «идеальные» КП не должны влиять на метаболизм. Такие вещества могут быть природными метаболитами, например сахара, аминокислоты, органические кислоты.
В настоящей работе мы исследовали криопротективные свойства вещества эндогенного происхождения L-карнозина. L-карнозин (β-аланил-L-гистидин) ― гидрофильный дипептид, синтезируемый ферментом карнозинсинтаза 1 (CARNS1) из аминокислот, β-аланина (синтезируется в печени) и L-гистидина (получаемый из пищи).
Дипептид обнаружен во всех тканях многих позвоночных (Boldyrev et al., 2013). Однако распределение и клеточная локализация L-карнозина являются тканеспецифичными. Преобладающие концентрации L-карнозина (миллимолярный порядок) выявлены в сердечных и скелетных мышцах, а также в головном мозге (Boldyrev et al., 2013). В отделах головного мозга распределение дипептида также неодинаково. Наибольшие уровни L-карнозина обнаружены в клетках обонятельной луковицы и обонятельной коры (1—2 мМ), тогда как концентрации L-карнозина в нейронах кортикальных структур головного мозга не превышают 0.1 мМ (Hipkiss et al., 1998; Boldyrev et al., 2013). Увеличенные концентрации L-карнозина в мышцах и нейронах обонятельных структур могут указывать на его протекторное действие, что станет очевидным при рассмотрении его эффектов на клеточно-молекулярном уровне.
Для характеристики L-карнозина важно отметить его катаболизм. При действии двух карнозиназ: карнозиндипептидазы 1 (CNDP1) и цитозольной карнозиндипептидазы 2 (CNDP2) ― дипептид деградирует на β-аланин и L-гистидин (Lenney et al., 1982, 1985).
Возвращаясь к протективным свойствам L-карнозина на молекулярно-клеточном уровне, следует отметить его плейотропные положительные свойства. Обнаружено, что L-карнозин действует как активный антиоксидант ― ловушка активных форм кислорода (Kohen et al., 1988; Babizhayev et al., 1994; Boldyrev et al., 2013). Он образует аддукты с альдегидными продуктами окисления липидов, не затрагивая мембраны клеток. Карнозин ингибирует процесс гликелирования и активно захватывает протоны, накапливающиеся при гликолизе (Pepper et al., 2010).
В мышечных клетках L-карнозин снижает накопление лактата и, действуя как протонный буфер, препятствует процессу закисления (Stvolinski et al., 1992). Протективная функция L-карнозина выявлена при его комплексообразовании с тяжелыми металлами, что способствует защите клеточных мембран (Boldyrev et al., 2013; Hasanein, Felegari, 2017; Berezhnoy et al., 2019).
Обнаружено, что L-карнозин модулирует глутаматергическую медиаторную систему и в микромолярных концентрациях активирует АМПА- и НМДА-зависимые механизмы (Khama-Murad et al., 2008). Аппликация L-карнозина на нейроны до ишемии приводила к снижению числа их гибели и тормозила накопление внеклеточного глутамата после ишемии, т. е. дипептид проявлял нейропротективные эффекты на глутаматергические механизмы (Quyang et al., 2016).
При анализе эффектов L-карнозина как потенциального КП в нервной системе следует рассмотреть его влияния на глутаматергические механизмы. Обнаружена колокализация глутамата и L-карнозина в пресинапсах нейронов обонятельной коры и луковицы (Sassoe―Pognetto et al., 1993; Bonfanti et al., 1999). При активации глутаматергических механизмов в синаптическое пространство выделяются оба вещества и, как можно полагать, увеличивают эффективность синаптической передачи, что, действительно, подтвердилось экспериментально. Аппликация L-карнозина в микромолярных концентрациях активировала АМПА- и НМДА-зависимые механизмы в срезах обонятельной коры (Khama―Murad et al., 2008). Во многих работах выявлен нейропротективный эффект L-карнозина на нервных клетках при ишемическом и геморрагическом инсультах. Защитный эффект дипептида наблюдался как в моделях in vitro, так и in vivo (Zemke et al., 2005; Khama―Murad et al., 2011; Zhang et al., 2011; Bae, Majid, 2013; Quyang et al., 2016; Стволинский и др., 2017; Lopachev et al., 2017; Berezhnoy et al., 2019).
На основании приведенных выше данных о протективных свойствах L-карнозина мы высказали гипотезу, что дипептид способен действовать как КП в процессе длительного КС. Правомерность этой гипотезы усиливается тем, что L-карнозин эндогенного происхождения, обладает гидрофильными свойствами и, что особенно важно, нетоксичен.
Для экспериментальной проверки гипотезы были исследованы эффекты L-карнозина на срезах обонятельной коры мозга крыс по следующему плану: влияние на амплитудные характеристики НМДА-зависимых потенциалов; влияние на кислотно-щелочной баланс среды со срезом — буферные свойства; влияние L-карнозина на изменение содержания воды в срезах до и после КС; эффекты L-карнозина на развитие эксайтотоксичности при отогревании срезов после КС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В опытах были использованы крысы-самцы линии Вистар массой 180—200 г. Исследования проведены на тангенциальных срезах обонятельной коры головного мозга крыс-самцов толщиной 400—500 мкм. Крыс декапитировали резаком Н. А. Емельянова (Митюшов и др., 1986; Мокрушин, 1997) и готовили срезы обонятельной коры мозга. Срез переносили в стеклянный флакон объемом 1 мл с искусственным цереброспинальным раствором (ИЦР), составом (мМ): 124.0 NaCl; 5.0 KCl; 2.6 CaCl2; 1.24 KH2PO4; 1.2 MgSO4; 3.0 NaHCO3; 10.0 глюкозы; рН 7.3 при 37°C. Флакон со срезом устанавливали в аппарат Варбурга (Германия) для преинкубации перед проведением КС.
Срез после преинкубации переносили в камеру электрофизиологической установки (Мокрушин, Боровиков, 2017), перфузировали ИЦР со скоростью 2.0 мл/мин и регистровали НМДА потенциалы. При электрической стимуляции латерального обонятельного тракта (ЛОТ) в нормотермических условиях внеклеточно записывались фокальные потенциалы (ФП).
Основные морфологические компоненты среза и локализации электродов показаны на рис. 1а. ФП состоит из нескольких волн, которые отражают активность различных морфологических структур среза (рис. 1б). После артефакта раздражения регистрируется пресинаптическая волна, она свидетельствует об активности волокон ЛОТ. Вслед за ней регистрируются реакции постсинаптических глутаматергических ионотропных рецепторов — альфа-амино-3-гидрокси-5-метилизоксалол-4-пропионовой кислоты (АМПА) и N-метил-D-аспартата (НМДА). В работе изучали изменения активностей только НМДА-зависимых механизмов в виде НМДА потенциалов (рис. 1в). При помощи специфического антагониста D-APV (50 мкМ) к НМДА рецепторам эти потенциалы были выявлены (Мокрушин, 1997; Mokrushin, Pavlinova, 2013).
Рис. 1. Изучение криопротективных свойств L-карнозина на срезах обонятельной коры мозга крыс (а) при измерении амплитуд НМДА потенциалов (б, в). а — схема тангенциального среза обонятельной коры мозга крыс с основными морфологическими структурами и локализациями стимулирующего и регистрирующего электродов: ЛОТ — латеральный обонятельный тракт, СЭ — стимулирующий электрод, ПК — пириформная кора, РЭ — регистрирующий электрод, б — фокальный потенциал, в срезе на электрическую стимуляцию ЛОТ с указанием постсинаптических компонентов: ранний АМПА потенциал и поздний НМДА потенциал (мкВ), в — в увеличенном масштабе НМДА потенциал — индикатор активности НМДА-зависимых механизмов. В работе исследовались только модификации НМДА потенциалов при действии L-карнозина при КС. Пунктирная линия, изолиния — потенциал среза в состоянии покоя; вертикальная стрелка указывает метод измерения амплитуд НМДА потенциала во временной точке 8 мс от артефакта стимуляции. Калибровка — как указано
НМДА потенциалы (мкВ) регистрировали стеклянными микроэлектродами, заполненными 1 M NaCl, с сопротивлением 1—5 МОм. Эти потенциалы возникали в ответ на электрические импульсы, подаваемые на ЛОТ от электростимулятора (ЭСУ-1, Россия) прямоугольной формы, длительностью 0.1 мс, интенсивностью 1—3 В и частотой 0.003 Гц. Далее потенциалы усиливали (НТО, Россия), оцифровывали аналого-цифровым прибором (Е 20—10, Россия) и обрабатывали с помощью компьютерной программы “Анализ электрической активности нейронов” (Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Россия).
pH-метр Seven Compact S220 (Mettler Toledo, США) был применен для определения рН ИЦР до и после КС с точностью 0.1. Измерение температуры среды со срезами до и после КС производили прибором “Измеритель пид-регулятор ТРМ12” (Россия).
Изменение свободной воды в срезах определяли с помощью измерения весов на торсионных весах ВТ-500 (Россия). До КС срезы взвешивали, и эти значения были контрольными и обозначались как Мк (мг). После КС срезы высушивали в сушильном шкафу при 85°C в течение 5 ч, охлаждали в эксикаторе, повторно взвешивали, и значения обозначались как Мвс (мг). Содержание воды в срезах определялось по формуле: Св = Мк — Мвс/Мвс (мг), где: Св — содержание воды в срезах после КС, Мк — вес контрольных срезов до КС, Мвс — вес высушенных срезов после КС.
Дизайн экспериментов был следующим. Срез помещался в проточную камеру электрофизиологической установки (Мокрушин, Боровиков, 2017), и в нем регистрировали амплитуду НМДА потенциалов (мкВ) в течение 20 мин. Цифровые значения амплитуд НМДА потенциалов считали контрольными до КС и принимали за 100 %. Затем срезы перфузировали ИЦР с тем же солевым составом, но с L-карнозином (20 мМ, 20 мин) и регистрировали НМДА потенциалы. Затем срезы замораживали в ИЦР с медленной скоростью (0.1°C/мин) до –10°C и хранили в морозильнике термостата ThermoStat plus (Eppendorf, Германия). Через 30 сут КС срезы отогревали до +37°C с медленной скоростью (0.1°C/мин). Вновь регистрировали НМДА потенциалы и выражали в % по отношению к значениям до КС.
Химические компоненты для приготовления инкубационных растворов были приобретены в фирме “Химреактив” (Россия), L-карнозин (Sigma, США).
Достоверность изменений амплитуд НМДА потенциалов осуществлялись непараметрическим параметром Вилкоксона–Манна–Уитни (U–критерия). Уровень статистической значимости составлял р ≤ 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В начале исследований КС срезов были протестированы нейротропные эффекты L-карнозина на амплитуду НМДА потенциалов. Такие данные требуются, чтобы выявить концентрацию L-карнозина, при которой будут получены стабильные протективные эффекты. При выборе концентрации дипептида мы исходили из того, что концентрация L-карнозина в обонятельной луковице коры и обонятельной коры составляет 1—2 мМ (Boldyrev et al., 2013), а также что исследователи применяют L-карнозин в концентрациях 0.05—2.0 мМ. В наших опытах диапазон экзогенно апплицируемого дипептида был 0.05—30.0 мМ (рис. 2). При аппликации L-карнозина в концентрациях 0.05—0.5 мМ наблюдалось увеличение амплитуды НМДА потенциалов на 8—10 % по сравнению с контролем. При концентрациях L-карнозина 20—30 мМ происходило статистически недостоверное увеличение амплитуд НМДА потенциалов по сравнению с контролем (рис. 2).
Рис. 2. Влияние аппликации L-карнозина в разной концентрации на амплитуду НМДА потенциалов в срезах обонятельной коры крыс. Ось абсцисс — шкала условная. Разные концентрации L-карнозина испытывались на отдельной группе срезов (n = 12). Изменения амплитуд НМДА потенциалов по отношению к значениям до КС (контроль) оценивали непараметрическим U–критерием Вилкоксона–Манна–Уитни, р ≤ 0.05 (*)
Важно отметить, что полученные данные указывают на отсутствие каких-либо токсических влияний L-карнозина на активность НМДА механизмов, что усиливает свойство дипептида как КП.
Далее было испытано влияние L-карнозина на поддержание кислотно-щелочного баланса среды, в которой проводилось КС срезов. Это необходимо, поскольку, как было обнаружено, одной из причин криоповреждения НМДА механизмов является увеличение кислотности среды до рН 6.5 (вместо рН 7.2—7.4 в норме) и блокада НМДА потенциалов (Мокрушин, 2022). Для этого срезы инкубировались в ИЦР (20 мин, +37°C) с L-карнозином (20 мМ).
L-карнозин до КС не оказывал воздействия на рН ИЦР. После КС отмечалось возрастание рН до 7.4 (рис. 3(а)), но оно было в диапазоне рН оптимальным для НМДА механизмов (рН 7.2—7.4 — на рис. 3(а) отмечено серым фоном).
Рис. 3. Воздействия преинкубации срезов в контроле без L-карнозина и с L-карнозином (20 мМ) на кислотно-щелочной уровень (рН) ИЦР до и после окончания КС (а), серым фоном — оптимальные диапазоны рН (рН 7.2—7.4), при которых поддерживаются амплитуды НМДА потенциалов, n = 7. Эффекты преинкубации срезов в контроле без L-карнозина и с L-карнозином (20 мМ) на модификацию амплитуд НМДА потенциалов до и после КС (б), достоверность различий значений рН замораживающего раствора (L-карнозин 20 мМ после КС) по сравнению со значениями до КС (контроль до КС без L-карнозина) определяли непараметрическим U–критерием Вилкоксона–Манна–Уитни, n = 7
Добавление дипептида в ИЦР не оказывало влияние на амплитуду НМДА потенциалов до КС (рис. 3(б), «карнозин 20 мМ»). После КС с L-карнозином амплитуда НМДА потенциалов незначительно снижалась, но недостоверно по сравнению до КС с L-карнозином и без него (рис. 3(б), «карнозин 20 мМ после КС»). Следовательно, L-карнозин модифицирует рН ИЦР в процессе КС и таким способом проявляет свойства эффективного регулятора протонов в качестве КП.
Одной из ключевых характеристик КП является дегидратация свободной воды из клеток для снижения криоповреждения клеточных мембран. Поэтому в следующей серии экспериментов мы регистрировали изменения содержания воды (набухание) в срезах после КС с использованием L-карнозина. Важным условием опытов было использование медленной скорости 0.1°C/мин при замораживании и последующего отогревания.
После КС в контрольных опытах без применения L-карнозина наблюдалось увеличение веса срезов на 20±7 % (рис. 4(а), «после КС без карнозина»), что свидетельствует о возрастании гидратации клеток срезов. В этих условиях были оценены активности НМДА механизмов, и для этого были измерены амплитуды НМДА потенциалов. Оказалось, что они значительно снижались и составляли 5±1 % по сравнению с контрольными значениями 100±10 % до КС (р ≤ 0.05, U = 7, n = 12) (рис. 4(б), «после КС без карнозина»).
Рис. 4. Изменения содержания свободной воды (набухание — вес срезов, мг) в срезах под влиянием L-карнозина (20 мМ) до и после КС (а), n = 5. Эффекты набухания среза под влиянием L-карнозина (20 мМ) на изменения амплитуд НМДА потенциалов до и после КС (б). Различия амплитуд НМДА потенциалов по сравнению со значениями до КС («контроль до КС») и после КС («без карнозина» и после КС с «карнозином, 20 мМ») определяли непараметрическим U–критерием Вилкоксона–Манна–Уитни, n = 5
Для снижения гидратации (набухания) клеток срезов они инкубировались с L-карнозином в ИЦР до КС (рис. 4(а)). После КС без L-карнозина вес срезов возрастал (121±7 % против 100 % в контроле, р ≤ 0.05, U = 7, n = 16) (рис. 4 (а)). Преинкубация срезов с L-карнозином приводила к тому, что их веса статистически не отличались от контроля: 108±6 % против 100 % в контроле, р ≥ 0.05, U = 7, n = 16 (рис. 4(а)).
Такие изменения гидратации срезов в присутствии L-карнозина способствовали сохранению НМДА потенциалов после КС (рис. 4 (б), «после КС L-карнозин 20 мМ»). Амплитуда НМДА потенциалов до КС составляла в контроле 100±11 %, а после КС была 93±8 %. Статистически эти значения не отличались от значений до КС (р ≤ 0.05, U = 27, n = 12).
Эти данные указывают, что L-карнозин индуцировал выход свободной воды из срезов как при их замораживании, так и при отогревании. Такие процессы создают благоприятные условия для сохранения активности НМДА механизмов в процессе КС.
Полученные данные доказывают, что L-карнозин способствовал выходу свободной воды из срезов в процессе КС. Индуцированная дегидратация дипептидом содействовала сохранению активности НМДА механизмов в процессе КС. Это доказывает криопротективный характер L-карнозина.
Известно, что при действии стрессорных факторов на биологические объекты развиваются стресс-реакции, которые могут иметь негативные последствия для их последующего функционирования. В нервной системе развивается эксайтотоксичность, приводящая к гибели нейронов и впоследствии — всей нейросети. Исходя из этих сведений, мы испытали эффекты L-карнозина в процессе отогревания срезов и надеялись получить ответ о его протективных эффектах от действия факторов эксайтотоксичности при КС.
Вначале были изучены изменения НМДА потенциалов без применения L-карнозина. В результате проведенных опытов было обнаружено, что амплитуда НМДА потенциалов менялась куполовидно при отогревании срезов (рис. 5, «кривая без L-карнозина»). Амплитуды НМДА потенциалов существенно увеличивались в диапазоне температур от +21°C до +26°C (137±4 % и 139±5 % соответственно). Далее происходил спад амплитуд НМДА потенциалов и, при +37°C составляла 37±4 % от контрольного уровня до КС (рис. 5).
Рис. 5. Тестирование L-карнозина (20 мМ) на возникновение эксайтотоксичности в срезах мозга в процессе отогревания после КС. По оси абсцисс — температуры раствора, при которых проводились измерения амплитуд НМДА потенциалов, шкала неравномерная, n = 9. Скорость отогревания срезов — 0.1 оC/мин. Остальные обозначения — на рисунке. Различия амплитуд НМДА потенциалов по отношению к значениям до КС (контроль) определяли непараметрическим U–критерием Вилкоксона–Манна–Уитни, р ≤ 0.05 (*)
Преинкубация срезов до КС с L-карнозином в ИЦР, так же как и без него, сопровождалась сохранением куполовидной формы кривой модификаций амплитуд НМДА потенциалов, но их характер был иной (рис. 5, кривая «L-карнозин, 20 мМ»). Максимумы амплитуд НМДА потенциалов находились в диапазоне температур от +16°C до +21°C и составляли 120±5 % и118±7 % соответственно. Продолжающееся отогревание срезов (от +26°C до +37°C) сопровождалось плавным снижением значением амплитуд, и при +37°C они не отличались от контрольных значений до КС (рис. 5).
Полученные результаты указывают на гиперактивацию НМДА механизмов без L-карнозина, что свидетельствует о развитии эксайтотоксичности без применения L-карнозина. Дипептид ингибировал развитие гиперактивации НМДА механизмов и тем самым протектировал активность этих механизмов.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной работе мы впервые представили характеристики L-карнозина как КП для нервной ткани в процессе длительного КС теплокровных негибернирующих животных. Для того чтобы выявить криопротективные свойства L-карнозина, мы исследовали его эффекты на сохранение активностей НМДА-зависимых механизмов как наиболее уязвимых к действию длительного КС.
Были изучены эффекты L-карнозина как потенциального КП в четырех аспектах: влияние на амплитудные характеристики НМДА потенциалов срезов мозга; влияние на кислотно-щелочной баланс среды со срезом — буферные свойства; влияние L-карнозина на содержание воды в срезах до и после КС; эффекты L-карнозина на развитие эксайтотоксичности при отогревании срезов после КС. Необходимость такого плана работ была выработана в ходе предыдущих исследований КС срезов мозга крыс.
Главным требованием любого химического вещества, применяемого в качестве КП, является отсутствие или минимальная токсичность. По сравнению с диметилсульфоксид (ДМСО), который является «золотым стандартом» КП, установлено, что он токсичен для разных типов живых тканей (Awan et al., 2020). При испытаниях ДМСО на нервных клетках в процессе КС он оказался наихудшим в ряду других КП (Пичугин, 2013).
L-карнозин, в отличие от ДМСО и других КП, имеет бесспорные достоинства. Он эндогенного происхождения и, как показали исследования, in vivo не токсичен (Caruso, 2022). Дипептид обладает высокой биосовместимостью с окружающими тканями. В организме он под действием карнозина распадается на β-аланил и L-гистидин, которые вовлекаются в участие в других процессах. Первая из них включается в состав многих белковых молекул, в печени она трансформируется в глюкозу. L-гистидин — незаменимая аминокислота, содержится в молекуле гемоглобина, используется в синтезе гистамина, проявляет протективные свойства при восстановлении поврежденных тканей. При недостатке этой аминокислоты отмечены ухудшение когнитивных способностей, анемия. В срезах обонятельной коры L-карнозин не влиял на амплитуду НМДА потенциалов при концентрациях, превышающих значения in vivo.
При обсуждении результатов исследований КС важно отметить обязательный прием удаления токсичных КП из замораживающей среды при отогревании, который часто используется в клинике. Однако, как показали исследования, этот прием может нанести дополнительное повреждение структур ткани (Elliott et al., 2017; Dludla et al., 2018). В наших исследованиях L-карнозин не удалялся из ИЦР при отогревании, что не препятствовало сохранению активности НМДА-зависимых механизмов после КС.
Одним из повреждающих факторов при КС является изменение кислотно-щелочного баланса ИЦР. Нами было обнаружено, что при отогревании ИЦР со срезом закислялся до рН 6.5 и при этих значениях активность НМДА-зависимых механизмов необратимо блокировалась (Мокрушин, 2022). Учитывая, что L-карнозин обладает буферными свойствами (Boldyrev et al., 2013), мы проверили возможность дипептида регулировать кислотно-щелочной баланс в процессе КС. В результате проведенных исследований было обнаружено, что L-карнозин после КС оптимизировал кислотно-щелочной баланс с рН 6.9 до рН 7.3—7.4 ИЦР и способствовал сохранению активности НМДА-зависимых механизмов.
Общепринято считать, что одним из защитных механизмов КП является способность к дегидратации (вытеснению молекул воды из клетки). Известно, что свободная вода в живых тканях является причиной разрушения клеточных мембран кристаллами льда, как в процессе замораживания, так и при отогревании. Для уменьшения вероятности образования внутриклеточного льда вода должна покидать клетку при понижении температуры (Mazur, 1963).
Установлено, что этот процесс зависит от скорости замораживания. Медленные скорости (<1°C мин-1) способствуют дегидратации клеток и предотвращают образование кристаллов льда внутри клеток. Напротив, максимальная вероятность формирования кристаллов возникает при высоких скоростях, и эти условия отражаются на выживаемости клетки по закономерности Мазура (Mazur, 1970): скорость охлаждения пропорциональна вероятности образования внутриклеточного льда и обратно пропорциональна выживаемости клетки.
Мы протестировали «способность» L-карнозина к дегидратации свободной воды из срезов при медленной скорости охлаждения (0.1°C/мин). В результате было выявлено, что L-карнозин стимулировал дегидратацию свободной воды из срезов после КС и, что особенно важно, помогал сохранению амплитуды НМДА потенциалов после КС. Отметим, что без L-карнозина амплитуды НМДА потенциалов были редуцированы на 95 % до КС. Таким образом, удалось выявить, что комбинированное применение медленной скорости замораживания (0.1°C/мин) и добавление в среду L-карнозина способствовали сохранению НМДА-зависимых механизмов. Вероятный протективный механизм L-карнозина как внутриклеточного КП является его взаимодействие с молекулами воды с образованием водородных связей. Температура замерзания воды снижается, и меньше молекул воды доступно для взаимодействия друг с другом для образования кристаллов льда (Mandumpal et al., 2010).
Криозащитные вещества подразделяются на две основные категории, а именно: проникающие и непроникающие агенты, которые защищают клетки с помощью различных механизмов (Matsumura et al., 2021).
К непроникающим КП относят олигосахариды: наиболее часто используют сахарозу, трегалозу, поливинилпирролидон, раффинозу, полиэтиленгликоль (Eroglu, 2010; Bartolac et al., 2018).
В отличие от непроникающих КП, L-карнозин является проникающим КП, поскольку он переносится через мембраны белками из семейства протонно-связанных олигопептидных переносчиков (POT), а также белков SLC15 (Matsumura et al., 2021).
Сравним протективные свойства L-карнозина и часто используемой в качестве КП трегалозы. Молярные массы этих веществ примерно одинаковы: карнозин — 226.3 г/моль, трегалоза — 342.296 г/моль. Трегалоза, природный нетоксичный дисахарид, хорошо зарекомендовала себя при КС различных типов клеток. Однако она с трудом проходит через мембраны клеток. Для усиления криопротективного эффекта ее необходимо доставлять в клетки с помощью различных стратегий (Eroglu et al., 2000, 2002), которые могут нарушить нормальное функционирование мембран нервных клеток, синапсов и внутриклеточных органелл.
При анализе полученных данных о криопротективных свойствах L-карнозина была использована концентрация L-карнозина(20 мМ), десятикратно превышающая его содержание в обонятельной луковице (1—2 мМ). При исследовании эффектов аппликации L-карнозина на амплитуду НМДА потенциалов в нормотермических условиях мы обнаружили, что малые концентрации дипептида (0.05—0.5 мМ) вызывали увеличение амплитуд по сравнению с большими (10—30 мМ). Этот феномен относится к парадоксальным эффектам действия малых и сверхмалых доз биологически активных веществ, которые наблюдаются для гормонов и пептидов (Долгов и др., 2003). Интерпретации этих эффектов неоднозначны. Так, полагают, что такие эффекты связаны с адаптационными реакциями клеток, которые отвечают не на величину действующей концентрации, а на изменения концентрации вещества в малых и сверхмалых дозах (Сазонов, Зайцев, 1992). Другие исследователи приходят к выводу, что для достижения эффекта достаточно, чтобы до клеток доходили самые “быстрые” молекулы действующего вещества из общего распределения, а не все молекулы (Бурлакова и др., 1990). И. П. Ашмарин и сотрудники сформировали представление об основных механизмах для реализации эффектов сверхмалых концентраций веществ: а) системы каскадные, амплифицирующие сигнал; б) собирательные, “отлавливающие” системы; в) накопители и транспортеры сигнальных молекул; г) супераффинные рецепторы (Ашмарин и др., 1996).
В контексте исследований L-карнозина в качестве КП мы на начальных этапах применяли малые концетрации L-карнозина (0.05—0.5 мМ), надеясь получить надежные криопротекторные эффекты НМДА-зависимых механизмов после КП, однако они не были выявлены.
Для получения надежного криопротективного эффекта мы полагали, что L-карнозин действует не только как проникающий, но и как внешний КП. Были приняты во внимание обменные процессы L-карнозина. Дипептид во внеклеточной среде распадается под действием карнозиндипептидазы 1 (CNDP1) и цитозольной карнозиндипептидазы 2 (CNDP2) (Teufel et al., 2003). Как меняется активность этих ферментов в срезах во время замораживания/отогревания, неизвестно. Поэтому для повышения эффективности криопротективных свойств L-карнозина была увеличена его концентрация до 20 мМ.
Одной из причин криоповреждения НМДА механизмов при действии КС является развитие глутаматной эксайтотоксичности. Этот процесс возникает в результате гиперактивации глутаматных ионотропных АМПА и НМДА рецепторов при действии на них глутамата и индуцирует развитие нейротоксических процессов (Szydlowska, Tymianski, 2010; Mehta et al., 2013). Установлено, что эксайтотоксичность является общим компонентом в механизмах ишемии и гипотермии (Vincent, Mulle, 2009; Warren et al., 2012; Mehta et al., 2013; Namura et al., 2013).
На основании приведенных выше данных можно предполагать, что L-карнозин, выполняя функцию КП, должен проявлять протективные свойства при развитии глутаматной токсичности. Для получения ответа на этот вопрос мы исследовали динамику изменений амплитуд НМДА потенциалов в процессе отогревания срезов после КС при действии дипептида.
В контрольных опытах без использования L-карнозина амплитуда НМДА потенциалов изменялась двухфазно. В первой фазе в диапазоне температур от +21°C до +26°C амплитуды НМДА потенциалов достигали максимальных значений. Эти данные указывают на гиперактивацию НМДА-зависимых механизмов и развитие процесса эксайтотоксичности. Во второй фазе отогревания срезов происходило резкое снижение амплитуд НМДА потенциалов, и при +37°C она составляла лишь одну треть от значений до КС, что свидетельствует об активации глутаматных рецепторов, притоке избытка ионов кальция в клетки и их эксайтотоксической гибели (Warren et al., 2012).
Добавление L-карнозина (20 мМ) в ИЦР сопровождалось кратковременным небольшим увеличением амплитуд НМДА потенциалов в диапазоне температур от +16оС до +21оС, но их значения были меньше, чем без L-карнозина. При достижении +37°C их значения не отличались от уровня до КС. Следовательно, дипептид проявляет еще один значительный, особенно значимый, криопротективный эффект — ингибирует развитие глутаматной эксайтотоксичности в процессе КС.
Итак, проведенные исследования доказывают, что L-карнозин является нетоксичным КП теплокровных негибернирующих животных. L-карнозин оптимизировал рН замораживающего раствора после КС. Он способствовал удалению свободной воды из срезов; блокировал глутаматную эксайтотоксичность.
Для нервной системы теплокровных результаты применения L-карнозина как КП получены впервые как в России, так и за рубежом. Вместе с тем планируются дальнейшие исследования по изучению криопротективных свойств L-карнозина. Одним из направлений работ является увеличение биодоступности L-карнозина и времени его активности в тканях с использованием селективных ингибиторов карнозиназ (Qiu et al., 2019). Будут предприняты усилия для получение подобного эффекта с применением анзерина с эквивалентными физиологическими функциями L-карнозина (Boldyrev et al., 2013). Установлено, что этот аналог не расщепляется карнозиназой, которая в большой концентрации содержится в сыворотке крови человека и значительно снижает биодоступность L-карнозина (Kubomura et al., 2009).
Планируется исследовать криопротективные свойства новосинтезированных «гибридных» молекул липоил-карнозин, аспероил-карнозин (Институт мозга), которые также устойчивы к гидролизу карнозиназой. Все эти и другие исследования будут направлены для создания надежного криобанка нервной ткани и использования в клинике для трансплантации.
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор признателен Г. П. Смирновой за помощь в проведении экспериментов и С. Е. Боровикову за техническую помощь в настройке и обслуживании электрофизиологической установки.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Протокол исследования на животных одобрен Этическим комитетом Института физиологии им. И. П. Павлова РАН (шифр протокола № 08/10, дата утверждения — 8 октября 2020 г.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при поддержке Госпрограммы 47 ГП «Научно-технологическое развитие Российской Федерации” (2019—2030), тема 65.1 “Исследование интегративных механизмов развития адаптивных и патологических состояний мозга при экстремальных воздействиях». 0134-2019-0002.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Как автор данной работы, я заявляю, что у меня нет конфликта интересов.
About the authors
A. A. Mokrushin
Institute of Physiology, I. P. Pavlov, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: mok@inbox.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
References
- Ашмарин И.П., Каразеева Е.П., Лелекова Т.В. Проблемы эффективности ультрамалых доз и концентраций эндогенных и экзогенных веществ // Нейроиммунология, эпидемиология и интерферонология рассеянного склероза. СПб. 1996. С. 29—34.
- Бурлакова Е.Б., Конрадов А.А., Худяков И.В. Воздействие химических агентов в сверхмалых дозах на биологические объекты // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1990. № 2. С. 184—193.
- Долгов Г.В., Куликов С.В., Легеза В.И., Малинин В.В., Морозов В.Г., Смирнов В.С., Сосюкин А.Е. Клиническая фармакология Тимогена. СПб.: Наука. 2003. 106 с.
- Митюшов М.И., Емельянов Н.А., Мокрушин А.А. Переживающий срез мозга как объект нейрофизиологического и нейрохимического исследования. Л.: Наука. 1986. 127 с.
- Мокрушин А.А. Пептид-зависимые механизмы нейрональной пластичности в обонятельной коре: Дис. д-ра биол. наук. Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН. СПб. 1997. 397 с.
- Мокрушин А.А. Эффекты глубокого замораживания и отогревания на ионотропные глутаматергические рецепторные механизмы in vitro // Бюлл. экспер. биол. мед. 2016. Т. 161. С. 36—42.
- Мокрушин А.А., Боровиков С.Е. Установка для изучения гипотермических эффектов на переживающих срезах мозга теплокровных // Междунар. журн. прикл. фундам. исслед. 2017. Т. 2. С. 214.
- Мокрушин А.А. Улучшение кислотно-щелочного состава среды для длительного и обратимого криосохранения срезов мозга крыс // Цитология. 2022. Т. 64. С. 96—102. doi: 10.31857/S0041377122010084
- Пичугин Ю.И. Теоретические и практические аспекты современной криобиологии. Москва. 2013. С. 60—62.
- Сазонов Л А., Зайцев С.В. Действие сверхмалых доз (10–18—10–14 М) биологически активных веществ: общие закономерности, особенности и возможные механизмы // Биохимия. 1992. Т. 57. С. 1443—1460.
- Стволинский С.Л., Федорова Т.Н., Девятов А.А., Медведев О.С. Нейропротективное действие карнозина в условиях экспериментальной фокальной ишемии/реперфузии головного мозга // Журнал неврологии и психиатрии. 2017. Т. 12. С. 60—64. doi: 10.17116/jnervo201711712260-64
- Awan M., Buriak I., Fleck R., Fuller B., Goltsev A. Dimethyl sulfoxide: a central player since the dawn of cryobiology, is efficacy balanced by toxicity? // Regen. Med. 2020. V. 15. P. 1463—1491. doi: 10.2217/rme-2019-0145.
- Babizhayev M.A., Seguin M.C., Gueyne J., Evstigneeva R.P., Ageyeva E.A. L-carnosine (beta-alanyl-L-histidine) and carcinine (beta-alanylhistamine) act as natural antioxidants with hydroxyl-radical-scavenging and lipid-peroxidase activities // Biochem J. 1994. V. 304 (Pt 2). P. 509—516. doi: 10.1042/bj3040509.
- Bae O., Majid A. Role of histidine/histamine in carnosine-induced neuroprotection during ischemic brain damage // Brain Res. 2013. V. 1527. P. 246—254. doi: 10.1016/j.brainres.2013.07.004.
- Bartolac L.K., Lowe J.L., Koustas G., Grupen C.G. Effect of different penetrating and non-penetrating cryoprotectants and media temperature on the cryosurvival of vitrified in vitro produced porcine blastocysts // Anim. Sci. J. 2018.V. 89. P. 1230—1239. doi: 10.1111/asj.12996.
- Berezhnoy D.S., Stvolinsky S.L., Lopachev A.V., Kulikova O.I., Abaimov D.A., Fedorova T.N. Carnosine as an effective neuroprotector in brain pathology and potential neuromodulator in normal conditions // Amino Acids. 2019. V. 51. P. 139—150. doi: 10.1007/s00726-018-2667-7.
- Boldyrev A.A., Aldini G., Derave W. Physiology and pathophysiology of carnosine // Physiol. Rev. 2013. V. 93. P. 1803—1845. doi: 10.1152/physrev.00039.2012.
- Bonfanti L., Peretto P., De M.S., Fasolo A. Carnosine-related dipeptides in the mammalian brain // Prog. Neurobiol. 1999. V. 59. P. 333—353. doi: 10.1016/s0301-0082(99)00010-6.
- Caruso G. Unveiling the hidden therapeutic potential of carnosine, a molecule with a multimodal mechanism of action: a position paper // Molecules. 2022. V. 27. P. 1—14. doi: 10.3390/molecules27103303.
- Cho S., Wood A., Bowlby M.R. Brain Slices as Models for Neurodegenerative Disease and Screening Platforms to Identify Novel Therapeutics // Current Neuropharmacology. 2007. V. 5. P. 19—33.
- Dludla P.V., Jack B., Viraragavan A., Pheiffer C. A dose-dependent effect of dimethyl sulfoxide on lipid content, cell viability and oxidative stress in 3T3-L1 adipocytes // Toxicol. Rep. 2018. V. 5. P. 1014—1020. doi: 10.1016/j.toxrep.2018.10.002. eCollection 2018.
- Elliott G.D., Wang S., Fuller B.J. Cryoprotectants: a review of the actions and applications of cryoprotective solutes that modulate cell recovery from ultra-low temperatures // Cryobiology. 2017. V. 76. P. 74—91. doi: 10.1016/j.cryobiol.2017.04.004.
- Eroglu A., Russo M.J., Bieganski R., Fowler A. Intracellular trehalose improves the survival of cryopreserved mammalian cells // Nat. Biotechnol. 2000. V. 18. P. 163—167. doi: 10.1038/72608.
- Eroglu A., Toner M., Toth T.L. Beneficial effect of microinjected trehalose on the cryosurvival of human oocytes // Fertility and Sterility. 2002. V. 77. P. 152—158. doi: 10.1016/s0015-0282(01)02959-4.
- Eroglu A. Cryopreservation of mammalian oocytes by using sugars: intra- and extracellular raffinose with small amounts of dimethylsulfoxide yields high cryosurvival, fertilization, and development rates // Cryobiology. 2010.V. 60. P. S54–S59.doi: 10.1016/j.cryobiol.2009.07.001.
- Giwa S., Lewis J.K., Alvarez L., Langer R., Roth A.E. The promise of organ and tissue preservation to transform medicine // Nat. Biotechnol. 2017. V. 35. P. 530—542. doi: 10.1038/nbt.3889.
- Hanslick J.L., Lau K., Noguchi K.K., Olney J.W. Dimethyl sulfoxide (DMSO) produces widespread apoptosis in the developing central nervous system // Neurobiol. Dis. 2009. V. 34. P. 1—10. doi: 10.1016/j.nbd.2008.11.006.
- Hasanein P., Felegari Z. Chelating effects of carnosine in ameliorating nickel-induced nephrotoxicity in rats // Can. J. Physiol.Pharm. 2017. V. 95. P. 1426—1432.
- Hipkiss A.R., Preston J.E., Himsworth D.T., Worthington V.C. Pluripotent protective effectsof carnosine, a naturally occurring dipeptide // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1998. V. 854. P. 37—53. doi: 10.1111/j.1749-6632.1998.tb09890.x.
- Jacob S.W., de la Torre J.C. Pharmacology of dimethyl sulfoxide in cardiac and CNS damage // Pharmacol Rep. 2009. V. 61. P. 225—235. doi: 10.1016/s1734-1140(09)70026-x.
- Khama-Murad A.X., Pavlinova L.I., Mokrushin A.A. Neurotropic effect of exogenous L-carnosine in cultured slices of the olfactory cortex from rat brain // Bull. Exp. Biol. Med. 2008. V. 146. P. 1—3. doi: 10.1007/s10517-008-0227-y
- Khama-Murad A., Mokrushin A., Pavlinova L. Neuroprotective properties of L-carnosine in the brain slices exposed to autoblood in the hemorrhagic stroke model in vitro // Regul. Pept. 2011. V. 167. P. 65—69. doi: 10.1016/j.regpep.2010.11.007.
- Kubomura D., Matahira Y., Masui A. Intestinal absorption and bloodclearance of L-histidine-related compounds after ingestion of anserine in humans and comparison to anserine-containing diets // J. Agric. Food Chem. 2009. V. 57. P. 1781—1785. doi: 10.1021/jf8030875.
- Kohen R., Yamamoto Y., Cundy K.C., Ames B.N. Antioxidant activity of carnosine, homocarnosine, and anserine present in muscle and brain // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1988. V. 85. P. 3175—3179.
- Lenney J.F., George R.P., Weiss A.M., Kucera C.M., Chan P.W., Rinzler G.S. Human serum carnosinase: Characterization, distinction from cellular carnosinase, and activation by cadmium // Clin. Chim. Acta. 1982. V. 123. P. 221—231.
- Lenney J.F., Peppers S.C., Kucera-Orallo C.M., George R.P. Characterization of human tissue carnosinase // Biochem. J. 1985. V. 228. P. 653—660.
- Lopachev A.V., Lopacheva O.M., Akkuratov E.E., Stvolinski S.L., Fedorova T.N. Carnosine protects a primary cerebellar cell culture from acute NMDA toxicity // Neurochemical Journal. 2017. V. 11. P. 38—42. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173457.
- Mandumpal J.B., Kreck C.A., Mancera R. A molecular mechanism of solvent cryoprotection in aqueous DMSO solutions // Phys. Chem. Chem. Phys. 2010. V.13. P. 3839—3842. doi: 10.1039/c0cp02326d.
- Matsumura K., Hayashi F., Nagashima T. Molecular mechanisms of cell cryopreservation with polyampholytes studied by solid-state NMR // Communications Materials. 2021. V. 2. P. 116—121.
- Mazur P. Kinetics of water loss from cells at subzero temperatures and the likelihood of intracellular freezing // J Gen. Physiol. 1963. V. 47. P. 347—369. doi: 10.1085/jgp.47.2.347.
- Mazur P. Cryobiology: the freezing of biological systems // Science. 1970. V. 168. P. 939—949. doi: 10.1126/science.168.3934.939.
- Mehta A., Prabhakar M., Kumar P. Excitotoxicity: Bridge to various triggers in neurodegenerative disorders // European Journal of Pharmacology. 2013. V. 698. P. 6—18. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.10.032.
- Mokrushin A.A., Pavlinova L.I. Effects of the blood components on the AMPA and NMDA synaptic responses in brain slices in the onset of hemorrhagic stroke // Gen. Physiol. Biophys. 2013. V. 32. P. 489—504. doi: 10.4149/gpb_2013038.
- Mokrushin A.A. Effects cryopreservation of ionotropic glutamatergic receptor mechanisms in vitro // CryoLetters. 2015. V. 36. P. 353—362.
- Namura S., Ooboshi H., Liu J. Neuroprotection after cerebral ischemia // Ann. N Y Acad. Sci. 2013. V. 1278. P. 25—32. doi: 10.1111/nyas.12087.
- Obrenovitch T.P., Urenjak J. Altered glutamatergic transmission in neurological disorders: from high extracellular glutamate to excessive synaptic efficacy // Progress Neurobiology. 1997. V. 51. P. 39. doi: 10.1016/s0301-0082(96)00049-4.
- Pepper E.D., Farrell M.J., Nord G., Finkel S.E. Antiglycation effects of carnosine and other compounds on the long-term survival of escherichia coli // Appl. Env. Microbiol. 2010. V. 76. P. 7925—7930. doi: 10.1128/AEM.01369-10.
- Pichugin Y., Fahy G.M., Morin R. Cryopreservation of rat hippocampal slices by Vitrification // Cryobiology. 2006. V. 52. P. 228—240. doi: 10.1016/j.cryobiol.2005.11.006.
- Qiu J., Hauske S.J., Zhang S. Identification and characterisation of carnostatine (san9812), a potent and selective carnosinase (cn1) inhibitor with in vivo activity // Amino Acids. 2019. V. 51. P. 7—16. doi: 10.1007/s00726-018-2601-z.
- Quyang L., Tian Y., Bao Y., Xu H., Cheng J. Carnosine decreased neuronal cell death through targeting glutamate system and astrocyte mitochondrial bioenergetics in cultured neuron/astrocyte exposed to ogd/recovery // Brain Res. Bull. 2016. V. 124. P. 76—84. doi: 10.1016/j.brainresbull.2016.03.019.
- Sassoe-Pognetto M., Cantino D., Panzanelli P., Verdundi C.L. Presynaptic co-localization of carnosine and glutamate in olfactory neurons // Neuroreport. 1993. V. 5. P. 7—10. doi: 10.1097/00001756-199310000-00001.
- Stvolinski S.L., Dobrota D., Mezeshova V., Lipta˘ı. T., Pronaıova N., Zalibera L., Boldyrev A. A. Carnosine and anserine in working muscles-study using proton NMR spectroscopy // Biokhimiia. 1992. V. 57. P. 1317—1323.
- Szydlowska K., Tymianski M. Calcium, ischemia and excitotoxicity // Cell calcium. 2010. V. 47. P. 122—129. doi: 10.1016/j.ceca.2010.01.003.
- Taylor M.J., Weegman B.P., Baicu S.C., Giwa S.E. New approaches to cryopreservation of cells, tissues, and organs // Transfus. Med. Hemotherapy. 2019. V. 46. P. 197—215. doi: 10.1159/000499453.
- Traynelis S.F., Cull-Candy S.D. Proton inhibition of N-methyl-D-aspartate receptor in cerebellar neurons // Nature. 1990. V. 345. P. 347. doi: 10.1038/345347a0.
- Teufel M., Saudek V., Ledig J.P. Sequence identification and characterization of human carnosinase and a closely related non-specific dipeptidase // J. Biol. Chem. 2003. V. 278. P. 6521—6531. doi: 10.1074/jbc.M209764200.
- Vincent P., Mulle C. Kainate receptors in epilepsy and excitotoxicity // Neuroscience. 2009. V. 158. P. 309—323. doi: 10.1016/j.neuroscience.2008.02.066.
- Warren D., Bickler P., Clark J., Gregersen M. Hypothermia and rewarming injury in hippocampal neurons involves intracellular Ca2+ and glutamate excitotoxicity // Neuroscience. 2012. V. 207. P. 316—325. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.12.034.
- Whaley D., Damyar K., Witek R.P., Mendoza A. Cryopreservation: An Overview of Principles and Cell-Specific Considerations // Cell Transplant. 2021. V. 30. P. 963689721999617. doi: 10.1177/0963689721999617.
- Yuan C., Gao J., Guo J., Bai L., Marshall C. Dimethyl sulfoxide damages mitochondrial integrity and membrane potential in cultured astrocytes // PLoS ONE. 2014. V. 9. P. e107447. doi: 10.1371/journal.pone.0107447. eCollection 2014.
- Zhang X., Song L., Cheng X., Yang Y., Luan B., Jia L. Carnosine pretreatment protects against hypoxia-ischemia brain damage in the neonatal rat model // Eur. J. Pharm. 2011. V. 667. P. 202—207. doi: 10.1016/j.ejphar.2011.06.003.
- Zemke D., Krishnamurthy R., Majid A. Carnosine is neuroprotective in a mouse model of stroke // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2005. V. 25. P. S313.
Supplementary files