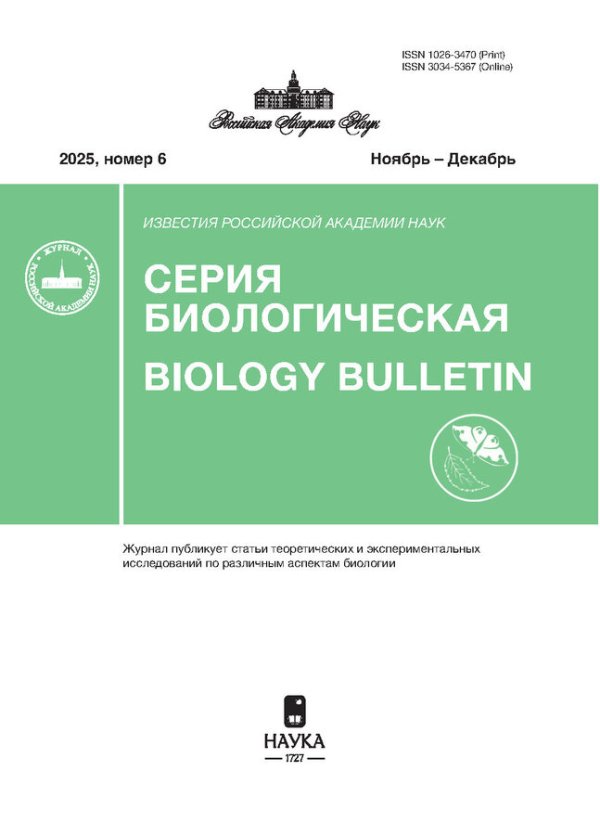Effect of the lipid extract from the marine green algae Codium fragile (Suringar) Hariot 1889 on metabolic reactions under acute stress
- Authors: Fomenko S.E.1, Kushnerova N.F.1, Sprygin V.G.1, Drugova E.S.1, Lesnikova L.N.1, Merzlyakov V.Y.1
-
Affiliations:
- V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 161-171
- Section: BIOCHEMISTRY
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-3470/article/view/261355
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026347024020015
- EDN: https://elibrary.ru/WDLPPY
- ID: 261355
Cite item
Full Text
Abstract
It was studied the effect of a lipid extract isolated from the marine green algae Codium fragile (Suringar) Hariot on the liver and blood biochemical indicators in mice under impact of acute stress (vertical fixation by the dorsal neck fold). The pharmacological effect of the C. fragile lipid extract was manifested in the restoration of lipid and carbohydrate metabolism, as well as in the normalization of the indicators of the endogenous antioxidant defense system under stress effect. The biological activity of the lipid extract of C. fragile, probably, is due to the action of its constituent polyunsaturated fatty acids of the ω-3 and ω-6 families. The lipid extract of C. fragile was not inferior to the reference Omega-3 preparation in restoring the body’s metabolic reactions caused by the impact of the stress, however, it showed higher antioxidant activity.
Keywords
Full Text
Морские водоросли являются источником разнообразных соединений с высокой биологической активностью, что создает предпосылки для потенциального применения их в пищевой, косметической, фармацевтической и других отраслях промышленности. И хотя водоросли не являются основным источником энергии, известно, что они имеют питательную и фармакологическую ценность благодаря содержанию белков, углеводов, липидов, минералов, витаминов и др. соединений (Ortiz et al., 2009). Было установлено, что суточная потребность человека в витаминах А, В2, В12 и две трети потребности в витамине С, может быть удовлетворена потреблением 100 г морских водорослей (Chapman, Chapman, 1980). Важную группу соединений среди вторичных метаболитов, входящих в состав морских водорослей, составляет класс липидов, участвующих в протекании большинства жизненно важных для организма биохимических процессах (Кушнерова и др., 2020). При этом морские водоросли считаются природным источником длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства ω-3 и ω-6, таких как эйкозапентаеновая, докозагексаеновая, арахидоновая и др. (Khotimchenko et al. 2002), которые могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Многочисленные научные исследования показывают, что употребление продуктов морского происхождения, содержащих ПНЖК, могут предотвратить риск развития тромбозов, атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах, снизить содержание триглицеридов, холестерина в крови и уровень артериального давления (Jamp et al., 2015; Khan, Makki, 2017).
Однако в повседневной жизни дефицит этих ингредиентов в продуктах питания, а также нарушения метаболических процессов липидно-углеводного обмена, вызванные воздействием различных стрессовых факторов (физические, биологические, токсические, механические, эмоциональные), могут способствовать развитию различных заболеваний. По мнению Дж. Хрусоса (Chrousos, 2009), одной из основных причин развития болезней, включая заболевания гепатобилиарной, кровеносной, нейроэндокринной, иммунной систем, считается действие стресса на организм, в особенности хронического.
В ранее проведенных исследованиях при моделировании острого стресса у крыс было показано, что экстракт из морской зеленой водоросли Ulva lactuca, обогащенный липидной фракцией, обладает гепатопротекторным действием, нормализует липидный обмен печени и снижает продукты перекисного окисления липидов (Фоменко и др., 2016). В исследованиях Н. Ф. Кушнеровой и соавт. (Кушнерова и др., 2020) показано, что липидный комплекс, выделенный из красной водоросли Ahnfeltia tobuchiensis, не уступал фосфолипидному препарату “Эссенциале®” по способности нормализовать липидный профиль крови и соотношение фосфолипидных фракций в мембранах эритроцитов в условиях экспериментального стресс-воздействия.
Среди морских водорослей в качестве сырьевого источника липидных комплексов большой интерес вызывают зеленые водоросли семейства Codiaceae, широко распространенным представителем которых, является Codium fragile (Suringar) Hariot 1889 – кодиум ломкий. Растет кодиум в нижней литорали и в верхней сублиторали на илистом, каменистом, галечном и илисто-песчаном грунте, у открытых и полузащищенных побережий. Распространен в умеренных и субтропических водах Мирового океана, у берегов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Тайвань, Япония, Корея, Россия, Индонезия) (Титлянов, Титлянова, 2012). Однако, в последнее время C. fragile считается признанным вселенцем в морских экосистемах по всему миру (Ortiz et al., 2009). Его относят к категории инвазивных (чужеродных) видов, завезенным в другие регионы, где данные водоросли раньше не встречались (Pereira et al., 2021). Из-за высокой репродуктивной способности и неприхотливости, C. fragile является более конкурентноспособным, чем местные виды, что способствует его распространению и увеличению биомассы. C. fragile используется с древних времен в Японии и Корее, как съедобное растение, в восточных медицинских руководствах он зарегистрирован как средство для лечения энтеробиоза, водянки, дизурии и др. (Ahn et al., 2021).
В составе таллома C. fragile входит относительно небольшой процент веществ липидной природы (4.4–5.3 мг/г сырого веса) (Хотимченко, 2003). Однако высокое содержание ПНЖК семейства ω-3 и ω-6, которые являются важными составляющими гликолипидной и фосфолипидной фракций, обусловливает высокую фармакологическую активность липидного комплекса (Ortiz et al., 2009). Благодаря способности морских водорослей продуцировать ПНЖК С18 и С20, они привлекают к себе внимание исследователей со всего мира. Липидные экстракты, полученные из нескольких видов рода Codium sp., проявляют антибактериальную, противовирусную, противогрибковую и цитотоксическую активность (Goecke et al., 2010). В липидной фракции C. fragile было выделено соединение клеростерин (производное холестерина), проявляющее антиоксидантные свойства, поскольку способствует снижению окислительного повреждение в кератиноцитах HaCaT клеток человека, вызванное УФ-излучением (Lee et al., 2013). В недавних экспериментальных исследованиях (Seo et al., 2022) показано, что экстракт C. fragile эффективен против тучности и ожирения. Он эффективно индуцировал потерю веса, снижал общий уровень триглицеридов, холестерина в печени и подавлял дифференцировку адипоцитов в белой жировой ткани мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров. Введение экстракта C. fragile значительно изменяло микробиоту кишечника у мышей с ожирением, увеличивая долю полезных бактерий (Kim et al., 2020). Все вышеизложенное указывает на высокий фармакологический эффект липидного экстракта, выделенного из C. fragile. Однако, кодиум, как источник сырья для получения пищевых ингредиентов, лечебных препаратов и биологически активных добавок в отечественной пищевой и фармацевтической промышленности не используется.
На сегодняшний день проблема стресса сохраняет высокую медико-социальную значимость. В современных неблагоприятных условиях, вызванных всевозможными стрессовыми ситуациями, использование липидного экстракта из C. fragile, как возможного стресс-протектора, представляется весьма актуальным.
В качестве модели стресса в лабораторных исследованиях на мелких грызунах (мыши, крысы) применяют вертикальную фиксацию за дорсальную шейную складку (Кушнерова и др., 2005). В независимости от природы стресс-индуцирующего воздействия организм реагирует неизменным набором биохимических и физиологических реакций, таких как гиперемия и гипертрофия коры надпочечников, деградация тимико-лимфатической системы, появление изъязвлений в желудочно-кишечном тракте. Помимо этого, интенсивный стресс приводит к увеличению образования реактивных оксигенных радикалов, что сопровождается пероксидацией липидов клеточных мембран (Sahin, Gümüşlü, 2007). В результате происходит образование полярных гидроперекисей липидов и разбалансировка в соотношении фосфолипидных фракций мембран, что приводит к изменению их проницаемости и возможным повреждениям (Фоменко и др., 2013). Таким образом, стресс оказывает неблагоприятное воздействие на все обменные процессы в крови, печени и других органах, что делает актуальным разработку лекарственных средств на основе липидных комплексов и ПНЖК.
В связи с этим использование липидного экстракта C. fragile, содержащего в своем составе фосфо- и гликолипиды морского происхождения в сочетании с ПНЖК, будет способствовать восстановлению липидного матрикса клеточных мембран и нормализации обменных процессов, тем самым позволит улучшить общее состояние организма при патологических процессах при стрессе. При этом сочетание высокой биологической активности, большой репродуктивной способности, а также быстрое самовозобновление биомассы определяет морскую зеленую водоросль C. fragile, как источник сырья для создания эффективных фармакологических средств и пищевых добавок.
Цель работы – оценка состава липидного экстракта, выделенного из таллома морской зеленой водоросли C. fragile, и его воздействия на обменные процессы печени и крови мышей в условиях острого стресса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все экземпляры водорослей C. fragile собирали вручную в летние месяцы на мелководье (< 2 м) острова Попова в заливе Петра Великого Японского моря. Предварительная обработка собранного материала проводилась на базе научно-исследовательской станции, где водоросли промывали в морской воде, затем в пресной воде, чтобы максимально удалить песок, эпифиты, зообентос и разные загрязнения. Далее сырье транспортировали в свежем виде в рефрижераторе в лабораторию института, где выполнялись все последующие аналитические процедуры. Для ингибирования активности ферментов очищенные экземпляры макрофитов погружали в кипящую воду не более чем на 2 мин. После чего отжимали и высушивали в естественных условиях до остаточной влажности ~ 30–40%. Высушенное сырье измельчали с помощью блендера и хранили при температуре – 20 °C для дальнейшего использования и обработки. Выделение липидной фракции проводили по методу Блайя и Даера (Bligh, Dyer, 1959). Для этого один килограмм измельченного порошка водорослей экстрагировали 1.5 л смеси хлороформ: метанол (1:2 по объему) и оставляли на ночь. Для разделения фаз к смеси приливали 500 мл хлороформа и дистиллированной воды, затем смесь аккуратно перемешивали. Верхний водно-метанольный слой отделяли и удаляли, нижний хлороформенный слой, содержащий липидную фракцию, концентрировали на вакуумном испарителе (Type 349/2, Unipan, Poland) при температуре не выше 37 °C. Содержание общих липидов в экстрактах определяли взвешиванием высушенных до постоянного веса аликвот экстракта.
Хроматографическое распределение липидов проводили методом микротонкослойной хроматографии (ТСХ) на стеклянных пластинках с нанесенным слоем силикагеля марки “КСК” (ООО “Лабхимос”, Россия). Для разделения растительных гликолипидов использовали систему растворителей ацетон: бензол: вода в соотношении 91:30:8 (по объему) (Vaskovsky, Khotimchenko, 1982). Гликолипиды выявляли на хроматограммах, используя антроновый реактив (Van Gent et al., 1973). Определение количества общих фосфолипидов в водорослевом экстракте проводили по методу В. Васьковского и др. (Vaskovsky et al. 1975). Для разделения фосфолипидов по фракциям использовали методом двумерной ТСХ (Svetaсhev, Vaskovsky, 1972) в системе растворителей: в первом направлении – смесь хлороформа: метанола: 28% аммиака в соотношении 65:35:5 (по объему), во втором – смесь хлороформа: ацетона: метанола: ледяной уксусной кислоты: воды в соотношении 50:20:10:10:5 (по объему). Разделенные на хроматограммах фракции фосфолипидов обнаруживали 10% раствором серной кислоты в метаноле с последующим нагреванием пластинок на закрытой электрической плите. Содержание индивидуальных фракций фосфолипидов рассчитывали в процентах от их общей суммы.
Хроматографическое распределение нейтральных липидов проводили методом одномерной ТСХ (Amenta, 1964) в системе растворителей гексан: серный эфир: ледяная уксусная кислота в соотношении 80:20:1 об/об или 90: 10: 1 об/об. Пробы после хроматографирования обнаруживали парами йода.
Содержание отдельных фракций выражали в процентах от общей суммы нейтральных липидов.
Состав жирных кислот в липидном экстракте водорослей анализировали методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Для этого получали метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) путем переэтерификации липидов по методу Карреу и Дюбак (Carreau, Dubacq, 1978). Полученные МЭЖК очищали с помощью ТСХ, используя в системе бензол, затем элюировали с силикагеля гексаном и выделенный элюат упаривали. МЭЖК перерастворяли в определенном объеме гексана и анализировали методом ГЖХ на хроматографе “ЛХМ-2000” (ОАО “Хроматограф”, Россия) с пламенно-ионизационным детектором. Жирные кислоты идентифицировали сравнением времени удерживания (Rt) со стандартами и значениям “углеродных чисел” (Christie, 1988). Результаты рассчитывали в процентах от общей суммы жирных кислот.
Эксперимент по моделированию стрессового воздействия проводили на беспородных белых мышах-самцах 8-ми недельного возраста массой 25–30 г. В период аклиматизации в течение одной недели животные содержались в условиях вивария при комнатной температуре 22 ± 2 °C (в клетках по 5 особей) на базовом рационе питания, без ограничения воды. Затем мышей разделили случайным образом на контрольных и опытных по 10 особей в каждой группе. Животные опытных групп подвергались стресс-вертикальной фиксации за дорсальную шейную складку на 24 ч. Непосредственно перед проведением эксперимента мышам двух опытных групп перорально вводили препараты, спустя 6 часов после первого введения препараты вводились повторно. Липидный экстракт кодиума (ЛЭК) и липидный комплекс Омега-3 вводили в дозе 1г/кг веса животного. Выбор использованной дозы основан на данных литературы (Новгородцева и др., 2010), а также собственных исследованиях. Животным контрольной группы и группы “стресс” вводили эквиобъемное количество 0.9% раствора NaCl по аналогичной схеме. Введение физиологического раствора не оказывает влияние на результаты эксперимента, но при этом исключает погрешности исследования, так как любое внешнее раздражение является стрессом для организма. Стандартизацию липидного экстракта кодиума проводили по сумме общих липидов. Аптечный препарат Омега-3, использовали в качестве эталонного препарата сравнения. Действующими компонентами препарата Омега-3 являются ПНЖК, такие как докозогексаеновая (120 мг) и эйкозапентаеновая (180 мг), входящие в состав концентрата натурального рыбьего жира, полученного из анчоусов.
В эксперименте мышей распределили в следующие группы: 1 группа – контроль; 2 группа – стресс (вертикальная фиксация); 3 группа – стресс + ЛЭК; 4-я группа стресс + Омега-3. У всех животных определяли вес в начале и конце исследования. Также по окончании эксперимента произвели взвешивание внутренних органов у всех испытуемых мышей для рассчета индекса массы (ИМ - мг массы органа на 100 г массы тела) печени, селезенки и тимуса. Забор крови производили с использованием техники кровотечения из орбитальных венозных сплетений головы и шеи. Животных выводили из эксперимента декапитацией под легким эфирным наркозом с соблюдением принципов и международных рекомендаций, изложенных в Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (European Convention, 1986).
Для оценки действия вводимых препаратов в условиях стресса использовали следующие параметры: весовые коэффициенты (вес мышей, ИМ печени и селезенки) и биохимические показатели, характеризующие состояние липидно-углеводного обмена и состояния антиоксидантной системы печени и крови животных. Содержание общего холестерина (ХС), триацилглицеринов (ТАГ) и глюкозы крови определяли ферментативно с использованием наборов реактивов компании “Ольвекс Диагностикум” (Россия). Для определения содержания нейтральных липидов в ткани печени готовили липидный экстракт, используя традиционный метод Дж. Фольча (Folch et al., 1957). Количество общих липидов в экстракте печени определяли весовым способом. Разделение неполярных липидов по фракциям осуществляли методом одномерной ТСХ (Amenta, 1964). Содержание отдельных фракций нейтральных липидов рассчитывали в процентах от их общей суммы.
Для оценки потенциала антиоксидантной защиты организма животных использовали следующие показатели: величину общей антирадикальной активности (АРА) по отношению к катион-радикалу ABTS+ (Re et al., 1999), активность глутатионпероксидазы (ГП) в плазме крови (Burk et al., 1980) и уровень восстановленного глутатиона (Г-SH) в ткани печени (Карпищенко и др., 2013).
Полученные количественные данные выражали как среднеарифметическое значение ± стандартная ошибка. Обработку проводили с использованием статистического пакета Instat 3.0 (GraphPad SoftwareInc. USA, 2005). Статистическую значимость различий средних величин определяли по t-критерий Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых величин. Различия считали статистически достоверными при значении P<0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Химический состав липидной фракции таллома зеленой водоросли C. fragile представлен в табл. 1.
Таблица 1. Химический состав липидной фракции таллома Codium fragile Suringar (Hariot) 1889
Биохимические параметры | Показатели |
Общие липиды (мг на 1 г сухой ткани) | 13.92 ± 0.22 |
Общие гликолипиды (мг на 1 г сухой ткани) | 6.12 (44%) |
Общие фосфолипиды (мг на 1 г сухой ткани) | 2.23 (16%) |
Общие нейтральные липиды (мг на 1 г сухой ткани) | 5.57 (40%) |
Фракции нейтральных липидов (в % от суммы всех фракций) | |
Диацилглицерины + моноацилглицерины | 8.94 ± 0.31 |
Свободные стерины | 15.16 ± 0.74 |
Свободные жирные кислоты | 11.21 ± 0.41 |
Триацилглицерины | 41.55 ± 2.15 |
Эфиры жирных кислот | 4.15 ± 0.41 |
Эфиры стеринов | 9.47 ± 1.90 |
Остаточная фракция | 9.52 ± 0.76 |
Фракции фосфолипидов (в % от суммы всех фракций) | |
Фосфатидилхолин | 31.80 ± 0.76 |
Фосфатидилглицерин | 29.28 ± 0.52 |
Фосфатидилэтаноламин | 21.14 ± 0.48 |
Фосфатидилинозит | 7.40 ± 0.17 |
Фосфатидилсерин | 10.38 ± 0.33 |
Жирные кислоты (в % от суммы всех фракций) | |
14:0 (миристиновая кислота) | 1.7 ± 0.02 |
16:0 (пальмитиновая кислота) | 28.38 ± 1.45 |
16:1 n-7 (пальмитолеиновая кислота) | 1.6 ± 0.01 |
16:2 n-6 | 2.6 ± 0.12 |
16:3 n-3 (гексадекатриеновая кислота) | 12.2 ± 0.56 |
18:0 (стеариновая кислота) | 0.9 ± 0.03 |
18:1 n-9 (олеиновая кислота) | 10.72 ± 0.46 |
18:2 n-6 (линолевая кислота) | 9.0 ± 0.36 |
18:3 n-3 (α-линоленовая кислота) | 19.7 ± 0.64 |
20:4 n-6 (арахидоновая кислота) | 6.2 ± 0.23 |
20:5 n-3 (эйкозопентаеновая кислота) | 4.3 ± 0.32 |
22:0 (бегеновая кислота) | 2.7 ± 0.04 |
Общее содержание выделенных липидов составляло 13.92 ± 0.22 мг/г сухой ткани, из которых наибольшее количество приходилось на гликолипиды (44%) и нейтральные липиды (40%), доля фосфолипидов составляла 16%. Основными фракциями среди нейтральных липидов являлись ТАГ (41.55 ± 2.15%) и стерины (15.16 ± 0.74%). Остальные фракции имели примерно одинаковое содержание: моноацилглицерины + диацилглицерины (8.94 ± 0.31%), эфиры стеринов (9.47 ± 1.90%), свободные жирные кислоты (11.21 ± 0.41%). Анализ содержания полярных липидов в ЛЭК показал присутствие следующих представителей класса фосфолипидов: фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилглицерин (ФГ), фосфатидилэтаноламин (ФЭ), фосфатидилинозит (ФИ), фосфатидилсерин (ФС), что подтверждается данными, полученные С. Хотимченко (Хотимченко, 2003). Причем, ФХ, ФГ и ФЭ являются одними из основных компонентов фосфолипидной фракции, их содержание было в пределах 21–31% от общей суммы фосфолипидов. Как известно эти фосфолипиды являются структурообразующими и функциональными компонентами всех биологических мембран. Жирные кислоты морских водорослей имеют большее разнообразие, чем у наземных растений. При относительно низком содержании липидов в морских макрофитах, количество ПНЖК в них существенно преобладает по сравнению с растениями (Sanchez-Machado et al., 2004). Исследование состава и соотношения жирных кислот в ЛЭК показало (табл. 1), что ПНЖК являлись превалирующими в процентном отношении (более 50%) от общей суммы жирных кислот. При этом доля насыщенных жирных кислот (НЖК) в липидном экстракте составляло 34% и мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) – 12%. По количественному составу в липидной фракции кодиума преобладала пальмитиновая кислота (16:0) (28.38%), которая является наиболее распространенной, за ней следуют α-линоленовая (18:3 ω-3) (19.7%), гексадекатриеновая (16:3 ω-3) (12.2%), олеиновая (18:1 ω-9) (10.72%) и др. Важно отметить, что водоросли отдела Chlorophyta, в их числе C. fragile, отличаются присутствием значительных количеств С16 и С18 ПНЖК. Для водорослей сем Сodiaceae рода Codium sp. характерно высокое содержание ПНЖК 16:3, что является таксономическим признаком этого рода (Goecke et al., 2010). В свою очередь С18 ПНЖК (α-линоленовая и линолевая), относящиеся к категории незаменимых, очень важны для питания, так как они не образуются в организме людей и животных, и могут быть получены только из продуктов их содержащих (речная и морская рыба, овощи, морские водоросли). При этом водоросли рода Codium sp. способны синтезировать также длинноцепочечные С20 ПНЖК (арахидоновая и эйкозапентаеновая кислоты) и С22 ПНЖК. Полученные результаты по содержанию жирных кислот в липидной фракции C. fragile согласуются с материалами исследований, приведенными в отечественных и зарубежных литературных источниках (Хотимченко, 2003; Ortiz et al., 2009; Goecke et al., 2010).
Следующий этап экспериментального исследования состоял в изучении воздействия ЛЭК и препарата сравнения Омега-3 на физиологические и биохимические показатели животных в условиях стресс-вертикальной фиксации. При определении удельного веса внутренних органов мышей, подвергнутых стрессовому воздействию, отмечалось снижение ИМ печени на 16% (p < 0.01) и селезенки на 23% (p < 0.01) (рис. 1).
Рис. 1. Влияние липидного экстракта кодиума и Омега-3 на весовые показатели мышей при стрессе. Изменения статистически достоверны: * – p < 0.05, ** – p < 0.01, *** – p < 0.001 – при сравнении с контролем; + – p < 0.05,++ – p < 0.01,+++- p < 0.001 – при сравнении со 2-й группой (стресс) для рис. 1–3.
При этом вес животных снизился на 18% (p < 0.05), отмечалось появление язвенных поражений слизистой желудка (2.4 ± 0.1 шт/животное, в контроле – 0). Полученные изменения весовых коэффициентов и появление изъязвлений слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) считаются показательными признаками стрессированности животных.
Воздействие стресса сопровождалось изменением показателей жирового и углеводного обмена (рис. 2), которые характеризовались уменьшением количества ТАГ в 3,5 (p < 0.001) раза и увеличением уровня глюкозы крови в 1.3 раза (p < 0.001). Известно, что при остром стрессе по сравнению с хроническим стрессом происходит частичное истощение содержания ТАГ в кровяном русле на фоне мобилизации углеводных запасов клеток, что усиливает выход глюкозы в кровь (Гурская и др., 2017). В экстренных ситуациях центральная нервная система для обеспечения клеток энергией использует именно глюкозу, как наиболее быстро мобилизуемый и предпочтительный энергетический источник. Содержание общего холестерина (ХС) при этом повысилось на 38% (р < 0.01) по сравнению с контролем, что, вероятно, является признаком проатерогенного действия стресса.
Рис. 2. Влияние липидного экстракта кодиума и Омега-3 на биохимические показатели плазмы крови мышей при стрессе.
Исследование липидного профиля печени мышей в условиях стресса (табл. 2) выявило статистически достоверное снижение количества СЖК на 12%, повышение уровня ТАГ на 15% и ХС на 13% по сравнению с контролем. Полученные изменения липидных показателей связаны со стимулирующим влиянием глюкокортикоидных гормонов на адипоциты, что сопровождается мобилизацией ТАГ и этерификацией СЖК (Солин и др., 2013). В условиях стресса усиливается выброс катехоламинов из надпочечников, под действием которых активизируется периферический липолиз, освобождая из жировой клетчатки неэтерифицированные жирные кислоты. В результате избыток СЖК поступает по кровяному руслу в печень, где совместно с глицерином используется для синтеза вновь образуемых ТАГ, что впоследствии приводит к жировому перерождению печени.
Таблица 2. Влияние липидного экстракта кодиума и Омега-3 на содержание нейтральных липидов в печени мышей при стрессе (M ± m)
Нейтральные липиды | 1 группа Контроль | 2 группа Стресс | 3 группа Стресс+ Кодиум | 4 группа Стресс + Омега-3 |
Холестерин | 15.44 ± 0.67 | 17.48 ± 0.50* | 15.04 ± 0.273 | 15.74 ± 0.151 |
Свободные жирные кислоты | 15.86 ± 0.26 | 13.95 ± 0.36*** | 15.70 ± 0.183 | 14.82 ± 0.08 |
Триацилглицерины | 20.85 ± 0.47 | 24.02 ± 0.64*** | 21.08 ± 0.162 | 20.76 ± 0.362 |
Эфиры жирных кислот | 15.89 ± 0.51 | 14.05 ± 0.65 | 14.16 ± 0.33 | 14.47 ± 0.19 |
Эфиры холестерина | 16.04 ± 0.55 | 16.84 ± 0.78 | 17.39 ± 0.33* | 17.74 ± 0.38* |
Остаточная фракция | 15.92 ± 0.26 | 13.66 ± 0.79 | 16.63 ± 0.21 | 16.47 ± 0.23 |
Примечание. Изменения статистически достоверны:* – p < 0.05;** – p < 0.01;*** – p < 0.001 – при сравнении с контролем.1- p < 0.05;2 – p < 0.01;3- p < 0.001 – при сравнении со 2-й группой (стресс).
Кроме того, жирные кислоты из-за угнетения их митохондриального окисления, активно используются в виде ацетил-КоА для синтеза ХС, с чем может быть связано повышение его уровня в печени. Также увеличение количества ХС может быть обусловлено торможением его распада в печени из-за накопления перекисей липидов, которые ингибируют фермент 7-α-гидроксилазу, участвующий в катаболизме холестерина и превращении его в желчные кислоты (Hulbert et al, 2005).
Анализ показателей, характеризующих состояния эндогенной антиоксидантной системы, свидетельствует о накоплении в крови и печени животных активных форм кислорода под действием стресса. В плазме крови отмечалось существенное падение уровня АРА (в 1,4 раза; p < 0.001) и снижение активности ключевого фермента антиоксидантной защиты – ГП (на 26%; p < 0.001) по сравнению с контролем (рис. 3). Содержание Г-SH в печени при стрессе также снизилось на 36% (p < 0.001).
Рис. 3. Влияние липидного экстракта кодиума и Омега-3 на показатели антиоксидантной системы плазмы крови и печени мышей при стрессе.
Снижение активности ГП может свидетельствовать об увеличении в организме количества гидроперекисей жирных кислот и пероксида водорода (H2O2), которые в свою очередь реагируют с супероксидными радикалами, приводя к неконтролируемому усилению процессов пероксидации липидов и развитию оксидативного стресса. Истощение пула Г-SH в печени, участвующего во многих ферментативных и неферментативных путях антиоксидантной защиты, также указывает на рассогласование и дисбаланс в системе прооксиданты – антиоксиданты.
При введении ЛЭК (3 группа) и Омега-3 (4 группа) на фоне стресса отмечалась выраженная тенденция к нормализации как весовых характеристик, так и биохимических показателей печени и крови животных. Об этом свидетельствует отсутствие достоверных отличий от контроля в показателях ИМ печени и селезенки у животных 3-й и 4-й групп, получавших препараты (рис. 1). Однако вес этих животных оставался все еще достоверно ниже контрольных показателей, в среднем на 15% в 3-й группе (кодиум) и на 20% в 4-й группе (Омега-3). В то же время у мышей, получавших препараты, не было зафиксировано изъязвлений слизистых оболочек по ходу ЖКТ.
При сравнении показателей липидного обмена в плазме крови мышей 3-й (кодиум) и 4-й (Омега) групп с таковыми во 2-й группе (стресс) отмечались существенные различия (рис. 2).
У животных, получавших ЛЭК (3-я группа), содержание циркулирующих ТАГ в плазме крови повысилось на 45% (р < 0.001), а у получавших Омега-3 (4-я группа) – на 53% (р < 0.001), количество ХС при этом снизилось на 16% (р < 0.001) и 13% (р < 0.001), соответственно. Под действием вводимых препаратов содержание глюкозы крови понизилось на 15% (р < 0.001) в 3 группе (кодиум) и на 17% (р < 0.05) в 4 группе (Омега-3). Согласно литературным данным (Komal et al., 2020), введение ПНЖК ω-3 в составе рыбьего жира способствует снижению уровня глюкозы в крови крыс за счет повышения чувствительности инсулинового сигнала. Отмечено, что ПНЖК ω-3 повышают уровень гормона адипонектина, который отвечает за снижение уровня глюкозы натощак и приводит к повышению периферической чувствительности к инсулину (Ravussin, 2002). Снижение уровня ХС в плазме крови под действием вводимых липидных препаратов возможно связано с падением активности ГМГ- КоА редуктазы – ключевого фермента в биосинтезе ХС. В работах авторов (Khan, Makki, 2017) отмечено, что применение Омега-3 при экспериментальной гиперхолестеринемии снижает содержание ХС в сыворотке крови крыс, что может быть связано с ингибированием процесса превращением гидрометилглутарата в мевалонат (промежуточная субстанция в образовании холестерина).
Отмеченные изменения показателей липидного обмена печени мышей 3-й и 4-й групп характеризовались выраженной тенденцией к восстановлению исследуемых показателей на фоне стресса и практически не имели достоверных отличий между группами. Так, введение ЛЭК животным привело к снижению содержания ТАГ на 12% (p < 0.01) и ХС на 14% (p < 0.001) по сравнению со 2-й группой (стресс). В то же время под действием Омега-3 уровень ТАГ снизился на 14% (p < 0.001), а количество ХС – на 10% (p < 0.05). Среди других липидных фракций печени мышей 3-й и 4-й групп отмечалось достоверное повышение концентрации эфиров холестерина (ЭХС) в среднем на 8–10% по отношению ко 2-й группе (стресс).
Таким образом, под действием вводимых липидных комплексов в крови и печени животных прослеживается характерная тенденция к снятию состояния дислипидемии и подавлению жировой инфильтрации. Данный эффект обусловлен способностью ПНЖК ω-3, входящих в состав липидных комплексов морского происхождения, снижать синтез ТАГ в печени путем ингибирования фермента ацил-КоА:1,2-диацилглицерол ацилтрансферазы (Harris et al., 2008). При этом возрастает пероксисомальное и/или митохондриальное β-окисление жирных кислот и тем самым снижается активное поступление СЖК в печень. Уменьшение уровня ХС при одновременном повышении его эфиров в печени животных, получавших ЛЭК и Омега-3 на фоне стресса, обусловлено, как уже отмечалось, гипохолестеринемическим действием ПНЖК ω-3, а также восстановлением этерифицирующей функции печени. При этом в образовании ЭХС участвуют главным образом ненасыщенные жирные кислоты, этерификацию ХС катализирует фермент печени Ацил-КоА: холестерин-ацилтрансфераза (АХАТ). На основании вышеизложенного следует, что введение ЛЭК и Омега-3 в условиях стресса способствует восстановлению баланса, определяющего функционирование углеводно-липидного обмена печени и крови.
ЛЭК и препарат Омега-3 проявляли выраженное антиоксидантное действие на фоне стресса. Известно, что ПНЖК семейства ω-3, являются эффективными антиоксидантами направленного действия, способными “гасить” свободные радикалы (Richard et al., 2008). Данный факт подтверждается отмеченным ростом величины АРА в плазме крови в среднем на 32–34% (p < 0.001). При этом показано, что ПНЖК ω-3 восстанавливают активность ГП (Refaat et al., 2022) и некоторых низкомолекулярных антиоксидантов, в их числе Г-SH (Patten et al., 2013), что было отмечено при анализе полученных результатов.
И хотя под действием вводимых препаратов в условиях стресса показатели глутатионовой системы у животных 3-й и 4-й групп характеризовались положительной динамикой, однако по степени выраженности нормализующего эффекта имелись достоверные отличия. Так, при введении ЛЭК уровень Г-SH печени повысился на 15% (p < 0.05) в сравнении со 2-й группой, а при введении Омега-3 только на 9% (p < 0.05).
Показатели активности ГП в плазме крови животных 3-й группы (кодиум) не имели достоверных отличий от контрольных значений, что может свидетельствовать о подавлении процессов липидной пероксидации. В то же время у животных 4-й группы (Омега-3) активность ГП оставалась все еще достоверно ниже контроля на 10%. При сравнении со 2-й группой (стресс) активность ГП у мышей 3-й группы повысилась на 35% (p < 0.001), а в 4-й группе – на 21% (p < 0.001). Полученные данные свидетельствуют, что воздействие ЛЭК на состояние окислительно-восстановительной системы глутатиона показало большую эффективность по сравнению с препаратом Омега-3. Данный эффект ЛЭК, возможно, обусловлен совместным действием ПНЖК ω-3 и ω-6, которые способны активировать ферменты антиоксидантной защиты (Nieto et al., 1998), в том числе ферменты глутатионового звена, тем самым предохраняя клетки и ткани органов от повреждений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование состава липидного экстракта C. fragile показало его многокомпонентность, в частности присутствие неполярных и полярных липидов с высоким содержанием ПНЖК семейства ω-3 и ω-6. Из полученных данных по исследованию метаболических реакций в организме мышей в условиях стрессового воздействия следует, что липидный экстракт C. fragile обладает гиполипидемическим и антиоксидантным действием. Данный эффект ЛЭК проявляется в восстановлении весовых коэффициентов (ИМ печени и селезенки), содержания липидов и углеводов в печени и крови (ХС, ТАГ, СЖК, глюкоза), а также параметров антиоксидантной защиты организма животных (АРА, Г-SH, ГП).
Липидный экстракт зеленой водоросли C. fragile не уступал коммерческому препарату сравнения Омега-3 в восстановлении метаболических реакций организма, вызванных воздействием острого стресса, но при этом проявлял более высокую антиоксидантную активность. Биологическое действие ЛЭК, вероятно, объясняется его разнообразным составом, в котором присутствуют класс нейтральных липидов, являющихся метаболитами для биохимических реакций, класс фосфолипидов, отвечающих за функционирование всех биомембран, и главным образом, наличием ПНЖК семейства ω-3 и ω-6. На основании проведенного исследования можно заключить, что профилактическое применение липидных экстрактов, выделенных из морских макрофитов, в частности из C. fragile, имеет большие перспективы для создания препаратов со стресс-протекторными и липидкоррегирующими свойствами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ТОИ ДВО РАН по теме “Эколого-биогеохимические процессы в морских экосистемах: роль природных и антропогенных факторов” (0211-2021-0014). Регистрационный номер: 121-21500052-9.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты на животных проводились в соответствии с Руководством NIH по уходу и использованию лабораторных животных (http://oacu.od.nih.gov/regs/index.htm). Протоколы экспериментов одобрены Этическим комитетом Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева (протокол № 21 от 10 ноября 2022 г.)
About the authors
S. E. Fomenko
V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
Author for correspondence.
Email: sfomenko@poi.dvo.ru
Russian Federation, 690041, Vladivostok
N. F. Kushnerova
V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
Email: sfomenko@poi.dvo.ru
Russian Federation, 690041, Vladivostok
V. G. Sprygin
V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
Email: sfomenko@poi.dvo.ru
Russian Federation, 690041, Vladivostok
E. S. Drugova
V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
Email: sfomenko@poi.dvo.ru
Russian Federation, 690041, Vladivostok
L. N. Lesnikova
V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
Email: sfomenko@poi.dvo.ru
Russian Federation, 690041, Vladivostok
V. Yu. Merzlyakov
V. I. Il’ichevPacific Oceanological Institute. FEB RAS
Email: sfomenko@poi.dvo.ru
Russian Federation, 690041, Vladivostok
References
- Гурская А. И., Отвалко Е. А., Яцковская Н. М., Чиркин А. А. Биохимические критерии острого и хронического стресса при иммобилизации крыс // Вестник ВДУ. 2017. Т. 98, № 1. С. 61–65.
- Карпищенко А. И., Алипов А. Н., Алексеев В. В. Медицинские лабораторные технологии. Руководство по клинической лабораторной диагностике. 2013. Т. 2. Изд-во ГЭОТАР-Медиа. 792 с.
- Кушнерова Н. Ф., Спрыгин В. Г., Фоменко С. Е., Рахманин Ю. А. Влияние стресса на состояние липидного и углеводного обмена печени, профилактика // Гигиена и санитария. 2005. № 5. С. 17–21.
- Кушнерова Н. Ф., Фоменко С. Е., Спрыгин В. Г., Момот Т. В. Влияние липидного комплекса экстракта из морской красной водоросли Ahnfeltia tobuchiensis (Kanno et Matsubara) Makienko на биохимические показатели плазмы крови и мембран эритроцитов при экспериментальном стрессе // Биология моря. 2020. Т. 46, № 4, С. 269–276. https://doi.org/10.31857/S0134347520040051
- Новгородцева Т. П., Караман Ю. К., Бивалькевич Н. В., Жукова Н. В. Использование биологически активной добавки к пище на основе липидов морских гидробионтов в эксперименте на крысах // Вопросы питания. 2010. Т. 79, № 2. С. 24–27.
- Солин А. В., Корозин В. И., Ляшев Ю. Д. Влияние регуляторных пептидов на стресс-индуцированные изменения липидного обмена у экспериментальных животных // Бюл. экспер. биол. 2013. Т. 155, № 3. С. 299–301.
- Титлянов Э. А., Титлянова Т. В. Морские растения стран Азиатско–Тихоокеанского региона, их использование и культивирование. Владивосток: Дальнаука, 2012. 377 с.
- Фоменко С. Е., Кушнерова Н. Ф., Спрыгин В. Г., Момот Т. В. Нарушение обменных процессов в печени крыс под действием стресса // Тихоокеанский медицинский журнал. 2013. № 2. С. 67–70.
- Фоменко С. Е., Кушнерова Н. Ф., Спрыгин В. Г., Момот Т. В. Антиоксидантные и стресс-протекторные свойства экстракта из морской зеленой водоросли Ulva lactuca Linnaeus, 1753 // Биология моря. 2016. Т. 42, № 6. С. 465–470. https://doi.org/10.1134/S1063074016060031
- Хотимченко С. В. Липиды морских водорослей-макрофитов и трав. Структура, распределение, анализ. Владивосток: Дальнаука, 2003. 230 с.
- AhnJ., Kim M. J., Yoo A., Ahn J., Ha T., Jung C. H., Seo H. D., Jang Y. J. Identifying Codium fragile extract components and their effects on muscle weight and exercise endurance // Food Chemistry. 2021. V. 353. P. 129–463. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129463
- Amenta J. S. A rapid chemical method for quantification of lipids separatid by thin-layer chromatography // J. Lipid Res. 1964. V. 5. P. 270–272. https://doi.org/10.1016/S0022-2275(20)40251-2
- Bligh E. G., Dyer W. J. A rapid method of total lipid extraction and purification // Can. J. Biochem. Physiol. 1959. V. 37. № 8. P. 911–917. https://doi.org/10.1139/o59-099
- Burk R. F., Lawrence R. A., Lane J. M. Liver necrosis and lipid peroxidation in the rat as the result of paraquat and diquat administration. Effect of selenium deficiency // J. Clin. Invest. 1980. V. 65, № 5. P. 1024–1031. https://doi.org/10.1172/JCI109754
- Carreau J. P., Dubacq J. P. Adaptation of a macro-scale method to the micro-scale for fatty acid methyl transesterification of biological lipid extracts // J. Chromatogr. 1978. V. 151, № 3. P. 384–390. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)88356-9
- Chapman V. J., Chapman D. J. Seaweeds and Their Uses. 3Edn. Chapman & Hall, New York, NY (USA) 1980. P. 25–42. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-5806-7
- Christie W. W. Equivalent chain-lengths of methyl ester derivatives of fatty acids on gas chromatography A reappraisal // J. Chromatogr. 1988. V. 447. P. 305–314. https://doi.org/10.1016/0021-9673(88)90040-4
- Chrousos G. P. Stress and disorders of the stress system // Nat. Rev. Endocrinol. 2009. № 5. P. 374–381. https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106
- European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS No. 123). Strasbourg. 1986. http://conventions.coe.int
- Folch J., Less M., Sloane-Stanley G.H. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues // J. Biol. Chem. 1957. V. 226, № 1. P. 497–509. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)64849-5
- Goecke F., Hernandez V., Bittner M., Gonzalez M., Becerra J., Silva M. Fatty acid composition of three species of Codium (Bryopsidales, Chlorophyta) in Chile // Revista de Biologia Marina y Oceanografia. 2010. V. 45, № 2. P. 325–330. https://doi.org/10.4067/S0718-19572010000200014
- Harris W.S, Miller M., Tighe A. P., Davidson M. H., Schaefer E. J. Omega-3 fatty acids and coronary heart disease risk: clinical and mechanistic perspectives // Atherosclerosis. 2008. V. 197. P. 12–24. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2007.11.008
- Hulbert A. I., Turner N., Storlien L. H., Else P. L. Dietary fats and membrane function: implications for metabolism and disease // Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 2005. V. 80, Is. 1. P. 155–169. https://doi.org/10.1017/s1464793104006578
- Jump D. B., Depner C. M., Tripathy S., Lytle K. A. Potential for Dietary omega-3 Fatty Acids to Prevent Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Reduce the Risk of Primary Liver Cancer // Adv. Nutr. 2015. V. 6, № . 6. P. 694–702. https://doi.org/10.3945/an.115.009423
- Khan S. A., Makki A. Dietary Changes with Omega-3 Fatty Acids Improves the Blood Lipid Profile of Wistar Albino Rats with Hypercholesterolaemia // International Journal of Medical Research & Health Sciences. 2017. V. 6, № . 3. P. 34–40.
- Khotimchenko S., Vaskovsky V., Titlyanova T. Fatty acids of marine algae from the Pacific coast of North California // Botanica Marina. 2002. V. 45. P. 17–22. https://doi.org/10.1515/BOT.2002.003
- Kim J., Choi J. H., Oh T., Ahn B., Unno T. Codium fragile Ameliorates High-Fat Diet-Induced Metabolism by Modulating the Gut Microbiota in Mice // Nutrient. 2020. V. 12. P. 1848. https://doi.org/10.3390/nu12061848
- KomalF., Khan M. K., Imran M., Ahmad M. H., Anwar H., Ashfaq U. A., AhmadN., MasroorA., Ahmad R. S., Nadeem M., Nisa M. U. Impact of different omega-3 fatty acid sources on lipid, hormonal, blood glucose, weight gain and histopathological damages profile in PCOS rat model // J. Transl. Med. 2020. V. 18. P. 349–360. https://doi.org/10.1186/s12967-020-02519-1
- Lee C., Park G. H., Ahn E. M., Kim B. A., Park C. I., Jang J. H. Protective effect of Codium fragile against UVB-induced pro-inflammatory and oxidative damages in HaCaT cells and BALB/c mice // Fitoterapia. 2013. V. 86. P. 54–63. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2013.01.020
- Nieto N., Fernandez M. I., Torres M. I., Ríos A., Suarez M. D. Dietary monounsaturated n-3 and n-6 long-chain polyunsaturated fatty acids affect cellular antioxidant defense system in rats with experimental ulcerative colitis induced by trinitrobenzene sulfonic acid // Gil. Dig. Dis. Sci. 1998. V. 43, № 12. P. 2678–2687. https://doi.org/10.1023/a:1026655311878
- Ortiz J., Uquiche E., Robert P., Romero N., Quitral V., Llantén C. Functional and nutritional value of the Chilean seaweeds Codium fragile, Gracilaria chilensis and Macrocystis pyrifera // European Journal of Lipid Science and Technology 2009. V. 111, № 4. P. 320–327. https://doi.org/10.1002/ejlt.200800140
- Patten A. R., Brocardo P. S., Christie B. R. Omega-3 supplementation can restore glutathione levels and prevent oxidative damage caused by prenatal ethanol exposure // J. Nutr. Biochem. 2013. V. 24, № 5. P. 760–769. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2012.04.003
- Pereira A. G., Fraga-Corral M., Garcia-Oliveira P., Lourenco Lopes C., Carpena M., Prieto M. A., Simal-Gandara J. The Use of Invasive Algae Species as a Source of Secondary Metabolites and Biological Activities: Spain as Case-Study // Mar. Drugs. 2021. V. 19. P. 178–198. https://doi.org/10.3390/md19040178
- Ravussin E. Adiponectin enhances insulin action by decreasing ectopic fat deposition // J. Pharmacogenomics. 2002. V.2, № 1. P. 4–7 https://doi.org/10.1038/sj.tpj.6500068
- Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay // Free Radical Biology and Medicine. 1999. V. 26, № 9–10. P. 1231–1237. https://doi.org/10.1016/s0891-5849(98)00315-3
- Refaat B., Abdelghany A. H., Ahmad J., Abdalla O. M., Elshopakey G. E., Idris S., El-Boshy M. Vitamin D(3) enhances the effects of omega-3 oils against metabolic dysfunction-associated fatty liver disease in rat // Biofactors. 2022. V. 48. № 2. P. 498–513. https://doi.org/10.1002/biof.1804
- Richard D., Kefi K., Barbe U., Bausero P., Visioli F. Polyunsaturated fatty acids as antioxidants // Pharmacol. Res. 2008. V. 57. № 6. P. 451–455. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2008.05.002
- Sahin E., Gumuёslu S. Stress-dependent induction of protein oxidation, lipid peroxidation and anti-oxidants in peripheral tissues of rats: comparison of three stress models (immobilization, cold and immobilization-cold) // Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 2007. V. 34, № 5–6, P. 425–431. https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2007.04584.x
- Sanchez-Machado D., Lopez-Cervantes J., Lopez-Hernandez J., Paseiro-Losada P. Fatty acids, total lipid, protein and ash contents of processed edible seaweeds. Food Chem. 2004. V. 85. P. 439–444. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2003.08.001
- Seo H-D, Lee E., Ahn J., Hahm J-H, HaT-Y., LeeD-H, Jung C. H. Codium fragile reduces adipose tissue expansion and fatty liver incidence by downregulating adipo- and lipogenesis // J. Food Biochem. 2022. 00: e 14395. P. 1–9. https://doi.org/10.1111/jfbc.14395
- Svetaсhev V. I., Vaskovsky V. Е. A simplified technique for thin-layer microchromatography of lipids // J. Chromatography. 1972. V. 6. P. 376–378. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(01)91245-2
- Van Gent C. M., Roseleur O. J., Van Der Bijl P. The detection of cerebrosides on thin-layer chromatograms with an anthrone spray reagent // J. Chromatogr. 1973. V. 85, № 1. P. 174–176. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(01)91884-9
- Vascovsky V. E., Kostetsky E. Y., Vasendin I. M. Universal Reagent for Phospholipid Analysis // J. Chromatography. 1975. V. 114. P. 129–141. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(00)85249-8
- Vaskovsky V. E., Khotimchenko S. V. HPTLC of Polar Lipids of Algae and Other Plants // J. Chromatography. 1982. V. 5. P. 635–636. https://doi.org/10.1002/jhrc.1240051113
Supplementary files