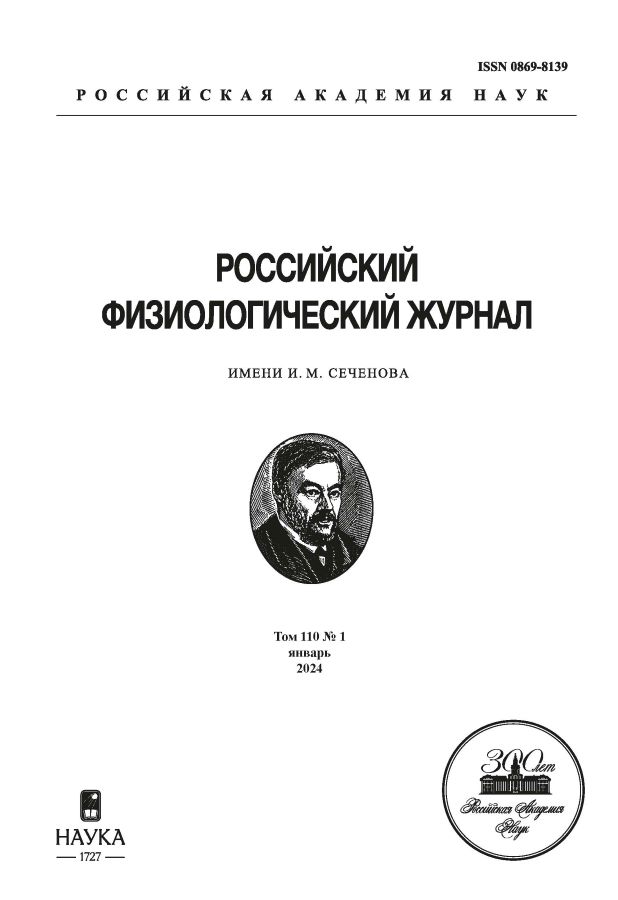Morphological adrenal glands changes in rats with different individual-typological behavior features in the PTSD model after dalargin injections
- Authors: Semenova O.G.1, Vyushina A.V.1, Pritvorova A.V.1, Rakitskaya V.V.1, Ordyan N.E.1
-
Affiliations:
- Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 110, No 1 (2024)
- Pages: 58-78
- Section: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-8139/article/view/258146
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924010048
- EDN: https://elibrary.ru/WSCUJJ
- ID: 258146
Cite item
Full Text
Abstract
Morphological changes in the adrenal glands of male Wistar rats were studied after intramuscular injection of dalargin (a synthetic analog of leuenkephalin) in a model of post-traumatic stress disorders (PTSD). According to the results of testing in the T-maze and the elevated plus maze (ECL), the rats were divided into groups: active of the low anxiety (ALA), active of the high anxiety (AHA), passive of the low anxiety (PLA), passive of the high anxiety (PHA). In ALA rats after injection of dalargin in the PTSD model the thickness of the fascicular zone (zF) of the adrenal cortex increased by 14%, the area of nuclei in zF cells by 9.5%, and the area of the medulla by 21%. With the development of a PTSD-like state in AHA rats, the thickness of the zF increased by 10%. After injection of dalargin in the PTSD model the thickness of the zF was like control. With the development of a PTSD-like state in PLA rats, the thickness of the zF increased by 17%, and the area of zF cells nuclei, the area of the adrenal medulla and the area nucleis adrenal medulla are decrease by 10.5%, 41% and 8%, respectively. After injection of dalargin in the PTSD model area of the adrenal medullas nuclei decrease more by 7%. In PHA rats after injection of dalargin in the PTSD model the thickness zF increased by 23%. It was concluded that the effect of dalargin on the morphometric parameters of the adrenal glands in modeling PTSD is determined by individual typological features of behavior.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает как отсроченный или затянувшийся ответ на тяжелое стрессовое событие в результате дисфункции высоко-консервативных систем мозга, связанных со стрессом, тревогой, страхом и вознаграждением [1]. Важную роль в развитии ПТСР играет условно-рефлекторный страх. События и предметы, сопутствующие травматической ситуации, становятся условными сигналами, способными спровоцировать прогрессирование психопатологии во времени. Симптомы ПТСР включают постоянную тревогу, раздражительность, панику, нарушение сна и когнитивных функций, дистресс в ответ на сигналы, связанные с травмой [1–3]. При сохранении симптомов в течение 2–4 недель и далее диагностируется развитие ПТСР [3]. У больных с ПТСР отмечают повышенную активность симпатоадреналовой системы и недостаточную функцию гипофизарно-адреналовой системы (ГАС) [4]. Многочисленные исследования характеризуют ПТСР снижением гормональной функции ГАС в связи с развитием ее гиперчувствительности к сигналам отрицательной обратной связи и усилением ингибирования ее активности. В результате уже на ранних стадиях нарушаются адаптивные функции ГАС, приводящие к высокому уровню кортиколиберина и низкому уровню глюкокортикоидов в крови [5, 6].
Опиоидная система является одной из ведущих стресс-лимитирующих систем, участие которой необходимо для обеспечения пластичности взаимодействия возбуждающих и тормозных механизмов и ограничения стресс-реакции на центральном и периферическом уровнях регуляции [7, 8]. Кроме того, установлено, что экзогенные опиоиды, блокируя секреторную деятельность аденогипофиза и надпочечников, снижают уровень АКТГ, кортикостероидов и адреналина в плазме крови [8–10].
Синтетический аналог лей-энкефалина фармакологический препарат “Даларгин” в условиях хронического стресса предупреждает истощение депо катехоламинов и глюкокортикоидов в надпочечниках, ограничивает проявление стресс-реакции и повышает выживаемость животных в экстремальных условиях [8, 11, 12].
Основная цель настоящего исследования: изучение влияния даларгина на морфологические изменения надпочечников в условиях развития ПТСР-подобного состояния у крыс, различающихся по показателям поведенческой активности и тревожности.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовали крыс-самцов Вистар массой 250–280 г в возрасте 2.5 месяца. Животные содержались в пластиковых клетках по 6 особей на стандартной диете при свободном доступе к воде и пище и при обычном 12-часовом световом режиме. После недельного периода адаптации к условиям лаборатории у крыс определяли стратегию приспособительного поведения в Т-образном лабиринте [13, 14]. Лабиринт выполнен из непрозрачного пластика с прозрачной верхней крышкой для наблюдения и состоит из трех рукавов, два из которых образуют основной коридор (140 × 10 × 15 см), разделенный посередине перпендикулярно расположенным третьим рукавом (19 × 4 × 4 см). Были предложены нормированные индексы поведенческой активности (ИПА) и поведенческой пассивности (ИПП), которые определяли у каждого животного по результатам тестирования в Т-образном лабиринте [14]. К поведенческой активности относили все формы вертикальной и горизонтальной активности, исключая груминг, а ИПА рассчитывали как процент времени, когда животное совершало побежки, стойки и двигалось на месте (за исключением груминга), от общего времени наблюдения (ИПА = (180 – (LP + tN + Gr)) × 100/180; где 180 – общее время наблюдения, с; LP – латентный период входа в лабиринт через средний рукав, с; tN – время неподвижности, с; Gr – продолжительность реакции груминга, с). ИПП рассчитывали, как процент времени, когда животное было неподвижно, от общего времени тестирования (ИПП = (LP + tN) × 100/180; где 180 – общее время наблюдения, с; LP – латентный период входа в лабиринт, с; tN – время неподвижности, с). Поскольку распределения полученных индексов резко асимметричны, данные были прологарифмированы и на их основании рассчитаны границы групп. В качестве границ групп были взяты 25%-ные квантили и среднее, которые делят распределение на части:
где М – среднее значение, а SD – стандартное отклонение. Таким образом, крысы, у которых значение ИПА попадало в интервал от 85% до 100%, а значение ИПП – в интервал от 0% до 4.6% считались животными с высокой активностью, тогда как низкоактивными решено было считать крыс, у которых значение ИПА было в интервале от 0% до 70%, а значение ИПП – в интервале от 15% до 100%.
Для определения исходного уровня тревожности крысы были протестированы в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ), установка которого состояла из двух открытых и двух закрытых рукавов размерами 50 × 14 см и 50 × 14 × 33 см соответственно, соединенных центральной площадкой размером 14 × 14 см. Лабиринт был приподнят над уровнем пола на высоту 60 см. Во время тестирования открытые рукава лабиринта дополнительно освещались лампами мощностью 40 Вт, расположенными на высоте 30 см. В течение 5 мин. регистрировали время нахождения животных в открытых и закрытых рукавах ПКЛ, продолжительность реакции замирания, частоту дефекаций. Известно, что продолжительность нахождения особей в открытых рукавах ПКЛ обратно пропорциональна уровню тревожности [15]. По результатам тестирования в ПКЛ были сформированы группы, различающиеся по уровню тревожности: активные низкотревожные (АНТ, n = 18); активные высокотревожные (АВТ, n = 18); пассивные низкотревожные (ПНТ, n = 18); пассивные высокотревожные (ПВТ, n = 18). Каждая группа была разделена на три подгруппы: подгруппа 1 – контроль (крысы, не подвергавшиеся стрессорным и фармакологическим воздействиям), подгруппа 2 – модель ПТСР + инъекции физиологического раствора, подгруппа 3 – модель ПТСР + инъекции даларгина.
Известно, что распространенная модель ПТСР – “стресс-рестресс” формирует устойчивое тревожное состояние у грызунов, сходное с ПТСР человека [5]. В данной модели у животных наблюдали нарастающее с течением времени увеличение тревожности, пониженный уровень кортикостерона в крови, усиленное торможение ГАС глюкокортикоидными гормонами, изменение в экспрессии минерало- и глюкокортикоидных рецепторов гиппокампа [5]. В нашей работе для формирования экспериментального аналога ПТСР мы использовали водно-иммерсионное воздействие в парадигме “стресс-рестресс”: животных жестко фиксировали в железных пеналах и погружали по шею на 1 ч в воду (16°С), через 10 суток повторная процедура длилась в течение 30 мин. Тяжесть первого стресса по температурному режиму и продолжительности была экспериментально подобрана в предыдущих исследованиях с целью предотвращения летальных исходов в группе пассивных животных. Одновременно было установлено, что через 20 суток после первого стресса у животных формируется ПТСР-подобное состояние [14, 16]. Поэтому в наших опытах через 20 суток после первого стресса крысам из подгруппы 3 в течение недели один раз в день внутримышечно вводили раствор даларгина в дозе 0.1 мг/кг, а животным из подгруппы 2 – физиологический раствор в эквивалентном объеме. Следует отметить, что при системном введении в дозах до 1 мг/кг даларгин не проникает через гематоэнцефалический барьер [8, 12] и взаимодействует с опиоидными рецепторами только на периферии. Спустя 2 суток после недельного курса инъекций все животные были протестированы в ПКЛ, а спустя еще 2 суток крыс выводили из эксперимента и производили фиксацию надпочечников. Дизайн эксперимента представлен на схеме опыта (рис. 1).
Рис. 1. Схема опыта. Подгруппа 1 – контроль, подгруппа 2 – модель ПТСР + инъекции физиологического раствора, подгруппа 3 – модель ПТСР + инъекции даларгина.
Гистологическая обработка
Надпочечник (левый) очищали от жировой ткани и помещали в фиксирующую смесь Буэна (75 мл насыщенного раствора пикриновой кислоты + 20 мл 40%-ного формальдегида + 5 мл ледяной уксусной кислоты). Через 10 дней фиксированные надпочечники промывали в проточной воде и обезвоживали при последовательной инкубации в 30%-ном и 50%-ном этаноле в течение 60 мин. До последующей обработки материал был оставлен на хранение в 70%-ном этаноле.
Заливка в парафин
Дальнейшее обезвоживание надпочечников было проведено посредством последовательной инкубации в 80%- и 90%-ном этаноле по 60 мин., абсолютном этаноле – 3 смены по 60 мин, далее гистологический материал инкубировался 30 мин в бутаноле и затем помещался во вторую порцию бутанола на 14 ч. Затем надпочечники инкубировали в ксилоле (4 смены по 15 мин.) и помещали в термостат при температуре 56ºС в расплавленный парафин – 3 смены по 60 мин. Далее была сделана заливка в парафин.
Изготовление срезов
Парафиновые срезы толщиной 6–7 мкм изготавливали с помощью микротома. Перед окраской срезы подвергались депарафинированию посредством инкубации в ксилоле (2 смены по 5 мин), затем следы ксилола отмывались при последовательной инкубации в абсолютном этаноле, 90%- и 70%-ном этаноле – по 5 мин и 2 мин в дистиллированной воде. Для определения морфологических изменений в надпочечниках было проведено стандартное окрашивание срезов железным гематоксилином по методу Гейденгайна.
Фотографирование срезов и морфометрическое исследование
Срезы исследовали с использованием системы анализа изображения, включающей световой микроскоп Olympus CX31 (Япония), цветную цифровую камеру VideoZavr Standard VZ-C31Sr и программное обеспечение Видеозавр Мультиметр 2.3 (“АТМ-практика”, Санкт-Петербург). На микрофотографиях при помощи системы анализа изображения количественно оценивалась площадь мозгового вещества при увеличении в 4 раза (на 5 центральных срезах у каждого животного), толщина коркового слоя надпочечника и отдельных его зон (клубочковой, пучковой, сетчатой) – при увеличении в 10 раз (по 10 измерений каждой структуры по всему периметру среза на каждом из 5 центральных срезов у каждого животного). Диаметры ядер (d1, d2) клеток пучковой зоны и мозгового вещества измеряли в двух взаимно перпендикулярных сечениях при увеличении в 100 раз (по 50 ядер на каждом из 5 центральных срезов у каждого животного).
Площадь ядра рассчитывали по формуле: .
Статистический анализ данных
Статистическая обработка полученных результатов производилась с помощью SPSS Statistics 21 (IBM, США) и с использованием пакета программ STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc.). Морфометрические изменения надпочечников в модели ПТСР были проанализированы отдельно для каждой из групп (АНТ, АВТ, ПНТ и ПВТ). Сравнение проводилось между подгруппой 1 (контроль) и подгруппой 2 (модель ПТСР + + инъекции физиологического раствора), между подгруппой 2 и подгруппой 3 (модель ПТСР + инъекции даларгина), а также между контролем и подгруппой 3. C помощью критерия Шапиро-Уилка была сделана оценка нормальности распределения значений в выборках, а с помощью Levene′s test была сделана проверка равенства дисперсий. При нормальном распределении данных и равенстве дисперсий в группах для анализа был использован однофакторный ANOVA с апостериорным критерием Тьюки, а при нормальном распределении и неоднородности дисперсий был применен ANOVA с поправкой Уэлча и апостериорным критерием Геймс-Хоуэла. При построении графиков использовалось программное обеспечение GraphPad Prism 8. Результаты на графиках представлены в виде M ± SD (M – среднее значение; SD – стандартное отклонение). Результаты в табл. 1 представлены в виде M ± SEM (M – среднее значение; SEM – стандартная ошибка среднего). Различия считались статистически значимыми при р < 0.05, при 0.05 ≤ p ≤ 0.1 отмечали наличие тенденции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Формирование экспериментальных групп животных
По результатам тестирования в Т-образном лабиринте для каждого животного были рассчитаны индексы поведенческой активности (ИПА) и пассивности (ИПП). После тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) были сформированы группы, различающиеся по уровню тревожности. В табл. 1 представлены результаты тестирования крыс в Т-образном лабиринте и ПКЛ с учетом разделения активных и пассивных крыс на низкотревожных и высокотревожных.
Таблица 1. Результаты тестирования в Т-лабиринте и приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ), (M ± SEM)
группа | ИПА (%) | ИПП (%) | время в ОР ПКЛ (с) |
АНТ, n = 18 | 95.09 ± 0.33 | 1.85 ± 0.17 | 24.17 ± 0.58 |
АВТ, n = 18 | 94.26 ± 0.41 | 1.67 ± 0.19 | 0 |
ПНТ, n = 18 | 52.78 ± 0.78 | 38.89 ± 0.89 | 15.0 ± 0.51 |
ПВТ, n = 18 | 55.37 ± 0.57 | 33.43 ± 0.59 | 0 |
Группа АНТ – активные низкотревожные крысы, группа АВТ – активные высокотревожные крысы, группа ПНТ – пассивные низкотревожные крысы, группа ПВТ – пассивные высокотревожные крысы; ИПА – индекс поведенческой активности; ИПП – индекс поведенческой пассивности; ПКЛ – приподнятый крестообразный лабиринт; ОР ПКЛ – открытые рукава ПКЛ; n – число крыс.
Каждая группа была разделена на три подгруппы: подгруппа 1 – контроль (крысы, не подвергавшиеся стрессорным и фармакологическим воздействиям), подгруппа 2 – модель ПТСР + инъекции физиологического раствора, подгруппа 3 – модель ПТСР + + инъекции даларгина.
Группа АНТ (активные низкотревожные крысы)
Микроскопическое исследование показало наличие четкой зональности коры надпочечников у контрольных крыс группы АНТ. Архитектоника клеток в зонах не была нарушена. Клетки клубочковой зоны, расположенные в виде арок, петель и клубочков, имели цитоплазму слабоинтенсивной окраски за счет светлых жировых включений. Между клубочками располагались синусоидные капилляры. Клетки пучковой зоны образовывали длинные тяжи, ориентированные почти перпендикулярно поверхности коры и разделенные синусоидными капиллярами. Из-за большого количества липидных включений цитоплазма имела зернистый вид. Клетки сетчатой зоны выглядели более мелкими по сравнению с клетками пучковой и клубочковой зон. Мелкие липидные включения равномерно распределялись в цитоплазме. Между тяжами клеток сетчатой зоны располагались широкие синусоидные капилляры (рис. 2a, d).
Рис. 2. Кора надпочечников крыс группы АНТ, окраска железным гематоксилином по методу Гейденгайна. I (a, d) – подгруппа 1 (контроль); II (b, e) – подгруппа 2 (модель ПТСР + инъекции физиологического раствора); III (c, f) – подгруппа 3 (модель ПТСР + инъекции даларгина); (a, b, c) – ув. 20; (d, e, f) – ув. 40.
В модели ПТСР (подгруппа 2) количественное соотношение клубочковой, пучковой и сетчатой зон коры надпочечников по сравнению с контролем изменилось (рис. 3a). Одновременно было обнаружено уменьшение толщины коры надпочечников на 11% (рис. 3b). Толщина пучковой зоны осталась на уровне контроля (рис. 3e), одновременно площадь ядер клеток пучковой зоны уменьшилась на 9% (рис. 3f). Площадь мозгового вещества не отличалась от контроля (рис. 3g), но наблюдалась тенденция (p = 0.082) укрупнения ядер в клетках этой структуры (рис. 3h). Выраженных морфологических изменений адренокортикоцитов у АНТ крыс подгруппы 2 по сравнению с подгруппой 1 обнаружено не было (рис. 2b, e).
Введение даларгина в модели ПТСР (подгруппа 3) мало изменило (по сравнению с подгруппой 2) количественное зональное соотношение (рис. 3a). Морфометрическое исследование показало увеличение (по сравнению с подгруппой 2) толщины пучковой зоны на 14% (рис. 3e) и площади ядер в клетках этой структуры на 9.5% (рис. 3f). В пучковой зоне можно было наблюдать появление клеток с крупными липидными включениями в цитоплазме (рис. 2c, f). Под влиянием даларгина в модели ПТСР было также обнаружено увеличение площади мозгового вещества на 21% (рис. 3g).
Таким образом, развитие ПТСР-подобного состояния у АНТ крыс сопровождалось только снижением активности ядер в клетках пучковой зоны и тенденцией повышения активности ядер в клетках мозгового вещества, тогда как даларгин в модели ПТСР способствовал активации и стимуляции синтетической активности пучковой зоны (утолщение зоны, активация клеточных ядер, появление крупных жировых включений в цитоплазме) и мозгового вещества (увеличение площади мозгового вещества).
Рис. 3. Морфометрические показатели надпочечников крыс группы АНТ; (a) – процентное соотношение клубочковой (zG), пучковой (zF) и сетчатой (zR) зон в коре надпочечников; на графиках (b, c, d, e, f, g, h) – морфометрические изменения коры и мозгового вещества надпочечников, результаты представлены в виде M ± SD и приведены индивидуальные значения для каждого животного. I – подгруппа 1, контроль; II – подгруппа 2, модель ПТСР + инъекции физиологического раствора; III – подгруппа 3, модель ПТСР + инъекции даларгина; * p < 0.05, ** р < 0.01, *** p < 0.001 – достоверные отличия между подгруппами в ANOVA с апостериорным критерием Тьюки или ANOVA с поправкой Уэлча и апостериорным критерием Геймс-Хоуэла, 0.05 ≤ p ≤ 0.1 (p = 0.082) – тенденция различий между подгруппами в ANOVA с апостериорным критерием Тьюки; (b) – толщина коры надпочечников, F(₂,₁₅)= 35.63, p < 0.001, по оси ординат – thickness adrenal cortex, μm (толщина коры надпочечников, мкм); (c) – толщина клубочковой зоны, F(₂,₁₅)= 2.68, p = 0.101, по оси ординат – thickness zG, μm (толщина клубочковой зоны, мкм); (d) – толщина сетчатой зоны, F(₂,₁₅)= 2.8, p = 0.09, по оси ординат – thickness zR, μm (толщина сетчатой зоны, мкм); (e) – толщина пучковой зоны, F(₂,₇.₆₂)= 7.38, p = 0.017, по оси ординат – thickness zF, μm (толщина пучковой зоны, мкм); (f) – площадь ядра в клетках пучковой зоны, F(₂,₁₅)= 21.43; p < 0.001, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²); (g) – площадь мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 7.82, p = 0.005, по оси ординат – the area of the adrenal medulla, mm² (площадь мозгового вещества, мм²); (h) – площадь ядра в клетках мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 2.73, p = 0.096. по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²).
Группа АВТ (активные высокотревожные крысы)
У контрольных АВТ крыс зональность коры надпочечников и архитектоника клеток в зонах не были нарушены. Плотно расположенные клетки клубочковой зоны отличались интенсивно окрашенной цитоплазмой (рис. 4a, d). Между клубочками располагались синусоидные капилляры. Тяжи плотно расположенных клеток пучковой зоны были ориентированы перпендикулярно поверхности коры и окружены синусоидными капиллярами. В пучковой зоне были обнаружены клетки с интенсивно окрашенной цитоплазмой, а также клетки с большим количеством мелких жировых включений, определяющих слабую интенсивность окраски цитоплазмы и придающих ей зернистый вид. В цитоплазме клеток сетчатой зоны мелкие липидные включения были равномерно распределены. Между тяжами клеток располагались широкие синусоидные капилляры.
Рис. 4. Кора надпочечников крыс группы АВТ, окраска железным гематоксилином по методу Гейденгайна. I (a, d) – подгруппа 1 (контроль); II (b, e, g) – подгруппа 2 (модель ПТСР + инъекции физиологического раствора); III (c, f) – подгруппа 3 (модель ПТСР + инъекции даларгина); (a, b, c) – ув. 20; (d, e, f) – ув. 40; (g) – ув. 100.
В модели ПТСР (подгруппа 2) количественное зональное соотношение в коре, по сравнению с контролем, изменилось (рис. 5a). Достоверного изменения толщины коры, клубочковой и сетчатой зон не наблюдалось (рис. 5b, c, d), тогда как толщина пучковой зоны увеличилась на 10% (рис. 5e). Большинство клеток пучковой зоны имели слабо окрашенную цитоплазму с большим количеством крупных жировых включений (рис. 4b, e, g).
Введение даларгина в модели ПТСР (подгруппа 3) почти не изменило, по сравнению с подгруппой 2, количественное зональное соотношение (рис. 5a), хотя способствовало уменьшению толщины коры надпочечников на 10% (рис. 5b). Под воздействием даларгина в модели ПТСР (подгруппа 3) толщина пучковой зоны осталась в пределах контрольных значений (рис. 5e), а клетки зоны имели интенсивно окрашенную цитоплазму, содержащую мелкие жировые включения (рис. 4c, f).
Рис. 5. Морфометрические показатели надпочечников крыс группы АВТ; (a) – процентное соотношение клубочковой (zG), пучковой (zF) и сетчатой (zR) зон в коре надпочечников; на графиках (b, c, d, e, f, g, h) – морфометрические изменения коры и мозгового вещества надпочечников, результаты представлены в виде M ± SD и приведены индивидуальные значения для каждого животного. I – подгруппа 1, контроль; II – подгруппа 2, модель ПТСР + инъекции физиологического раствора; III – подгруппа 3, модель ПТСР + инъекции даларгина; * p < 0.05, *** p < 0.001 – достоверные отличия между подгруппами в ANOVA с апостериорным критерием Тьюки; (b) – толщина коры надпочечников, F(₂,₁₅)= 24.35, p < 0.001, по оси ординат – thickness adrenal cortex, μm (толщина коры надпочечников, мкм); (c) – толщина клубочковой зоны, F(₂,₁₅)= 0.23, p = 0.79, по оси ординат – thickness zG, μm (толщина клубочковой зоны, мкм); (d) – толщина сетчатой зоны, F(₂,₁₅)= 3.14, p = 0.072, по оси ординат – thickness zR, μm (толщина сетчатой зоны, мкм); (e) – толщина пучковой зоны, F(₂,₁₅)= 5.84, p = 0.013, по оси ординат – thickness zF, μm (толщина пучковой зоны, мкм); (f) – площадь ядра в клетках пучковой зоны, F(₂,₁₅)= 0.064, p = 0.94, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²); (g) – площадь мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 3.38, p = 0.061, по оси ординат – the area of the adrenal medulla, mm² (площадь мозгового вещества, мм²); (h) – площадь ядра в клетках мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 1.3, p = 0.3, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²).
Таким образом, при развитии ПТСР-подобного состояния у АВТ крыс стимулировалась синтетическая активность пучковой зоны коры надпочечников, проявлением чего было увеличение толщины зоны и накопления в цитоплазме клеток крупных жировых включений. Даларгин, в свою очередь, ингибировал активацию этого процесса.
Группа ПНТ (пассивные низкотревожные крысы)
Рис. 6. Кора надпочечников крыс группы ПНТ, окраска железным гематоксилином по методу Гейденгайна. I (a, d, g) – подгруппа 1 (контроль); II (b, e) – подгруппа 2 (модель ПТСР + инъекции физиологического раствора); III (c, f) – подгруппа 3 (модель ПТСР + инъекции даларгина); (a) – ув. 20; (b, c, d, g) – ув. 40; (e, f) – ув. 100.
У контрольных ПНТ крыс кора надпочечников имела четкую зональность. Нарушений архитектоники клеток в зонах не было обнаружено. Большинство клеток клубочковой зоны содержали слабо окрашенную цитоплазму (рис. 6a, g). В пучковой зоне можно было наблюдать клетки со слабо окрашенной цитоплазмой, включающей жировые капли, одновременно часть клеток содержали сильно окрашенную цитоплазму зернистого вида (рис. 6a, d). Ядра округлой формы имели ярко окрашенную оболочку. Тяжи клеток пучковой зоны разделяли синусоидные капилляры. Клетки сетчатой зоны были мельче, чем в клубочковой и пучковой зонах, и содержали в цитоплазме мелкие жировые включения. Сетчатую зону пронизывали широкие синусоидные капилляры.
Рис. 7. Морфометрические показатели надпочечников крыс группы ПНТ; (a) – процентное соотношение клубочковой (zG), пучковой (zF) и сетчатой (zR) зон в коре надпочечников; на графиках (b, c, d, e, f, g, h) – морфометрические изменения коры и мозгового вещества надпочечников, результаты представлены в виде M ± SD и приведены индивидуальные значения для каждого животного. I – подгруппа 1, контроль; II – подгруппа 2, модель ПТСР + инъекции физиологического раствора; III – подгруппа 3, модель ПТСР + инъекции даларгина; * p < 0.05, ** р < 0.01, *** p < 0.001 – достоверные отличия между подгруппами в ANOVA с апостериорным критерием Тьюки; (b) – толщина коры надпочечников, F(₂,₁₅)= 43.9, p < 0.001, по оси ординат – thickness adrenal cortex, μm (толщина коры надпочечников, мкм); (c) – толщина клубочковой зоны, F(₂,₁₅)= 4.34, p = 0.032, по оси ординат – thickness zG, μm (толщина клубочковой зоны, мкм); (d) – толщина сетчатой зоны, F(₂,₁₅)= 11.46, p < 0.001, по оси ординат – thickness zR, μm (толщина сетчатой зоны, мкм); (e) – толщина пучковой зоны, F(2,15 )= 4.78, p = 0.041, по оси ординат – thickness zF, μm (толщина пучковой зоны, мкм); (f) – площадь ядра в клетках пучковой зоны, F(₂,₁₅)= 6.65, p = 0.008, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²); (g) – площадь мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 4.18, p = 0.036, по оси ординат – the area of the adrenal medulla, mm² (площадь мозгового вещества, мм²); (h) – площадь ядра в клетках мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 15.34, p < 0.001, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²).
В модели ПТСР (подгруппа 2) количественное зональное соотношение в коре, по сравнению с контролем, изменилось (рис. 7a). Было обнаружено уменьшение толщины коры надпочечников на 11% (рис. 7b) за счет истончения клубочковой (рис. 7c) и сетчатой (рис. 7d) зон на 11% и 27% соответственно.
Одновременно наблюдалось утолщение пучковой зоны на 17% (рис. 7e) и уменьшение площади ядер в клетках этой структуры на 10.5% (рис. 7f). В пучковой зоне появилось большое количество клеток с многочисленными крупными жировыми включениями (рис. 6b, e). Ядра клеток пучковой зоны стали продолговатой или угловатой формы со слабоокрашенной ядерной оболочкой (рис. 6e). Было также обнаружено уменьшение площади мозгового вещества надпочечников на 41% (рис. 7g) и площади ядер в мозговом веществе на 8% (рис. 7h).
После введения даларгина в модели ПТСР (подгруппа 3) соотношение клубочковой, пучковой и сетчатой зон в коре мало изменилось (рис. 7a). Толщина пучковой зоны и средняя площадь ядра у крыс подгруппы 3 не отличались от этих показателей для подгруппы 2 (рис. 7e, f). В клетках пучковой зоны у крыс подгруппы 3, так же как и в подгруппе 2, были обнаружены многочисленные крупные жировые включения в цитоплазме и изменение формы ядер (рис. 6c, f). Одновременно было обнаружено еще большее уменьшение площади ядер в клетках мозгового вещества (рис. 7h).
Таким образом, развитие ПТСР-подобного состояния у ПНТ крыс сопровождалось стимуляцией синтетических процессов в пучковой зоне за счет увеличения толщины зоны и накопления многочисленных крупных жировых включений в цитоплазме клеток, хотя одновременно происходило снижение активности ядер клеток пучковой зоны и уменьшение синтетической активности мозгового вещества. Даларгин в модели ПТСР практически не оказал влияния на морфологические изменения надпочечников у крыс группы ПНТ.
Группа ПВТ (пассивные высокотревожные крысы)
У контрольных ПВТ крыс часть клеток клубочковой зоны содержали слабо-окрашенную цитоплазму, а часть – сильноокрашенную плотную цитоплазму (рис. 8a, d). Цитоплазма клеток пучковой зоны в основном была интенсивно окрашена и содержала мелкие жировые включения, что определяло ее зернистый вид. В некоторых клетках наблюдалась слабоокрашенная цитоплазма. Тяжи клеток пучковой и сетчатой зон разделялись синусоидными капиллярами.
В модели ПТСР (подгруппа 2) количественное соотношение клубочковой, пучковой и сетчатой зон коры надпочечников, по сравнению с контролем, почти не изменилось (рис. 9a). Достоверных изменений морфометрических показателей надпочечников обнаружено не было (рис. 9b, c, d, e, f, g, h). Выраженных морфологических изменений в коре надпочечников, по сравнению с подгруппой 1, тоже не наблюдалось (рис. 8b, e).
Рис. 8. Кора надпочечников крыс группы ПВТ, окраска железным гематоксилином по методу Гейденгайна. I (a, d) – подгруппа 1 (контроль); II (b, e) – подгруппа 2 (модель ПТСР + инъекции физиологического раствора); III (c, f) – подгруппа 3 (модель ПТСР + инъекции даларгина); (a, b) – ув. 20; (c, d, e) – ув. 40; (f) – ув. 100.
Введение даларгина в модели ПТСР (подгруппа 3) изменило, по сравнению с подгруппой 2, количественное зональное соотношение в коре надпочечников (рис. 9a) и способствовало утолщению пучковой зоны на 23% (рис. 9e). Выраженных морфологических изменений в коре надпочечников, по сравнению с подгруппой 2, обнаружено не было (рис. 8c, f).
Рис. 9. Морфометрические показатели надпочечников крыс группы ПВТ; (a) – процентное соотношение клубочковой (zG), пучковой (zF) и сетчатой (zR) зон в коре надпочечников; на графиках (b, c, d, e, f, g, h) – морфометрические изменения коры и мозгового вещества надпочечников, результаты представлены в виде M ± SD и приведены индивидуальные значения для каждого животного. I – подгруппа 1, контроль; II – подгруппа 2, модель ПТСР + инъекции физиологического раствора; III – подгруппа 3, модель ПТСР + инъекции даларгина; ** р < 0.01 – достоверные отличия между подгруппами в ANOVA с поправкой Уэлча и апостериорным критерием Геймс-Хоуэла; (b) – толщина коры надпочечников, F(₂,₁₅)= 0.29, p = 0.7, по оси ординат – thickness adrenal cortex, μm (толщина коры надпочечников, мкм); (c) – толщина клубочковой зоны, F(₂,₁₅)= 2.4, p = 0.12, по оси ординат – thickness zG, μm (толщина клубочковой зоны, мкм); (d) – толщина сетчатой зоны, F(₂,₁₅)= 0.72, p = 0.49, по оси ординат – thickness zR, μm (толщина сетчатой зоны, мкм); (e) – толщина пучковой зоны, F(2,8.70) = 7.94, p = 0.011, по оси ординат – thickness zF, μm (толщина пучковой зоны, мкм); (f) – площадь ядра в клетках пучковой зоны, F(₂,₁₅)= 0.81, p = 0.45, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²); (g) – площадь мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 0.99, p = 0.39, по оси ординат – the area of the adrenal medulla, mm² (площадь мозгового вещества, мм²); (h) – площадь ядра в клетках мозгового вещества, F(₂,₁₅)= 0.3, p = 0.74, по оси ординат – the area of the nucleus, μm² (площадь ядра, мкм²).
Для определения уровня тревожности через 2 суток после окончания недельного курса инъекций даларгина (подгруппа 3) и физиологического раствора (подгруппа 2) крысы всех подгрупп (1, 2, 3) были протестированы в ПКЛ (рис. 1). Выведение крыс из эксперимента и фиксация надпочечников были сделаны спустя 2 суток после тестирования в ПКЛ. Результаты исследования о влиянии даларгина в модели ПТСР на развитие тревожности у крыс различных групп (АНТ, АВТ, ПНТ, ПВТ) нами были опубликованы в 2021 [13]. В табл. 2 представлены данные по изменению тревожности [13] и морфометрические изменения пучковой зоны и мозгового вещества у крыс различных групп (АНТ, АВТ, ПНТ, ПВТ).
У крыс группы АНТ в модели ПТСР (подгруппа 2) уровень тревожности, по сравнению с контролем, не изменялся (табл. 2), толщина пучковой зоны коры надпочечников и площадь мозгового вещества тоже не отличались от контрольных значений. После курса инъекций даларгина в модели ПТСР у АНТ крыс было обнаружено повышение тревожности. Одновременно увеличились толщина пучковой зоны и площадь ядер клеток зоны, а также площадь мозгового вещества. У крыс группы АВТ в модели ПТСР (подгруппа 2) уровень тревожности, по сравнению с контролем, повысился, одновременно происходило увеличение толщины пучковой зоны. Под влиянием даларгина в модели ПТСР (подгруппа 3) уровень тревожности у АВТ крыс, по сравнению с подгруппой 2, оказался значительно ниже. Одновременно мы обнаружили уменьшение толщины пучковой зоны. У ПНТ крыс в модели ПТСР повышение тревожности тоже сопровождалось увеличением толщины пучковой зоны, но одновременно было зафиксировано уменьшение площади ядер клеток зоны, площади мозгового вещества и площади ядер клеток мозгового вещества. Под влиянием даларгина в модели ПТСР был зафиксирован, по сравнению с подгруппой 2, еще более высокий уровень тревожности, одновременно мы обнаружили еще большее уменьшение площади ядер мозгового вещества у ПНТ крыс. У крыс группы ПВТ морфометрические изменения показателей пучковой зоны наблюдались только в подгруппе 3, причем изменения уровня тревожности в подгруппах 2 и 3 обнаружено не было (табл. 2).
Таблица 2. Влияние даларгина в модели ПТСР на тревожность и морфометрические показатели пучковой зоны (zF) коры и мозгового вещества (МВ) надпочечников
группа | параметр | подгруппа 2 | подгруппа 3 |
АНТ | тревожность | = | ↑ |
толщина zF (мкм) | = | ↑ 14% | |
площадь ядер клеток zF (мкм²) | ↓ 9% | ↑ 9.5% | |
площадь МВ (мм²) | = | ↑ 21% | |
площадь ядер клеток МВ (мкм²) | ~↑ 6% | = | |
АВТ | тревожность | ↑ | ↓ |
толщина zF (мкм) | ↑ 10% | ↓ 11% | |
площадь ядер клеток zF (мкм²) | = | = | |
площадь МВ (мм²) | = | = | |
площадь ядер клеток МВ (мкм²) | = | = | |
ПНТ | тревожность | ↑ | ↑↑ |
толщина zF (мкм) | ↑ 17% | = | |
площадь ядер клеток zF (мкм²) | ↓ 10.5% | = | |
площадь МВ (мм²) | ↓ 41% | = | |
площадь ядер клеток МВ (мкм²) | ↓ 8% | ↓↓ 7% | |
ПВТ | тревожность | = | = |
толщина zF (мкм) | = | ↑ 23% | |
площадь ядер клеток zF (мкм²) | = | = | |
площадь МВ (мм²) | = | = | |
площадь ядер клеток МВ (мкм²) | = | = |
Группа АНТ – активные низкотревожные крысы; группа АВТ – активные высокотревожные крысы; группа ПНТ – пассивные низкотревожные крысы; группа ПВТ – пассивные высокотревожные крысы; под- группа 2 – модель ПТСР + инъекции физиологического раствора; подгруппа 3 – модель ПТСР + инъекции даларгина; обозначения в графе “подгруппа 2” показывают изменения параметров по сравнению с контролем; обозначения в графе “подгруппа 3” показывают изменения параметров по сравнению с подгруп- пой 2; (↑) – увеличение, (↓) – уменьшение, (~↑) – тенденция увеличения.
Таким образом, у животных АНТ, АВТ и ПНТ групп можно было проследить однонаправленность изменений тревожности и толщины пучковой зоны. Интересно также отметить, что у пассивных низкотревожных крыс (ПНТ) повышение тревожности сопровождалось увеличением только толщины пучковой зоны, а площадь ядер клеток зоны, площадь мозгового вещества и площадь ядер клеток мозгового вещества при этом уменьшались. В то же время у активных особей (АНТ и АВТ) увеличение толщины пучковой зоны никогда не сопровождалось уменьшением площади ядер клеток зоны.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Кора и мозговое вещество надпочечников играют решающую роль в реакции организма на стресс, а их морфофункциональные изменения являются одним из основных показателей стрессорного ответа. Несмотря на зональное строение, кора функционирует как единое целое, причем установлено, что клетки железы мигрируют центростремительно, изменяясь фенотипически и функционально по мере продвижения через клубочковую, пучковую и ретикулярную зоны, подвергаясь затем апоптозу [17]. Таким образом, выбор и поддержание клеточного фенотипа, а также наличие в клетках ферментов, необходимых для продукции определенных стероидов, зависит от пространственной локализации внутри железы. Ключевым гормоном, контролирующим стероидогенез, а также пролиферацию и дифференциацию клеток в корковом слое, является АКТГ [18].
По результатам морфометрического исследования надпочечников у крыс группы АНТ в модели ПТСР размер пучковой зоны, находящейся под непосредственным стимулирующим влиянием АКТГ [18, 19], не отличался от контроля. Уменьшение размеров ядер в клетках пучковой зоны при отсутствии различий в размере самой зоны (по сравнению с контролем) может свидетельствовать о стабилизации секреторной динамики у АНТ особей в стрессорных условиях. Одновременно была зафиксирована тенденция увеличения размера ядер в клетках мозгового вещества надпочечников, что может свидетельствовать о синтетической активности, связанной не только с выбросом катехоламинов, но и эндорфинов [20, 21]. Все это демонстрирует развитую стресс-лимитирующую систему крыс группы АНТ и согласуется с данными об отсутствии изменений в поведении, которые демонстрировали бы повышение тревожности у этих животных в модели ПТСР [13], по-видимому, в связи с адекватной продукцией CRF в экстрагипоталамических структурах мозга [22, 23].
У крыс группы АВТ в модели ПТСР нами было обнаружено утолщение пучковой зоны и накопление крупных жировых включений в цитоплазме, вероятно, вследствие хронического повышения стимулирующего воздействия АКТГ на кору надпочечников, в том числе на доставку [19, 24] и накопление [25] предшественников гормонов. Увеличение вакуолизации цитоплазмы клеток пучковой зоны при развитии ПТСР-подобного состояния было отмечено в исследованиях и других авторов [26]. Известно, что хронически высокий уровень циркулирующего АКТГ может быть обнаружен в результате нарушения регуляции ГАС по механизму отрицательной обратной связи, что, вероятно, одновременно с повышением тревожности [13] и происходит у крыс группы АВТ в модели ПТСР, как у высокотревожных крыс high anxiety behavior [27].
У крыс группы ПНТ в модели ПТСР повышение тревожности [13], увеличение пучковой зоны [18] и накопление предшественников гормонов [19, 24, 25] в цитоплазме клеток пучковой зоны, возможно, тоже связано с хронически повышенным стимулирующим воздействием АКТГ в результате нарушения регуляции ГАС по механизму отрицательной обратной связи. Однако в отличие от крыс группы АВТ у ПНТ особей вместе с утолщением пучковой зоны было зафиксировано уменьшение размеров ядер в клетках, что может быть признаком патологических изменений [28] в результате чрезмерной выработки кортикостерона [2, 29]. Одновременно с изменениями в коре надпочечников у ПНТ крыс в модели ПТСР происходит уменьшение площади мозгового вещества и ядер в клетках этой структуры, что может свидетельствовать о снижении активности мозгового вещества.
Фармакологический препарат “Даларгин”, воздействуя только на периферические δ-опиоидные рецепторы, способен блокировать выработку глюкокортикоидов, нормализовать их содержание в крови стрессированных животных и препятствовать развитию гипертрофии надпочечников [8]. В ряде исследований указывается, что агонисты δ-опиоидных рецепторов оказывают анксиолитическое влияние на линейных мышей, демонстрирующих высокий уровень страха. [30, 31].
По результатам проведенного нами ранее исследования поведения [13] даларгин на крыс группы АВТ в модели ПТСР тоже оказал анксиолитическое действие. В нашем исследовании под воздействием даларгина в модели ПТСР толщина пучковой зоны у крыс группы АВТ практически не отличалась от контрольных значений. Экзогенное введение даларгина, по-видимому, восполнило дефицит эндоопиоидов и воспрепятствовало нарушению регуляции ГАС по механизму отрицательной обратной связи.
После инъекций даларгина в модели ПТСР у крыс группы АНТ мы обнаружили увеличение размеров пучковой зоны и мозгового вещества надпочечников, по сравнению с подгруппой 2, что свидетельствует о стимулирующем влиянии CRF и АКТГ на секрецию кортикостерона и адреналина, вероятно, в связи с недостаточным их количеством в крови, так как продукция этих гормонов блокируется даларгином. В опубликованных исследованиях [8, 30] указывается, что у животных, демонстрирующих стресс-устойчивость, зафиксировано увеличение содержания эндоопиоидов в крови и тканях. Можно предположить, что в наших опытах у крыс группы АНТ стресс-устойчивость в модели ПТСР обусловливается повышением содержания эндоопиоидов в крови и тканях, по сравнению с интактными особями этой же группы. Введение экзогенного агониста δ-опиоидных рецепторов даларгина крысам группы АНТ в модели ПТСР, по-видимому, нарушает сбалансированную систему взаимодействия стресс-реализующих и стресс-лимитирующих механизмов, вызывая опиоид-индуцированную недостаточность функции надпочечников [32]. Возможно, связанное с этими процессами увеличение уровня CRF, синтезируемого в ответ на снижение концентрации стрессорных гормонов надпочечников, может быть причиной повышения тревожности подгруппы 3 крыс группы АНТ [4, 33 - 35].
Высокая тревожность стрессированных крыс группы ПНТ, получавших инъекции даларгина [13], и сохранение у них, по сравнению с подгруппой 2, изменений в пучковой зоне, характерных для ПТСР-подобного состояния (увеличение вакуолизации цитоплазмы [26] и уменьшение размера ядер в клетках пучковой зоны [28]) свидетельствует об отсутствии антистрессорного действия даларгина на этих животных.
При ранее проведенном нами исследовании поведения крыс группы ПВТ в модели ПТСР нам не удалось обнаружить достоверных изменений ни после введения физиологического раствора, ни после инъекций даларгина [13]. В результате морфометрического исследования надпочечников у крыс группы ПВТ только после введения даларгина в модели ПТСР было обнаружено увеличение пучковой зоны коркового слоя. Таким образом, в связи с высокой тревожностью, свойственной данной группе в интактном состоянии, можно предположить малую вариативность физиологических адаптивных изменений, что подтверждается гистологической картиной при воздействии даларгина в модели ПТСР.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Морфологическое исследование надпочечников показало, что у крыс группы АНТ в результате введения даларгина в модели ПТСР происходит увеличение размеров пучковой зоны коры и мозгового вещества надпочечников, что обусловлено усилением синтетической активности клеток в этих структурах.
У крыс группы АВТ при развитии ПТСР-подобного состояния было обнаружено усиление синтетической активности пучковой зоны коры надпочечников, а даларгин в модели ПТСР блокировал продукционную деятельность надпочечников.
У крыс группы ПНТ в модели ПТСР наряду с увеличением толщины пучковой зоны уменьшается активность ядер клеток пучковой зоны коры и активность клеток мозгового вещества надпочечников. Введение даларгина практически не изменило морфологию надпочечников у стрессированных ПНТ животных.
У крыс группы ПВТ после введения даларгина в модели ПТСР, судя по морфологическим изменениям, усиливается синтетическая активность пучковой зоны.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Работа проведена на животных из питомника Института физиологии им. И.П. Павлова РАН с соблюдением рекомендаций по этике работы с животными (Directive 2010/63/ЕU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes). Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями и были одобрены Комиссией по этике Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, протокол 06/08 от 08 июня 2020 г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета при поддержке Госпрограммы 47 ГП “научно-технологическое развитие Российской Федерации” (2019-2030), тема № 0134-2019-0002. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
ВКЛАД АВТОРОВ
Идея работы и планирование эксперимента (А.В.В., Н.Э.О.), подготовка экспериментальных животных (О.Г.С., А.В.П.) сбор данных (А.В.П., А.В.В., В.В.Р., О.Г.С.), обработка данных (В.В.Р., О.Г.С., А.В.П.), написание и редактирование манускрипта (А.В.В., О.Г.С., А.В.П., Н.Э.О.).
About the authors
O. G. Semenova
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: SemenovaOG@infran.ru
Russian Federation, St. Petersburg
A. V. Vyushina
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
Email: SemenovaOG@infran.ru
Russian Federation, St. Petersburg
A. V. Pritvorova
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
Email: SemenovaOG@infran.ru
Russian Federation, St. Petersburg
V. V. Rakitskaya
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
Email: SemenovaOG@infran.ru
Russian Federation, St. Petersburg
N. E. Ordyan
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
Email: SemenovaOG@infran.ru
Russian Federation, St. Petersburg
References
- Lisieski MJ, Eagle AL, Conti AC, Liberzon I, Perrine SA (2018) Single-prolonged stress: a review of two decades of progress in a rodent model of post-traumatic stress disorder. Front Psychiatry 9: 196. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00196
- Wilson CB, McLaughlin LD, Nair A, Ebenezer PJ, Dange R, Francis J (2013) Inflammation and oxidative stress are elevated in the brain, blood, and adrenal glands during the progression of post-traumatic stress disorder in a predator exposure animal model. PloS One 8(10): e76146. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076146
- Ressler KJ, Berretta S, Bolshakov VY, Rosso IM, Meloni EG, Rauch SL, Carlezon Jr WA (2022) Post-traumatic stress disorder: clinical and translational neuroscience from cells to circuits. Nat Rev Neurol 18(5): 273–288. https://doi.org/10.1038/s41582-022-00635-8
- Шаляпина ВГ (2005) Кортиколиберин в регуляции приспособительного поведения и патогенезе постстрессорной психопатологии. В кн: Основы нейроэндокринологии. Шаляпина ВГ, Шабанов ПД (ред). Элби-СПб. 84–146. [Shalyapina VG (2005) Corticoliberin in the regulation of adaptive behavior and the pathogenesis of post-stress psychopathology. In: Bases of Neuroendocrinology. Eds: Shalyapina VG, Shabanov PD (Eds). Elbi-SPb. 84–146. (In Russ)].
- Миронова ВИ, Рыбникова ЕА (2008) Устойчивые модификации экспрессии нейрогормонов в гипоталамусе крыс в модели посттравматического стрессового растройства. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 94(11): 1277–1284. [Mironova VI, Rybnikova EA (2008) Modifications of hypothalamic neurohormone expression in animal model of post-traumatic stress disorder. Russ J Physiol 94(11): 1277–1284. (In Russ)].
- Yehuda R (2009) Status of glucocorticoid alterations in post-traumatic stress disorder. Ann N Y Acad Sci 1179: 56–69. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04979.x
- Blum K, Modestino EJ, Baron D, Brewer R, Thanos P, Elman I, Badgaiyan RD, Downs BW, Bagchi D, McLaughlin Th, Bowirrat A, Roy AK, Gold MS (2021) Endorphinergic enhancement attenuation of post-traumatic stress disorder (PTSD) via activation of neuro-immunological function in the face of a viral pandemic. Curr Psychopharmacol 10: 86–97. https://doi.org/10.2174/2211556009999210104221215
- Лишманов ЮБ, Маслов ЛН, Нарыжная НВ, Пей Ж-М, Колар Ф, Жанг И, Портниченко АГ, Ванг Х (2012) Эндогенная опиоидная система как звено срочной и долговременной адаптации организма к экстремальным воздействиям. Перспективы клинического применения опиоидных пептидов. Вестник РАМН 6: 73–82. [Lishmanov YuB, Maslov LN, Naryzhnaya NV, Pei JM, Kolar F, Zhang Y, Portnichenko AG, Wang H (2012) Endogenous opioid system as a mediator of acute and long-term adaptation to stress. Prospects for clinical use of opioid peptides. Ann Russ Acad Med Sci 6: 73–82. (In Russ)].
- Ziegler CG, Mohn C, Lamounier-Zepter V, Rettori V, Bornstein SR, Krug AW, Ehrhart-Borns- tain M (2010) Expression and function of endocannabinoid receptors in the human adrenal cortex. Horm Metab Res 42: 88–92. https://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1241860
- Niederhoffer N, Hansen HH, Fernandez-Ruiz JJ, Szabo B (2001) Effects of cannabinoids on adrenaline release from adrenal medullary cells. Br J Pharmacol 134(6): 1319–1327.
- Лихванцев ВВ, Гребенчиков ОА, Шапошников АА, Борисов КЮ, Черпаков РА, Шуль- гина НМ (2012) Фармакологическое прекондиционирование: роль опиоидных пептидов. Общая реаниматол 8(3): 51–54. [Likhvantsev VV, Grebenchikov OA, Shaposhnikov AA, Borisov Kyu, Cherpakov RA, Shulgina NV (2012) Pharmacological preconditioning: role of opioid peptides. Gener Reanimatol 8(3): 51–54. (In Russ)].
- Маслов ЛН, Мухомедзянов АВ, Лишманов ЮБ (2016) Роль эндогенной опиоидной системы в регуляции функционального состояния сердца. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 102(9): 1017–1029. [Maslov LN, Mukhomedzyanov AV, Lishmanov YuB (2016) Role of endogenous opioid system in the regulation of functional state of heart. Russ J Physiol 102(9): 1017–1029. (In Russ)].
- Семенова ОГ, Вьюшина АВ, Притворова АВ, Ракицкая ВВ, Ордян НЭ (2021) Влияние даларгина на изменение тревожности у крыс с различными индивидуально-типологическими особенностями поведения в модели ПТСР. Журн высш нерв деят им ИП Павлова 71(5): 680–689. [Semenova OG, Vyushina AV, Pritvorova AV, Rakitskaya VV, Ordyan NE (2021) Effects of dalargin on anxiety changes in rats with different individual-typological behavioral features in the PTSD model. J Higher Nerv Activity 71(5): 680–689. (In Russ)]. https://doi.org/S0044467721050099
- Шаляпина ВГ, Вершинина ЕА, Ракицкая ВВ, Рыжова ЛЮ, Семенова МГ, Семенова ОГ (2006) Изменение приспособительного поведения активных и пассивных крыс Вистар в водно-иммерсионной модели депрессии. Журн высш нерв деят им ИП Павлова 56(4): 543–547. [Shalyapina VG, Vershinina EA, Rakitskaya VV, Rizhova LYu, Semenova MG, Semenova OG (2006) Alteration of active and passive Wistar rats adaptive behavior in water-immersion model of depression. J Higher Nerv Activity 56(4): 543–547. (In Russ)].
- Pellow S, Chopin P, File SE, Briley M (1985) Validation of open: closed arm entries in an elevated pluz-maze as a measure of anxiety in the rat. J Neurosci Methods 14(3): 149–167. https://doi.org/10.1016/0165-0270(85)90031-7
- Шаляпина ВГ, Ракицкая ВВ, Семенова МГ, Семенова ОГ (2006) Гормональная функция гипофизарно-адренокортикальной системы в патогенетической гетерогенности постстрессорных депрессий. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 92(4): 480–487. [Shalyapina VG, Rakitskaya VV, Semenova MG, Semenova OG (2006) Hormonal function of the hypophyseal-adrenocortical system in the pathogenetic heterogeneity of post-stress depressions. Russ J Physiol 92(4): 480–487. (In Russ)].
- Vinson GP (2016) Functional zonation of the adult mammalian adrenal cortex. Front Neurosci 10: 238. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00238
- Hasenmajer V, Bonaventura I, Minnetti M, Sada V, Sbardella E, Isidori AM (2021) Non-canonical effects of ACTH: insights into adrenal insufficiency. Front Endocrinol 12: 701263. https://doi.org/10.3389/fendo.2021.701263
- Wellman K, Fu R, Baldwin A, Rege J, Murphy E, Rainey WE, Mukherjee N (2021) Transcriptomic response dynamics of human primary and immortalized adrenocortical cells to steroidogenic stimuli. Cells 10: 2376. https://doi.org/10.3390/cells10092376
- Jefferys D, Funder JW (1987) Glucocorticoids, adrenal medullary opioids, and the retention of a behavioral response after stress. Endocrinology 121(3): 1006–1009. https://doi.org/10.1210/endo-121-3-1006
- Vandael DHF, Marcantoni A, Carbone E (2015) Cav1.3 channels as key regulators of neuron-like firings and catecholamine release in chromaffin cells. Current Mol Pharmacol 8(2): 149–161.
- Laryea G, Schutz G, Muglia LJ (2013) Disrupting hypothalamic glucocorticoid receptors causes HPA axis hyperactivity and excess adiposity. Mol Endocrinol 27: 1655–1665. https://doi.org/10.1210/me.2013-1187
- Gjerstad JK, Lightman SL, Spiga F (2018) Role of glucocorticoid negative feedback in the regulation of HPA axis pulsatility. Stress 21: 403–416. https://doi.org/10.1080/10253890.2018.1470238
- Lefebvre H, Thomas M, Duparc C, Bertherat J, Louiset E (2016) Role of ACTH in the interactive/paracrine regulation of adrenal steroid secretion in physiological and pathophysiological conditions. Front Endocrinol 7: 98. https://doi.org/10.3389/fendo.2016.00098
- Shen WJ, Azhar S, Kraemer FB (2016) ACTH regulation of adrenal SR-B1. Front Endocrinol 7: 42. https://doi.org/10.3389/fendo.2016.00042
- Кондашевская МВ, Цейликман ВЭ, Манухина ЕБ, Дауни ГФ, Комелькова МВ, Лапшин МС, Самойлов ЕА, Попков ПН, Алилуев АВ, Васильева МВ, Курганов АС, Мальцева НВ, Цейликман ОБ (2017) Нарушение морфофункционального состояния надпочечников при экспериментальном посттравматическом стрессовом расстройстве у крыс: корреляция с поведенческими маркерами. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 103(7): 808–818. [Kondashevskaya MV, Tseilikman VE, Manukhina EB, Downey HF, Komelkova MV, Lapshin MS, Samoylov EA, Popkov PN, Aliluev AV, Vasileva MV, Kurganov AS, Maltseva NV, Tseilikman OB (2017) Disorder in the morphology and function of adrenal glands in experimental post-traumatic stress disorder in rats: correlation with behavioral markers. Russ J Physiol 103(7): 808–818. (In Russ)].
- Wegener G, Mathe AA, Neumann ID (2012) Selectively bred rodents as models of depression and anxiety. Curr Topics Behav Neurosci (12): 139–187. https://doi.org/10.1007/7854-2011-192
- Tseilikman V, Komelkova M, Kondashevskaya MV, Manukhina E, Downey HF, Chereshnev V, Chereshneva M, Platkovskii P, Goryacheva A, Pashkov A, Fedotova Ju, Tseilikman O, Maltse- va N, Cherkasova O, Steenblock Ch, Bornstein S, Ettrich B, Chrousos GP, Ullmann E (2021) A rat model of post-traumatic stress syndrome causes phenotype-associated morphological changes and hypofunction of the adrenal gland. Int J Mol Sci 22: 13235. https://doi.org/10.3390/ijms222413235
- Ulrich-Lai YM, Figueiredo HF, Ostrander MM, Choi DC, Engeland WC, Herman JP (2006) Chronic stress induces adrenal hyperplasia and hypertrophy in a subregion-specific manner. Am J Physiol Endocrinol Metab 291(5): E965–E973. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00070.2006
- Szklarczyk K, Korostynski M, Cieslak PE, Wawrzczak-Bargiela A, Przewlocki R (2015) Opioid-dependent regulation of high and low fear responses in two inbred mouse strains. Behav Brain Res 292: 95–101. https://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2015.06.001
- Browne CA, Lucki I (2019) Targeting opioid dysregulation in depression for the development of novel therapeutics. Pharmacol Therap 201: 51–76. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.04.009
- Coluzzi F, LeQuang JAK, Sciacchitano S, Scerpa MS, Rocco M, Pergolizzi J (2023) A closer look at opioid-induced adrenal insufficiency: a narrative review. Int J Mol Sci 24: 4575. https://doi.org/10.3390/ijms24054575
- Brockway DF, Crowley NA (2020) Turning the tides on neuropsychiatric diseases: the role of peptides in the prefrontal cortex. Front Behav Neurosci 14: 588400. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.588400
- Dedic N, Chen A, Deussing JM (2018) The CRF family of neuropeptides and their receptors – mediators of the central stress response. Current Mol Pharmacol 11: 4–31. https://doi.org/10.2174/1874467210666170302104053
- Chen P, Lou S, Huang ZH, Wang Z, Shan QH, Wang Y, Jin Y, Zhang Z, Zhou JN (2020) Prefrontal cortex corticotropin-releasing factor neurons control behavioral style selection under challenging situations. Neuron 106: 301–315. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.033
Supplementary files