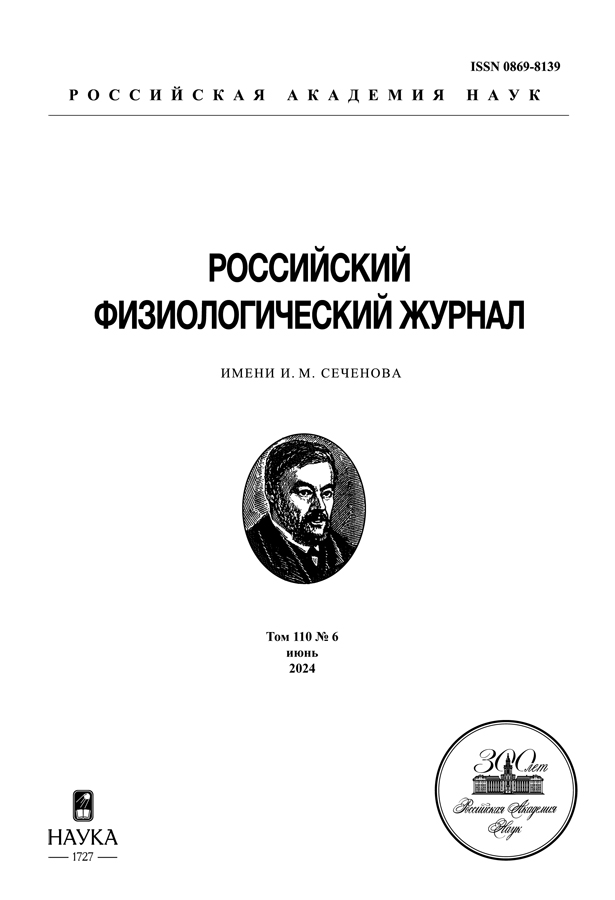Study of Na+/K+-ATPase and Components of the Ca2+-transporting System in Myocardium under Experimental Prediabetes and Type 1 Diabetes in Rats
- Authors: Sukhov I.B.1, Chistyakova O.V.1, Dobretsov M.G.1
-
Affiliations:
- Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 110, No 6 (2024)
- Pages: 915-929
- Section: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-8139/article/view/266927
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924060033
- EDN: https://elibrary.ru/BFBYKQ
- ID: 266927
Cite item
Full Text
Abstract
One of the complications of diabetes mellitus (DM) is diabetic cardiomyopathy (DCM), the molecular mechanisms of pathogenesis of which have not been fully studied. Previously, the involvement of Na+/K+-ATPase and components of the Ca2+ transport system in cardiomyocytes in the development of DCM was shown. The aim of the work was to study the expression and activity of Na+/K+-ATPase and Ca2+-ATPase (SERCA2) in the myocardium of male Wistar rats in a model of streptozotocin (STZ)-induced prediabetes and overt type 1 diabetes (T1DM). STZ was administered at once i. p. in dose of 30–35 mg/kg. Rats with glucose levels above 11 mM were considered diabetic (STZ-D1 group), and those with moderate hyperglycemia were considered prediabetic (STZ-preD1 group). The activity of Na+/K+-ATPase and Ca2+-ATPase was determined (by the rate of release of inorganic phosphate, Pi), and the expression of the genes α1- and α2-isoforms of Na+/K+-ATPase, SERCA2 and Kir6.1, Kv7.1 and Kv2.1 potassium channels. In the control (C) group, the activity of Mg2+-dependent ATPase (α1- and α2-isoforms of Na+/K+-ATPase), sensitive to 1 mM ouabain, was 6.03±0.6 mmol Pi/g/h. In the STZ-D1 and STZ-preD1 groups, Na+/K+-ATPase activity did not differ from group C. The level of gene expression of α1- and α2- subunits of Na+/K+-ATPase in the STZ-D1 group decreased by more than 45%, then both in the STZ-preD1 group increased by 64 and 81%, which may indicate a high sensitivity of expression to insulinopenia. The activity of Ca2+-ATPase and the expression of the SERCA2 gene did not differ between the groups – probably, the 4-week period after STZ administration is not sufficient for the development of Ca2+-ATPase deficiency in the rat heart. The level of expression of the genes of the potassium channel subtypes Kv2.1, Kir6.1 and Kv7.1 increased in the STZ-preD1 group, which may indicate a certain contribution of the studied potassium channel subtypes to the adaptation mechanism to moderate hyperglycemia.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Диабетическая кардиомиопатия (ДКМ) является одним из осложнений сахарного диабета (СД), ведущим к высокой смертности среди пациентов. Молекулярные механизмы патогенеза ДКМ в полной мере не исследованы. Ранее показано участие Na+/К+-АТФазы и компонентов Са2+-транспортирующей системы в кардиомиоцитах в развитии ДКМ.
Na+/K+-АТФаза – ионный транспортер, ответственный за поддержание высоких натриевого и калиевого градиентов на плазматической мембране эукариотических клеток. Для кардиомиоцитов как клеток с активным электрогенезом, функция Na+/K+-АТФазы критически значима. В особенности это относится к контролю натриевого градиента, который определяет порог возбудимости клетки, скорость распространения и амплитуду потенциала действия, и активность множества вторичных транспортных систем, в первую очередь натрий-кальциевого обменника и глюкозных транспортеров – важных для регуляции внутриклеточного кальция и механизмов клеточной энергетики. В кардиомиоцитах сердца крысы экспрессируются две изоформы Na+/K+-АТФаза: α1 – универсальная, присутствует во всех компартментах плазматической мембраны кардиомиоцитов; α2 – локализуется в t-трубочках, где количество мест этого транспортера контролируется инсулином [1, 2].
В процесс сопряжения возбуждения и сокращения кардиомиоцитов вовлечен комплекс белков, регулирующих уровень внутриклеточного Са2+. Саркоплазматическая Ca2+-АТФаза (SERCA2), кодируемая специфичным для миокарда геном Atp2a2, выводит Са2+ из цитозоля, способствуя расслаблению кардиомиоцитов. Инсулин регулирует SERCA2 в скелетных мышцах и в миокарде путем прямого контакта С-концевого домена SERCA2 с белками-субстратами инсулинового рецептора [3]. Снижение экспрессии или потеря функциональной активности данного транспортера может изменить Са2+-волны, что станет триггером для развития сердечной недостаточности. Кроме того, снижение активности SERCA2 понижает возврат Ca2+ в саркоплазматический ретикулум, что уменьшает уровень Ca2+, доступного для следующего сердечного цикла сокращения-релаксации, и понижает сократительную способности миокарда [4]. Этот патогенный механизм лежит в основе развития ДКМ, которая на ранних стадиях проявляется диастолической дисфункцией сердца, а позже – систолической дисфункцией.
Известно, что реполяризация кардиомиоцитов определяется в значительной степени активностью калиевых каналов. Однако стоит отметить, что экспрессия каналов и вклад токов через них зависит от периода развития животного [5]. Ранее в наших исследованиях [6] у диабетических крыс было показано статистически значимое возрастание QT-интервала и значения QTc на 23 и 11% соответственно. Эти изменения имеют важное диагностическое значение для изучение диабетической кардиомиопатии и согласуются с данными литературы по исследованию ЭКГ у пациентов с СД 1-го типа (СД1) [7, 8]. У кроликов в условиях аллоксан-индуцированного СД1 также выявлено увеличение QT интервала [9]. Значимый вклад в изменение показателей ЭКГ, в частности, интервала QT, как при СД1, так при СД2, вносят каналы Kv 2.1 и Kv 7.1 [10, 11]. Локализация каналов Kv 2.1 в миоцитах желудочков взрослой крысы впервые описана в работе O’Connell с соавт. [12]. Показано, что все подтипы Kv7 каналов присутствуют в миоцитах крыс Wistar [13, 14]. Через 14 дней после индукции СД1 стрептозотоцином (STZ) у крыс в левых желудочках сердца содержание белков Kv2.1 и Kv4.2 и Kv4.3 и экспрессия мРНК соответствующих генов значительно снижаются [15]. Также показано, что после инфаркта миокарда у крыс снижена плотность белка Kv 2.1 и экспрессия мРНК соответствующего гена [16], а у крыс с сердечной недостаточностью, вызванной перевязкой проксимального отдела левой коронарной артерии, экспрессия каналов Kv 2.1 и Kv 7.1 возрастает в синоатриальном узле [17]. Таким образом, имеющиеся данные неоднозначны относительно вклада токов Iss в развитие в сердечной недостаточности и ДКМ.
Ранее, исследуя роль К+-каналов в патогенезе сердечных нарушений в условиях СД [18], мы пришли к заключению, что в кардиомиоцитах крыс через две недели после введения STZ фаза следовой гиперполяризации, отчетливо выраженная в большинстве потенциалов действия, обусловлена возрастанием активности АТФ-зависимых К+-каналов (Kir6.x). Другими авторами в миоцитах крыс показана стимулируемая сахарозой экспрессия гена канала Kir6.1 [19].
Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что дефицит инсулина при СД1 ослабляет сигнальные каскады гормона в мышцах, в том числе в миокарде [20, 21]. Обращает внимание тот факт, что, как показано нами ранее [22], для нормализации действия инсулина в мышцах недостаточно устранения дефицита гормона путем инсулинотерапии, и, очевидно, что молекулярные инсулин-зависимые сигнальные каскады в мышцах претерпевают более глубокие молекулярные перестройки, которые недостаточно изучены на данный момент. Целью исследования было изучение экспрессии и активности Na+/К+-АТФазы компонентов Са2+-транспортирующей системы (SERCA2) и калиевых каналов в миокарде самцов крыс на модели индуцированного стрептозотоцином преддиабета и явного СД1.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные животные. Исследования проводили на самцах крыс Вистар массой тела 240–260 г на начало эксперимента. Развитие СД индуцировали однократным в/б введением стрептозотоцина (STZ, Sigma, США) в дозе 30–35 мг/кг. Животным контрольной группы (С, n = 13) вводили цитратный буфер (pH 4.6) в эквивалентном объёме. Крыс с уровнем глюкозы выше 11 мМ считали диабетическими (STZ-D1 группа, n = 16), с умеренной гипергликемией (7.8–11 мМ) – преддиабетическими (preSTZ-D1 группа, n = 9), в соответствии с принятыми клиническими критериями преддиабета, удовлетворяющими экспериментальную модель [23]. Количество животных преддиабетических и диабетических при дозе STZ 30 мг/мл составляло 40 и 60%, при дозе 35 мг/кг – 30 и 70% соответственно. Уровень глюкозы измеряли с помощью тест-полосок One Touch Ultra (США) и глюкометра фирмы Life Scan Johnson & Johnson (Дания). Забор левых желудочков (ЛЖ) сердца проводили через 4 недели после инъекции STZ. Животных выводили из эксперимента декапитацией после анестезии хлоралгидратом (в/б, в дозе 400 мг/кг). Ткань хранили при –80 °C до определения активности ферментов и уровня экспрессии генов.
Анализ уровня экспрессии генов. Анализ уровня экспрессии генов проводили методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, совмещенной с обратной транскрипцией. Тотальную РНК из миокарда левых желудочков выделяли с помощью коммерческого набора «Реагент ExtractRNA» (Евроген, Россия) в соответствии с протоколом производителя с использованием стеклянных гомогенизаторов. Образцы РНК тестировали в 2%-ном агарозном геле для контроля отсутствия деградации препаратов РНК.
Для обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) брали 1 мг РНК и использовали набор MMLV RT (Евроген, Россия). ОТ-ПЦР проводили с использованием Random Hexamer Primer в соответствии с протоколом производителя. Предварительно все образцы РНК обрабатывали DNaseI, RNase-free (Thermo Fisher Scientific Inc., США) для очистки от содержащих примесей молекул ДНК.
ПЦР амплификацию проводили с идентификаций SybrGreen в объеме 25 мкл следующего состава: 10 нг продукта ОТ-ПЦР, 0.4 мкМ прямого и обратного праймера, реагент qPCRmix-HSSYBR+LowROX (Евроген, Россия). Непосредственно ПЦР проводили с помощью прибора 7500 Real-Time PCR System (Life Technologies (ABI), Thermo Fisher Scientific Inc., США). Режим амплификации: (1) 95 °C в течение 5 мин; (2) трехэтапная амплификация и детекция – 38 циклов при 95 °C в течение 30 с, (температура отжига подбиралась индивидуально) в течение 30 с, и 72 °C в течение 30 с; (3) кривая плавления (для детекции диммеров). Температура отжига праймеров была рассчитана с помощью программы Primer-Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Размер ампликона ПЦР реакции протестировали в 2%-ном агарозном геле. Праймеры для анализа уровня экспрессии генов приведены в табл. 1.
Анализ результатов ПЦР проводился по методу ∆∆Ct. В качестве гена «домашнего хозяйства» использована 18S/45S рибосомальная РНК.
Таблица 1. Последовательность олигонуклеотидов
Мишень исследования | Ген | Последовательность прямого и обратного праймеров | Источник |
Na+/K+ транспортирующая субъединица α1 | Atp1a1 | CCCAAAACGGACAAACT GCACTACCACGATACTGAC | 24 |
Na+/K+ транспортирующая субъединица α2 | Atp1a2 | GGTGGCCCTCCGAATGTAC ATGAAGATGAGGAGACTGTAGGGAAA | 25 |
18S/45S ribosomal RNA | Rn18s/Rn45s | GTAACCCGTTGAACCCCATT CCATCCAATCGGTAGTAGCG | 26 |
Kv2.1 | Kcnb1 | GACGACTACAGCCTTGAGGAC TCGTTCATCTGCTCCTTCTTT | 27 |
Kir6.1 | Kcnj8 | AGCTGGCTGCTCTTCGCTATC CCCTCCAAACCCAATGGTCACT | 28 |
Kv7.1 | Kcnq1 | ACCTCATCGTGGTTGTAGCC TCCTGGCGGTGAATGAAGAC | 29 |
SERCA2 | Atp2a2 | AAACCCCCACGGAACCCAAAAG AAGTCTGGGTTGTCCTCCTTACACT | 30 |
Анализ активности Na+/К+-АТФазы. У животных групп С (n = 5), STZ-preD1 (n = 3) и STZ-D1 (n = 8) активность Na+/K+-АТФазы определяли в микросомальной фракции мембран миокарда, выделенной из левого желудочка сердца методом дифференциального центрифугирования [31] по содержанию неорганического фосфата Pi (Pi ммоль/г/ч) в инкубационной среде (мМ): 20 Трис-HCl (рН 7.4), 150 NaCl, 10 KCl, 3 АТФ, 3 MgCl2, 1 ЭГТА, 1 Na2АТФ (метод Фиске-Суббароу). После 10-минутной инкубации при 37°С реакцию останавливали добавлением 10%-ной ТХУ. Активность Na+/K+-АТФазы рассчитывали, вычитая из общей АТФазной активности Mg2+-зависимую, определяемую в присутствии 1 мМ или 100 мкМ уабаина – селективного ингибитора Na+/K+-ATФазы, полностью блокирующего активность α1 и α2, α3-изоформы крысиного фермента при указанных концентрациях [32].
Анализ активности Са2+-АТФазы (SERCA2). У животных групп С (n =5), STZ- preD1 (n = 3) и STZ-D1 (n = 8) активность SERCA2 определяли в препаратах легкой фракции саркоплазматического ретикулума миокарда, выделенной методом дифференциального центрифугирования, по содержанию неорганического фосфата Pi (Pi ммоль/г/ч) в инкубационной среде (мМ): 100 KCl, 5 MgCl2, 0.5 ЭДТА, 30 имидозол, 3 АТФ и ~10 свободного Ca2+ (метод Фиске-Суббароу). Активность SERCA2 рассчитывали, как разность между общей АТФазной активностью и активностью Mg2+-АТФазы, определяемой в бескальциевой инкубационной среде с добавлением 100 нМ тапсигаргина – специфического ингибитора SERCA2 [33–35].
Статистическая обработка данных
Данные обрабатывали, используя пакет программ GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, США). Для контроля соответствия нормальному распределению использовали критерий Шапиро-Уилка. При подтверждении нормальности распределения полученных данных описательная статистика включала среднее значение (М) и стандартную ошибку среднего (SЕМ), при ненормальности – значения медианы и процентилей. Параметрический критерий применяли: для сравнения двух несвязанных совокупностей – t-тест, для сравнения трех и более несвязанных совокупностей – метод ANOVA с поправкой Тьюки. Непараметрические критерии применяли: для двух независимых выборок – критерий Манна-Уитни, для более двух несвязанных совокупностей – критерий Крускала-Уоллиса и последующий тест Дана, для трех и более связанных совокупностей – тест Фридмана и последующий тест Дана.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика модели
До индукции патологии масса тела животных в группах и уровень случайной глюкозы не различались (табл. 2). У контрольной С группы масса тела статистически значимо увеличивалась, начиная с 14-го дня эксперимента, уровень глюкозы в группе на протяжении всего эксперимента не менялся. У STZ-preD1 группы масса тела в ходе эксперимента не менялась, а уровень глюкозы на 3-й и 14-й дни после введения STZ был статистически значимо выше такового у группы С. У STZ-D1 группы на 3-й и 14-й дни после введения STZ масса тела была меньше, чем до введения STZ, а также меньше, чем у контрольных животных. Уровень глюкозы у STZ-D1 группы через 3 дня после введения STZ и далее до конца эксперимента был статистически значимо выше такового в контрольной С группе. Масса сердца в конце эксперимента у животных контрольной C и STZ-preD1 групп не различалась. У животных STZ-D1 группы масса сердца была статистически значимо меньше, чем у контрольных животных (табл. 2).
Таблица 2. Уровень случайной глюкозы, масса тела и сердца у экспериментальных животных
День эксперимента | Контрольная (C) группа, n = 13 | STZ-preD1 группа, n = 9 | STZ-D1 группа, n = 16 |
Глюкоза, мМ | |||
День введения STZ | 5.8 (5.4; 6.5) | 5.9 (5.5; 6.1) | 5.9 (5.7; 6.3) |
3 дня после введения STZ | 6.3 (5.6; 6.6) | 9.2 (8.9; 13.6)* # *p < 0.0001 #p = 0.0448 | 25.8 (23.6; 27.5)* # *p = 0.0007 #p < 0.0001 |
14 дней после введения STZ | 5.8 (5.1; 6.3) | 7.5 (7.3; 8.7) | 27.4 (22.0; 32.0)* # *p = 0.0003 #p < 0.0001 |
28 дней после введения STZ | 6.0 (5.7; 6.1) | 7.8 (7.6; 8.7)* # *p = 0.0057 #p = 0.0445 | 30.8 (28.2; 33.0)* # *p < 0.0001 #p < 0.0001 |
Масса тела, г | |||
День введения STZ | 364 (318; 391) | 374 (332; 394) | 353 (345; 370) |
3 дня после введения STZ | 376 (322; 400) | 356 (321; 384) | 331 (323; 368) |
14 дней после введения STZ | 380 (334; 407)* p = 0.0004 | 371 (338; 392) | 319 (299; 326)* # *p < 0.0001 #p = 0.0012 |
28 дней после введения STZ | 390 (344; 419)* p < 0.0001 | 383 (342; 399) | 305 (289; 330)* # *p < 0.0001 #p = 0.0003 |
Масса сердца, г | |||
28 дней после введения STZ | 0.98 (0.88; 1.03) | 1.02 (1.00; 1.12) | 0.88 (0.83; 0.96)* p = 0.0359 |
Данные представлены как медиана (25-й; 75-й процентили).
* – статистически значимое отличие от значения в группе в день введения STZ, тест Фридмана и последующий тест Дана. # – статистически значимое отличие от значения в контрольной группе в соответствующий день эксперимента, тест Крускала-Уоллиса и последующий тест Дана.
Исследование Na+/К+-АТФазы
Активность Na+/K+-АТФазы в левом желудочке в группах STZ-preD1 и STZ-D1 не отличалась от таковой в группе C, составляя 84 и 113% соответственно от контрольного уровня (рис. 1a).
Рис. 1. Уровень активности Na+/K+-АТФазы в левом желудочке в группах контрольной (C, n = 5), STZ-preD1 (n = 3) и STZ-D1 (n = 8). (a) – aктивность чувствительной к уабаину (1 мМ) Mg2+–зависимой Na+/K+-АТФазы. Данные представлены как M ± SEM. (b) – активность высокочувствительной к уабаину (100 нМ) Na+/K+-АТФазы. Данные представлены как % от общей активности Na+/K+-АТФаза.
Фракция высокочувствительной к уабаину (100 нМ) активности Na+/K+-АТФазы (α2-, α3-изоформы) в группах С и STZ-D1 составляла 79 и 63% от общей активности Na+/K+-АТФаза (рис. 1b).
Уровень экспрессии генов Atp1a1 и Atp1a2, кодирующих α1- и α2-изоформы Na+/K+-АТФазы, возрастал в группе STZ-preD1 на 63.8 и 80.5% относительно группы С, и снижался в группе STZ-D1 на 23.4 и 45.5% (рис. 2).
Рис. 2. Уровень экспрессии генов субъединиц α1- и α2-изоформы Na+/K+-АТФазы в левом желудочке в группах С (n = 5), STZ-preD1 (n = 8) и STZ-D1 (n = 8) группах. Данные представлены как M ± SEM. Статистически значимые отличия, при p < 0.05: * – групп STZ-preD1 и STZ-D1 от группы С; # – группы STZ-D1 от STZ-preD1. Референсный ген – 18S/45S рибосомальная РНК.
Исследование SERCA2
В группах С, STZ-preD1 и STZ-D1 уровень активности SERCA2, а также уровень экспрессии соответствующего гена Atp2a2 не различались (рис. 3a, b).
Рис. 3. Уровень активности (a) и экспрессии гена фермента SERCA2 (b) в левом желудочке (a) группы С (n = 5), STZ-preD1 (n = 3) и STZ-D1 (n = 8), (b) группы С (n = 5), STZ-preD1 (n = 8) и STZ-D1 (n = 8). Данные представлены как M ± SEM. Референсный ген для ПЦР – 18S/45S рибосомальная РНК.
Исследование уровня экспрессии генов подтипов калиевых каналов Kv2.1, Kir6.1 и Kv7.1
ПЦР анализ показал, что в группе STZ-preD1 по сравнению с группой С экспрессия транскриптов Kv2.1, Kir6.1 и Kv7.1 подтипов калиевых каналов возрастала на 85, 99 и 92% соответственно (рис. 4). В группе STZ-D1 транскрипции РНК изученных подтипов калиевых каналов не отличалась от таковой в группе С.
Рис. 4. Уровень экспрессии генов подтипов калиевых каналов Kv2.1, Kir6.1 и Kv7.1 в левом желудочке в группах С (n = 5), STZ-preD1 (n = 8) и STZ-D1 (n = 8). Данные представлены как M ± SEM. Статистически значимые отличия при p < 0.05: * – группа STZ-preD1 от С. Референсный ген – 18S/45S рибосомальная РНК.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Данные литературы относительно уровня активности Na+/K+-АТФазы в модельных экспериментах СД1 достаточно противоречивы [1, 36–38], но в ряде работ уже через две недели после введения STZ показано значительное – до 35–40%, снижение максимальной активности Na+/K+-АТФазы [39]. В этой связи при анализе данных по активности Na+/K+-АТФазы, вероятно, необходимо учитывать возраст животных при индукции патологии, сроки развития СД1, а также малоконтролируемые биохимические сдвиги уровней глюкозы и инсулина в крови экспериментальных животных.
Уровень фракций высокочувствительной к уабаину Na+/K+-АТФаза (α2-, α3-изоформы) в группах С и STZ-D1, обнаруженный нами в данном исследовании, превышает пределы этой фракции, описанные в работах [1, 32, 35, 39], но, тем не менее, соответствует литературным данным [1, 36, 39], где описано, что при развитии СД1 пропорции α1/α2 изоформ существенно не меняются. В одной работе описано, что при 6-недельном STZ-D1 снижается количество высокоаффинных к уабаину связывающих мест (α2-, α3-изоформы), но не низкоаффинных (α1-изоформа) [37].
Ранее при анализе профилей мРНК, кодирующих белки, связанные с генерацией и проведением электрической активности в биоптатах атриовентрикулярного узла (АВ-узел), в сердцах диабетических крыс через 12 недель после введения STZ в дозе 60 мг/кг заметных различий в экспрессии генов Atp1a1 и Atp1a2, кодирующих α1- и α2-изоформы Na+/K+-АТФазы, не было выявлено [40]. Нами ранее показано [41], что в миокарде левого желудочка у крыс с преддиабетом активность Na+/K+-АТФазы не отличалась относительно таковой у контрольных животных, но снижалась у животных с 4-недельным СД1. Выявленное в настоящем исследовании снижении экспрессии генов Atp1a1 и Atp1a2 в группе STZ-D1 на фоне стабильной активности Na+/K+-АТФазы, можно рассматривать как фактор, обуславливающий снижение активности Na+/K+-АТФаза по мере усугубления диабетических нарушений.
При имеющимся достаточном количестве работ, показывающих, что ухудшение сердечной деятельности при диабете сопряжено с уменьшением содержания белка SERCA2 и снижением поглощения кальция в саркоплазматическим ретикулуме кардиомиоцитов [42, 43], однако механизмы, лежащие в основе патологии, до конца не установлены. Основным регулятором SERCA2 сердца является интегральный белок мембран фосфоламбан (PLB), ингибирующее действие которого заключается в уменьшении активности Cа2+-АТФазы и снижении ее сродства к кальцию за счет изменения характера белок-белковых взаимодействий при изменении конформации как фосфоламбана, так и Са2+–АТФазы [44]. PLB, фосфорилируемый цАМФ-зависимой протеинкиназой (PKA), теряет способность ингибировать SERCA2. Предыдущие исследования выявили значительное повышение экспрессии PLB на уровнях мРНК и белка у крыс с STZ-СД1 по сравнению с контрольными животными, при снижении активности и экспрессии SERCA-2. Так, в сердце крыс линии Спрэг-Доули через 10 недель после однократного введения STZ в дозе 70 мг/кг значительно возрастала экспрессия PLB и протеинкиназы С (PKC), но снижалась экспрессия SERCA2, протеинфосфатазы-1 (PPI-1) и рианодинового рецептора (RyR), что позволило предполагать важную роль в патогенезе ДКМ сигнального пути PKC/PPI-1/PLB/SERCA2 [45].
В другой работе у крыс Спрэг-Доули через 6 недель после однократного введения STZ в дозе 65 мг/кг ухудшение сердечной деятельности и снижение поглощения кальция саркоплазматическим ретикулумом (SR) сердца сопровождалось снижением уровней белков SERCA2 и PLB, однако соотношение PLB и SERCA2 в сердце было повышено [46]. Отмеченное снижение фосфорилирования PLB Са2+-кальмодулинзависимой протеинкиназой (CaMK) и PKA, при том, что их активности были повышены, объясняется снижением содержания белка PLB, а также повышенной активностью SR-ассоциированной протеинфосфатазы. Авторы заключают, что в диабетическом сердце в ответ на депрессию функции SR активируется процесс фосфорилирования, однако этот компенсаторный механизм может быть недостаточен для поддержания функции SR из-за значительного снижения белка SERCA2, а также значительного увеличения дефосфорилирования PLB.
В настоящем исследовании через 4 недели после введения STZ нарушения функции SR в миокарде крыс, вероятно, не имеют драматичный характер и достаточно скомпенсированы, что отражается в стабильности экспрессии гена Atp2a2 и выраженной активности SERCA2. Ранее в биоптатах АВ-узла сердец крыс через 12 недель после введения STZ различий в экспрессии гена Atp2a2 также не было выявлено [40].
Возможной причиной нарушения биоэлектрической активности в миокарде может являться изменение соотношение потенциал-зависимых ионных каналов и транспортёров, как описано нами ранее [18]. Одним из факторов, влияющих на данное соотношение, является уровень экспрессии генов ионных каналов или транспортеров. По нашим данным при умеренной гипергликемии в группе STZ-preD1 экспрессия генов подтипов калиевых каналов Kv2.1, Kir6.1 и Kv7.1 увеличивается в 1.8–2 раза относительно контроля. Однако эта активация транскрипции, по-видимому, не сопровождается увеличением трансляции и экспрессии протеинов и доставкой соответствующих калиевых каналов на плазматическую мембрану кардиомиоцитов. В противном случае можно было бы ожидать укорочение, а не удлинение потенциалов действия, регистрируемых в кардиомиоцитах преддиабетических крыс через 4 недели после введения STZ, как показано ранее [18]. Согласно выше цитируемой работе [40], у крыс при СД1 в сердце, в клетках АВ-узла экспрессия генов Kcnb1 (Kv2.1 канал), Kcnj8 (Kir6.1 канал) и Kcnq1 (Kv7.1 канал) не менялась. При обсуждении роли KCNQ (Kv7) каналов в развитии сердечно-сосудистых факторов риска, таких как гипертония, СД и ожирение [47] важно, что работа Kv7.1 каналов и характеристика тока через данный тип каналов могут модулироваться аксессорной субъединицей MinK, однако ее роль в потенцировании нарушений физиологической функции миокарда до конца не ясна. Так, у собак в условиях аллоксанового СД1 в желудочках миокарда показано увеличение уровня белка Kv7.1. при снижении MinK [48]. Однако у кролика в условиях аллоксанового СД1 при постоянстве активности Kv7.1 выявлено снижение количества белка MinK [9].
Таким образом, интегральная оценка активности ионных каналов, их насосной функции, а также экспрессии соответствующих генов требует учитывать региональную и/или клеточную специфику и ряд коэкспрессируемых вспомогательных факторов. В этой связи для понимания внутриклеточных процессов, протекающих в миокарде в условиях преддиабета и выраженного СД1, перспективным видится использование клеточных культур и переживающих срезов.
На основании полученных результатов сделаны выводы:
- У крыс в миокарде левого желудочка при предСД1 и СД1 активность Na+/K+-АТФазы сохраняется стабильной относительно контрольного уровня. При этом уровень экспрессии генов Atp1a1 и Atp1a2, кодирующих α1- и α2-изоформы Na+/K+-АТФазы, возрастает при предСД1, но снижается при СД1 относительно контрольного уровня. Это может указывать на высокую чувствительностью данного транспортёра к инсулинопении.
- Активность Ca2+–АТФазы и экспрессия гена Atp2a2 у крыс в миокарде левого желудочка при предСД1 и СД1 стабильны, что может отражать ключевую роль данной АТФазы для сократительной функции кардиомиоцита.
- Уровень экспрессии генов подтипов калиевых каналов Kv2.1, Kir6.1 и Kv7.1 в миокарде левого желудочка крыс возрастает при предСД1, но при СД1 не отличается от контрольного уровня, что может указывать на определенный вклад изученных подтипов калиевых каналов в адаптационный механизм к умеренной гипергликемии.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы и планирование эксперимента (М. Г. Д. и О. В. Ч.), сбор и обработка данных (И. Б. C., О. В. Ч.), написание и редактирование манускрипта (И. Б. С., О. В. Ч., М. Г. Д.).
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета государственного задания № 075–00264–24–00 Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с лабораторными животными и были одобрены Комиссией по этике Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, протокол № 2–1/2022 от 24.02.2022 г.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
I. B. Sukhov
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: sukhov.ivan@gmail.com
Russian Federation, St. Petersburg
O. V. Chistyakova
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: sukhov.ivan@gmail.com
Russian Federation, St. Petersburg
M. G. Dobretsov
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: sukhov.ivan@gmail.com
Russian Federation, St. Petersburg
References
- Rosta K, Tulassay E, Enzsoly A, Ronai K, Szantho A, Pandics T, Fekete A, Mandl P, Ver A (2009) Insulin induced translocation of Na+/K+-ATPase is decreased in the heart of streptozotocin diabetic rats. Acta Pharmacol Sin 30: 1616–1624. https://doi.org/10.1038/aps.2009.162
- Despa S (2018) Myocyte [Na+]i dysregulation in heart failure and diabetic cardiomyopathy. Front Physiol 9: 1–8. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01303
- Algenstaedt P, Antonetti DA, Yaffe MB, Kahn CR (1997) Insulin receptor substrate proteins create a link between the tyrosine phosphorylation cascade and the Ca2+-ATPases in muscle and heart. J Biol Chem 272: 23696–23702. https://doi.org/10.1074/JBC.272.38.23696
- Zarain-Herzberg A, García-Rivas G, Estrada-Avilés R (2014) Regulation of SERCA pumps expression in diabetes. Cell Calcium 56: 302–310. https://doi.org/10.1016/J.CECA.2014.09.005
- Grandy SA, Trépanier-Boulay V, Fiset C (2007) Postnatal development has a marked effect on ventricular repolarization in mice. Am J Physiol – Hear Circ Physiol 293: 2168–2177. https://doi.org/10.1152/AJPHEART.00521.2007
- Сухов ИБ, Чистякова ОВ, Баюнова ЛВ, Шестакова НН (2023) Оценка побочных эффектов применения ингибитора Na-Ca обменника KB-R7943 как противоболевого препарата при диабетической нейропатии у крыс. Интеграт физиол 4: 69–78. [Sukhov IB, Chistyakova OV, Bayunova LV, Shestakova NN (2023) Evaluation of side effects of na-ca exchange inhibitor kb-r7943 used as an analgesic drug in diabetic neuropathy in rats. Integrat fiziol 4: 69–78. (In Russ)]. https://doi.org/10.33910/2687–1270–2023–4–1–69–78
- Amione C, Giunti S, Fornengo P, Soedamah-Muthu SS, Chaturvedi N, Fuller JH, Barutta F, Gruden G, Bruno G (2017) Incidence of prolonged QTc and severe hypoglycemia in type 1 diabetes: the EURODIAB Prospective Complications Study. Acta Diabetol 54: 871–876. https://doi.org/10.1007/S00592–017–1018–6/TABLES/2
- Inanır M, Gunes Y, Sincer I, Erdal E (2020) Evaluation of electrocardiographic ventricular depolarization and repolarization variables in type 1 diabetes mellitus. Arq Bras Cardiol 114: 275–280. https://doi.org/10.36660/ABC.20180343
- Zhang Y, Xiao J, Lin H, Luo X, Wang H, Bai Y, Wang J, Zhang H, Yang B, Wang Z (2007) Ionic mechanisms underlying abnormal qt prolongation and the associated arrhythmias in diabetic rabbits: a role of rapid delayed rectifier K+ current. Cell Physiol Biochem 19: 225–238. https://doi.org/10.1159/000100642
- Gallego M, Zayas-Arrabal J, Alquiza A, Apellaniz B, Casis O (2021) Electrical features of the diabetic myocardium. arrhythmic and cardiovascular safety considerations in diabetes. Front Pharmacol 12: 687256. https://doi.org/10.3389/FPHAR.2021.687256
- Ozturk N, Uslu S, Ozdemir S (2021) Diabetes-induced changes in cardiac voltage-gated ion channels. World J Diabet 12: 1–18. https://doi.org/10.4239/wjd.v12.i1.1
- O'Connell KM, Whitesell JD, Tamkun MM (2008) Localization and mobility of the delayed-rectifer K+ channel Kv2.1 in adult cardiomyocytes. Am J Physiol Heart Circ Physiol 294(1): H229–H237. https://doi.org/10.1152/ajpheart.01038.2007
- Hedegaard ER, Johnsen J, Povlsen JA, Jespersen NR, Shanmuganathan JA, Laursen MR, Kristiansen SB, Simonsen U, Bøtker HE (2016) Inhibition of KV7 Channels Protects the Rat Heart against Myocardial Ischemia and Reperfusion Injury. J Pharmacol Exp Ther 357(1): 94–102. https://doi.org/10.1124/jpet.115.230409
- Morales-Cano D, Moreno L, Barreira B, Pandolfi R, Chamorro V, Jimenez R, Villamor E, Duarte J, Perez-Vizcaino F, Cogolludo A (2015) Kv7 channels critically determine coronary artery reactivity: left-right differences and down-regulation by hyperglycaemia. Cardiovasc Res 106(1): 98–108. https://doi.org/10.1093/cvr/cvv020
- Qin D, Huang B, Deng L, El-Adawi H, Ganguly K, Sowers JR, El-Sherif N (2001) Downregulation of K(+) channel genes expression in type I diabetic cardiomyopathy. Biochem Biophys Res Commun 283: 549–553. https://doi.org/10.1006/BBRC.2001.4825
- Huang B, Qin D, El-Sherif N (2001) Spatial alterations of Kv channels expression and K(+) currents in post-MI remodeled rat heart. Cardiovasc Res 52(2): 246–254. https://doi.org/10.1016/s0008–6363(01)00378–9
- Yanni J, Tellez JO, Maczewski M, Mackiewicz U, Beresewicz A, Billeter R, Dobrzynski H, Boyett MR (2011) Changes in ion channel gene expression underlying heart failure-induced sinoatrial node dysfunction. Circ Heart Fail 4(4): 496–508. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.110.957647
- Кубасов ИВ, Степанов АВ, Панов АА, Чистякова ОВ, Сухов ИБ, Добрецов МГ (2021) Роль калиевых токов в формировании фазы следовой гиперполяризации внеклеточных потенциалов действия вентрикулярных кардиомиоцитов крысы в норме и при стрептозотоциновом сахарном диабете. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 107: 1583–1596. [Kubasov IV, Stepanov AV, Panov AA, Chistyakova OV, Sukhov IB, Dobretsov MG (2021) Role of potassium currents in the formation of after-hyperpolarization phase of extracellular action potentials recorded from the control and diabetic rat heart ventricular myocytes. Russ J Physiol 107: 1583–1596. (In Russ)]. https://doi.org/10.31857/S0869813921120062
- Gaber EM, Jayaprakash P, Qureshi MA, Parekh K, Oz M, Adrian TE, Howarth FC (2014) Effects of a sucrose-enriched diet on the pattern of gene expression, contraction and Ca(2+) transport in Goto-Kakizaki type 2 diabetic rat heart. Exp Physiol 99(6): 881–893. https://doi.org/10.1113/expphysiol.2013.077594
- Mandavia CH, Aroor AR, Demarco VG, Sowers JR (2013) Molecular and metabolic mechanisms of cardiac dysfunction in diabetes. Life Sci 92: 601–608. https://doi.org/10.1016/J.LFS.2012.10.028
- Sukhov IB, Chistyakova OV (2022) Impact of intranasal insulin administration on Na+/K+-ATPase and Са2+-transporting system components in rat cardiomyocytes with type 1 diabetes mellitus. J Biomed 18: 52–62. https://doi.org/10.33647/2074–5982–18–2–52–62
- Kubasov IV, Arutyunyan RS, Dobretsov MG, Shpakov AO, Matrosova EV (2014) Effect of insulin on characteristics of contractile responses of fast and slow skeletal muscles of rats with acute streptozotocin-induced diabetes. J Evol Biochem Physiol 50: 136–145. https://doi.org/10.1134/S0022093014020069/METRICS
- Dobretsov M, Backonja MM, Romanovsky D, Stimers JR (2011) Animal models of diabetic neuropathic pain. Neuromethods 49: 147–169. https://doi.org/10.1007/978–1–60761–880–5_9/TABLES/3
- Mendez N, Torres-Farfan C, Salazar E, Bascur P, Bastidas C, Vergara K, Spichiger C, Halabi D, Vio CP, Richter HG (2019) Fetal programming of renal dysfunction and high blood pressure by chronodisruption. Front Endocrinol 10: 362. https://doi.org/10.3389/FENDO.2019.00362
- Galuska D, Kotova O, Barrès R, Chibalina D, Benziane B, Chibalin AV (2009) Altered expression and insulin-induced trafficking of Na+-K+-ATPase in rat skeletal muscle: effects of high-fat diet and exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 297(1): E38–E49. https://doi.org/10.1152/AJPENDO.90990.2008
- Yu Z, Liu J, Van Veldhoven JPD, Ijzerman AP, Schalij MJ, Pijnappels DA, Heitman LH, De Vries AAF (2016) Allosteric modulation of Kv11.1 (hERG) channels protects against drug-induced ventricular arrhythmias. Circ Arrhythmia Electrophysiol 9(4): e003439. https://doi.org/10.1161/CIRCEP.115.003439
- Alessandri-Haber N, Alcaraz G, Deleuze C, Jullien F, Manrique C, Couraud F, Crest M, Giraud P (2002) Molecular determinants of emerging excitability in rat embryonic motoneurons. J Physiol 541: 25–39. https://doi.org/10.1113/JPHYSIOL.2001.013371
- Liu X, Duan P, Hu X, Li R, Zhu Q (2016) Altered KATP channel subunits expression and vascular reactivity in spontaneously hypertensive rats with age. J Cardiovasc Pharmacol 68: 143–149. https://doi.org/10.1097/FJC.0000000000000394
- Zimmer J, Takahashi T, Hofmann AD, Puri P (2017) Downregulation of KCNQ5 expression in the rat pulmonary vasculature of nitrofen-induced congenital diaphragmatic hernia. J Pediatr Surg 52: 702–705. https://doi.org/10.1016/J.JPEDSURG.2017.01.016
- Hu W, Xu T, Wu P, Pan D, Chen J, Chen J, Zhang B, Zhu H, Li D (2017) Luteolin improves cardiac dysfunction in heart failure rats by regulating sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase 2a. Sci Rep 7: 41017. https://doi.org/10.1038/SREP41017
- Bublitz M (ed) (2016) P-Type ATPases. Springer. Humana New York. NY. https://doi.org/10.1007/978–1–4939–3179–8
- Lucchesi PA, Sweadner KJ (1991) Postnatal changes in Na, K-ATPase isoform expression in rat cardiac ventricle: conservation of biphasic ouabain affinity. J Biol Chem 266: 9327–9331. https://doi.org/10.1016/s0021–9258(18)31589–8
- Lytton J, Westlin M, Hanley MR (1991) Thapsigargin inhibits the sarcoplasmic or endoplasmic reticulum Ca-ATPase family of calcium pumps. J Biol Chem 266: 17067–17071. https://doi.org/10.1016/s0021–9258(19)47340–7
- Saborido A, Delgado J, Megías A (1999) Measurement of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase activity and E-type Mg2+-ATPase activity in rat heart homogenates. Anal Biochem 268: 79–88. https://doi.org/10.1006/abio.1998.3043
- Andersen TB, López CQ, Manczak T, Martinez K, Simonsen HT (2015) Thapsigargin – from Thapsia L. to mipsagargin. Molecules 20: 6113–6127. https://doi.org/10.3390/MOLECULES20046113
- Gerbi A, Barbey O, Raccah D, Coste T, Jamme I, Nouvelot A, Ouafik L, Lévy S, Vague P, Maixent JM (1997) Alteration of Na, K-ATPase isoenzymes in diabetic cardiomyopathy: effect of dietary supplementation with fish oil (n-3 fatty acids) in rats. Diabetologia 40: 496–505. https://doi.org/10.1007/S001250050707
- Kato K, Lukas A, Chapman DC, Rupp H, Dhalla NS (2002) Differential effects of etomoxir treatment on cardiac Na+-K+ATPase subunits in diabetic rats. Mol Cell Biochem 232: 57–62. https://doi.org/10.1023/A:1014841216418
- Vlkovičová J, Javorková V, Štefek M, Kyseľová Z, Gajdošíková A, Vrbjar N (2006) Effect of the pyridoindole antioxidant stobadine on the cardiac Na+, K+-ATPase in rats with streptozotocin-induced diabetes Gen Physiol Biophys 25(2): 111–124.
- Vér Á, Szántó I, Bányász T, Csermely P, Végh E, Somogyi J (1997) Changes in the expression of Na+/K+-ATPase isoenzymes in the left ventricle of diabetic rat hearts: effect of insulin treatment. Diabetologia 40: 1255–1262. https://doi.org/10.1007/S001250050818
- Howarth FC, Parekh K, Jayaprakash P, Inbaraj ES, Oz M, Dobrzynski H, Adrian TE (2017) Altered profile of mRNA expression in atrioventricular node of streptozotocin induced diabetic rats. Mol Med Rep 16(4): 3720–3730. https://doi.org/10.3892/mmr.2017.7038
- Chistyakova OV, Sukhov IB, Kubasov IV, Dobretsov MG (2020) The study of rat myocardial Na/K-Atpase activity in experimental conditions of prediabetes and diabetes mellitus. J Evol Biochem Physiol 56: 166–168. https://doi.org/10.31857/S0044452920020047
- Choi KM, Zhong Y, Hoit BD, Grupp IL, Hahn H, Dilly KW, Guatimosim S, Jonathan Lederer W, Matlib MA (2002) Defective intracellular Ca(2+) signaling contributes to cardiomyopathy in type 1 diabetic rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol 283(4): H1398–H1408. https://doi.org/10.1152/AJPHEART.00313.2002
- Zhong Y, Ahmed S, Grupp IL, Matlib MA (2001) Altered SR protein expression associated with contractile dysfunction in diabetic rat hearts. Am J Physiol Heart Circ Physiol 281: H1137–H1147.
- Haghighi K, Bidwell P, Kranias EG (2014) Phospholamban interactome in cardiac contractility and survival: A new vision of an old friend. J Mol Cell Cardiol 77: 160–167. https://doi.org/10.1016/j.yjmcc.2014.10.005
- Wang M, Zhang WB, Zhu JH, Fu GS, Zhou BQ (2010) Breviscapine ameliorates cardiac dysfunction and regulates the myocardial Ca2+-cycling proteins in streptozotocin-induced diabetic rats. Acta Diabetol 47 Suppl 1: 209–218. https://doi.org/10.1007/s00592–009–0164-x
- Vasanji Z, Dhalla NS, Netticadan T (2004) Increased inhibition of SERCA2 by phospholamban in the type I diabetic heart. Mol Cell Biochem 261(1–2): 245–249. https://doi.org/10.1023/b: mcbi.0000028762.97754.26
- Fosmo AL, Skraastad ØB (2017) The Kv7 channel and cardiovascular risk factors. Front Cardiovasc Med 4: 314626. https://doi.org/10.3389/FCVM.2017.00075/BIBTEX
- Lengyel C, Virág L, Bíró T, Jost N, Magyar J, Biliczki P, Kocsis E, Skoumal R, Nánási PP, Tóth M, Kecskeméti V, Papp JG, Varró A (2007) Diabetes mellitus attenuates the repolarization reserve in mammalian heart. Cardiovasc Res 73(3): 512–520. https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2006.11.010
Supplementary files