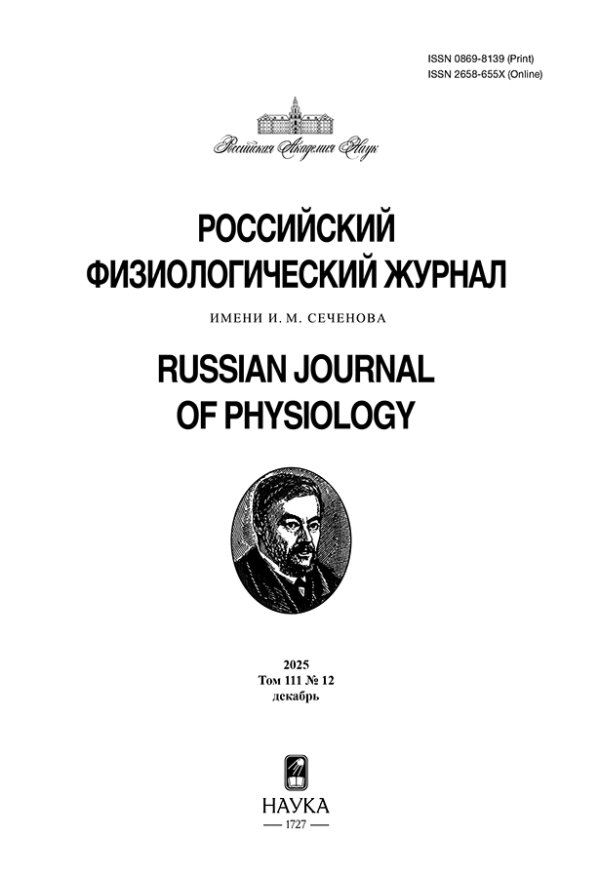Spatial-Temporal Structure Features of Muscle Synergies During Profiling Elements Implementation in Rhythmic Gymnastics
- Authors: Moiseev S.A.1, Ivanov S.M.1
-
Affiliations:
- Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports
- Issue: Vol 110, No 6 (2024)
- Pages: 959-975
- Section: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-8139/article/view/266930
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924060066
- EDN: https://elibrary.ru/BEQPZY
- ID: 266930
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents an analysis of the muscle synergies involved in making ball throws in different directions and from different starting positions. The study involved 6 highly qualified athletes engaged in rhythmic gymnastics. Electromyograms of the superficial muscles of the upper extremities and trunk were recorded synchronously during the movements, as well as video capture of the movements of body segments. Synergy parameters were extracted from the recorded signals using factor analysis using the principal component method. It has been established that individuals who have mastered a complex motor skill can demonstrate similar motor control strategies. This is manifested in the structuring of intermuscular interaction in the form of two general modules, the degree of involvement of muscles in which is highly similar in the implementation of different motor tasks. The first muscle module implements active movement of the upper limb by jointly activating the muscles of the forearm, shoulder and upper shoulder girdle, and also provides stabilization of the position of the trunk by synchronizing the activity of the muscles of the back and abdomen. The second muscle module is specific and is mainly associated with high involvement in the synergy of the muscles of the upper shoulder girdle and forearm for the implementation of exercises performed without visual control, or from starting positions that limit the mobility of certain parts of the body. Thus, the solution to the problem of coordination of many elements of the motor system may consist not only in reducing the number of executive organs – muscles involved in control, but also in organizing control variables in the form of modules at the kinematic level and their stabilization through muscle synergies.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Одним из способов преодоления сложности многосуставного и многомышечного управления движениями является организация элементов управляемой системы в модули и управление такими образованиями посредством центральных управляющих сигналов[1]. Понятие модульности исходит из предположения о том, что нейрональные сети разных уровней ЦНС могут подразделяться на дискретные единицы низкой размерности, способные выполнять простые операции по обработке информации. Например, на уровне спинного мозга такие единицы могут рассматриваться как минимальная структура, содержащая программу координированных действий конечности при ходьбе. Модули, организованные на мышечном уровне, определяемые как скоординированная активация мышечных групп с определенным балансом амплитуд и формой паттерна активации принято называть мышечными синергиями. Доказательства модульной архитектуры построения движений получены при рассмотрении широкого спектра произвольных движений на основе анализа параметров пространственной и временнόй их организации с применением различных алгоритмов факторизации [2–4].
Сегодня не вызывает сомнений факт наличия низкоразмерных модулей в системе управления мышечной активностью человека, однако, организация их задействования в процессе реализации разнообразных двигательных задач во многом остается не ясна. Большой пробел в знаниях об организации синергетического взаимодействия элементов двигательной системы отмечается при рассмотрении сложных моделей межмышечной координации в структуре многосуставных движений. Такие сведения представляют интерес не только для получения фундаментальных знаний о механизмах управления движениями, но и в практическом аспекте совершенствования двигательных навыков в трудовой и спортивной деятельности. Многие движения в сфере спорта являются специфичными, т. е. выученными и не характерными для повседневной двигательной деятельности человека. Например, профилирующие движения, относящиеся к категории базовых элементов в художественной гимнастике, имеют схожую биомеханическую структуру и являются устойчивым двигательным навыком. К движениям такого типа предъявляются повышенные требования, поскольку их точность является оцениваемым критерием и во многом определяет результативность выступления, соответственно характер межмышечного взаимодействия и наблюдаемые синергетические эффекты на разных уровнях построения синергий должны иметь свою специфику. Если управляющая система задействует небольшое число существующих мышечных модулей, гибко модулируя их основные характеристики в соответствии с условиями двигательной задачи, логично ожидать структурирования мышечной активности в инвариантное количество модулей. Вероятно, специфика управления такими движениями должна быть отражена в характере взаимодействия отдельных мышц в структуре синергетических модулей и их взаимодействии в ходе реализации двигательной задачи.
Целью работы явилось выяснение возможности построения разных по биомеханической структуре движений на основе единых синергетических модулей. Конкретная задача исследования включала определение степени сходства параметров пространственно-временной структуры синергий, организованных на мышечном и кинематическом уровне в процессе реализации профилирующих элементов в художественной гимнастике.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях приняли участие 6 спортсменок высокой квалификации, занимающихся художественной гимнастикой. Все испытуемые сообщали о правой ведущей руке. Они выполняли серию упражнений (бросков мяча) из исходного положения «основная стойка»: вперед правой рукой, вперед левой рукой, вперед двумя руками, правой рукой в сторону, правой рукой назад, правой рукой из-за спины вперед. Кроме того, выполняли бросок вперед правой рукой из исходного положения стоя на коленях и из седа. Каждый бросок выполнялся по двенадцать раз, перерыв между сериями бросков составлял не менее 5 мин. Граничные периоды движений анализировались в системе 3D и определялись началом перемещения шиловидной антропометрической точки бросающей мяч руки, а также моментом ее остановки в исходном положении.
Для регистрации перемещений и величин суставных углов применяли систему Qualisys (Швеция) с частотой оцифровки 500 Гц. Светоотражающие маркеры прикрепляли к основным антропометрическим точкам сегментов тела, соответствующим осям вращения в суставах. Регистрировали динамику величин следующих суставных углов обеих сторон тела: шейного (CERV), плечевого (SHLD), локтевого (ULNR), тазобедренного (HIP), коленного (KNEE) и голеностопного (ANKLE). К этим данным применяли процедуру аппроксимизации кривой 2-й степени.
Во время выполнения движений билатерально регистрировали электромиограммы (ЭМГ) шестнадцати поверхностных мышц: локтевого разгибателя запястья (ECU), лучевого сгибателя запястья (FCR), трехглавой плеча (TRIC), двуглавой плеча (BIC), передних пучков дельтовидной (DELTA), верхних пучков трапециевидной (TRAPS), широчайшей спины (LATD), прямой живота (RA). Запись ЭМГ осуществлялась биомонитором ME6000 (Финляндия) с частотой опроса 2000 Гц. Активный электрод располагали в области двигательной точки мышцы, а референтный по ходу волокон на расстоянии 2 см, дополнительный электрод заземления располагали на том же расстоянии за референтным. ЭМГ фильтровали полосовым фильтром 30–450 Гц, усредняли в интервалах 0.002 с и повторно фильтровали фильтром низких частот 15 Гц. Сопряжение работы биомонитора с системой Qualisys осуществлялась через штатный канал синхронизации.
Методика определения структуры синергий. Данные о величинах суставных углов и ЭМГ экспортировались в Statistica (StatSoft, Inc., version 10), где формировали матрицу, состоящую из вариационных рядов регистрируемых величин и дополнительными переменными, идентифицирующими принадлежность измерений к различным испытуемым, попыткам, упражнениям и пр.[5]. Разложение матриц осуществляли с помощью факторного анализа по методу главных компонент без вращения факторов. Схема разложения данных в матрице представлена на рис. 1.
Рис. 1. Схема разложения матрицы данных на компоненты и выделения пространственно-временной структуры синергий.
Методы снижения размерности используют новые, формальные переменные, являющиеся линейной комбинацией исходных переменных, с помощью которых исходная матрица X разлагается на произведение двух матриц: X=T×P+E, где T – матрица счетов, P – матрица нагрузок, E – матрица остатков. Новые формальные переменные и являются компонентами (факторами). Критериями выделения факторов (синергий) являлись величины рассчитанных собственных значений и процент дисперсии, которую учитывает каждый фактор в общем наборе данных. Синергия является одной структурной единицей управления, а рассматриваемыми переменными являются ее элементы – мышцы. Поскольку в структуре синергии должен быть как минимум один управляемый элемент (мышца), то факторы с собственными значениями менее единицы не рассматривались. Факторы, объясняющие менее 5% общей дисперсии данных, считали шумом и тоже не учитывались.
Матрица счетов (T) определяет временную организацию выявленных синергий и представляет собой проекции исходных данных на подпространство главных компонент. Каждый столбец матрицы является вектором координаты точки в пространстве главных компонент. Он дает информацию о наличии синхронно изменяющихся сигналов (ЭМГ мышц) в структуре каждого компонента. Изменение кривой в сторону положительных значений свидетельствует о возрастании линейной зависимости сигналов с тенденцией к увеличению (возрастание электроактивности ЭМГ), а в сторону отрицательных значений к уменьшению (снижение ЭМГ-активности). Каждый столбец матрицы нагрузок (P) состоит из коэффициентов, связывающих переменные, и является проекцией всех переменных на ось главных компонент. Коэффициенты, демонстрирующие высокие значения (> 0.65), указывают на высокую линейную зависимость элементов (изменений электроактивности мышц) выделенного фактора (синергии), от 0.35 до 0.65 – среднюю, и менее 0.35 – низкую. Таким образом, при рассмотрении электромиограмм, данные их векторов в пространстве главных компонент (коэффициенты активации) могут дать информацию о том, как изменяется структура синергий, обусловленная активностью отдельных мышц в ее структуре (весовые коэффициенты) [6, 7].
Множественный регрессионный анализ выполняли в Statistica, применяя стандартный модуль "Multiple Linear Regression". Осуществляли анализ корреляционных матриц на предмет: мультиколениарности; достоверности получаемых β-коэффициентов; нормальности распределения остатков, соответствия предсказанных и наблюдаемых значений [8]. В случае положительной проверки по этим параметрам регрессионную модель считали приемлемой. Анализировали коэффициенты детерминации (R2).
Математико-статистическая обработка данных включала расчет среднего арифметического (M), ошибки среднего арифметического (SE), стандартного отклонения (SD), коэффициентов вариативности (CV). Коэффициенты вариативности в диапазоне до 30% считали низким уровнем, от 31 до 70% – средним и более 71% – высоким. При сравнении коэффициентов активации синергий рассчитывали и анализировали кросскорреляционные функции с учетом знака и смещения их максимального значения относительно нуля. Для сравнения количества модулей, доли дисперсии, весовых коэффициентов разных упражнений применяли дисперсионный анализ c апостериорным по критерию Newman-Keuls при уровне значимости 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ количества извлекаемых факторов показал отсутствие статистически значимых различий при выполнении разных бросков мяча. В среднем регистрировали от двух до четырех модулей, формируемых на мышечном, а также на кинематическом уровне (табл. 1). Наибольшее количество мышечных синергий было выявлено при выполнении броска мяча в сторону – 3.83±0.17, а меньшее было зарегистрировано при броске стоя на коленях – ровно три. Взаимодействие суставных углов оказывалось структурировано, преимущественно, в три модуля, и лишь в некоторых упражнениях было зарегистрировано большее или меньшее их количество. Процент общей дисперсии извлекаемых факторов на мышечном и кинематическом уровне превышал 80%, что свидетельствует о высоком качестве реконструкции исходных данных.
Таблица 1. Количество извлекаемых мышечных синергий и кинематических модулей при выполнении разных бросков мяча (М±m)
Движение | Кол-во (ед.) | VAF (%) | ||
МС | КинС | МС | КинС | |
1 | 3.50±0.22 | 3.00±0.00 | 81.76±1.91 | 90.51±1.91 |
2 | 3.50±0.22 | 3.17±0.17 | 81.74±0.89 | 90.63±0.89 |
3 | 2.83±0.31 | 2.67±0.21 | 84.95±1.29 | 90.18±1.29 |
4 | 3.83±0.17 | 3.00±0.00 | 81.50±1.34 | 93.39±1.34 |
5 | 3.00±0.26 | 3.17±0.17 | 83.31±1.30 | 90.28±1.30 |
6 | 3.67±0.21 | 2.67±0.21 | 85.55±0.94 | 92.51±0.94 |
7 | 3.00±0.00 | 3.00±0.00 | 82.66±1.26 | 92.51±1.26 |
8 | 3.67±0.21 | 3.00±0.26 | 83.78±1.08 | 88.81±1.08 |
1 – бросок вперед правой рукой, 2 – бросок вперед левой рукой, 3 – бросок вперед двумя руками, 4 – бросок правой рукой в сторону, 5 – бросок правой рукой назад, 6 – бросок из-за спины вперед правой рукой, 7 – бросок стоя на коленях вперед правой рукой, 8 – бросок из седа вперед правой рукой.
На рис. 2 представлены усредненные внутрииндивидуальные профили мышечных и кинематических модулей при реализации разных бросков мяча. Временнáя структура первого мышечного модуля практически всех упражнений характеризовалась одним пиком активации, приходящимся на первую четверть движения. Исключение составляли бросок правой рукой назад и бросок из-за спины, при реализации которых у ряда испытуемых регистрировали пик активации в середине упражнения. Следует отметить, что в названных упражнениях регистрировались схожие временные паттерны, но со смещением во времени в сторону середины движения. Кинематические профили активации этого же модуля во всех упражнениях демонстрировали один пик в разные периоды. Так, при броске мяча правой, левой и обеими руками вперед, а также назад и в сторону пик приходился на середину упражнения. При броске стоя на коленях, основной пик синхронизации межсуставного взаимодействия приходился на начало движения. При броске из-за спины правой рукой практически все испытуемые имели схожие паттерны активации, но различия заключались в расположении основного пика (рис. 2).
Рис. 2. Усредненные внутрииндивидуальные профили активации первой мышечной синергии (а) и кинематического модуля (b) при выполнении упражнений. 1 – бросок вперед правой рукой, 2 – бросок вперед левой рукой, 3 – бросок вперед двумя руками, 4 – бросок правой рукой в сторону, 5 – бросок правой рукой назад, 6 – бросок из-за спины вперед правой рукой, 7 – бросок стоя на коленях вперед правой рукой, 8 – бросок из седа вперед правой рукой. По оси абсцисс – у. е., по оси ординат – прогресс движения.
В большинстве упражнений основной пик активации второй синергии на мышечном уровне приходился на вторую четверть. Также было отмечено, что пики внутрииндивидуальных профилей при реализации броска правой рукой назад и из-за спины вперед имели схожий паттерн, но находились в разных временных отрезках упражнений (рис. 3). Так, половина обследуемого контингента демонстрировали возрастание активности второй мышечной синергии в начале упражнения, а для других исследуемых было характерно возрастание синхронизации мышечной активности во второй четверти. При реализации броска правой рукой из-за спины временные профили у разных испытуемых демонстрировали большую вариативность, тем не менее основной пик активации у большинства из них приходился на середину упражнения (рис. 3).
Рис. 3. Усредненные внутрииндивидуальные профили активации второй мышечной синергии (а) и кинематического модуля (b) при выполнении движений из разных исходных положений и направлениях броска мяча. 1 – бросок вперед правой рукой, 2 – бросок вперед левой рукой, 3 – бросок вперед двумя руками, 4 – бросок правой рукой в сторону, 5 – бросок правой рукой назад, 6 – бросок из-за спины вперед правой рукой, 7 – бросок стоя на коленях вперед правой рукой, 8 – бросок из седа вперед правой рукой. По оси абсцисс – у. е., по оси ординат – прогресс движения.
Сравнительный анализ коэффициентов активации первой мышечной синергии показал высокое сходство профилей большинства рассматриваемых упражнений за исключением броска правой рукой назад и броска из-за спины. Самые высокие коэффициенты кросскорреляционных функций были получены при сопоставлении паттернов броска правой рукой вперед и броска стоя на коленях вперед правой рукой – 0.94±0.01 в среднем по группе, а их вариативность не превышала 2.17%. Следует отметить, что коэффициенты вариативности упражнений, временные профили которых демонстрировали высокое сходство (> 0.9), имели очень низкие значения, не превышающие 5.24%. Меньшее соответствие коэффициентов активации первой мышечной синергии было получено для всех упражнений при сопоставлении их с броском правой рукой назад и из-за спины. Например, сравнивая бросок правой рукой вперед и названные выше упражнения, коэффициенты кросскорреляции составляли 0.61±0.09 и 0.63±0.07 соответственно. Вариативность в обоих случаях оценивалась как средняя (47.36% и 33.47%). Аналогичная картина наблюдалась и на кинематическом уровне, где большинство упражнений демонстрировали высокое сходство паттернов активации. В меньшей степени обнаружено соответствие всех рассматриваемых упражнений с броском назад и броском вперед, стоя на коленях. В этих случаях коэффициенты кросскорреляции оценивались как средние и находились в диапазоне от 0.51±0.10 до 0.69±0.12 при CV, достигающих 34.84%.
Вторая мышечная синергия демонстрировала, преимущественно, среднее сходство при реализации разных упражнений. Однако были зарегистрированы и высокие коэффициенты, например, бросок правой рукой в сторону и бросок, стоя на коленях, демонстрировали высокое сходство с броском правой и левой рукой вперед. Коэффициенты кросскорреляционных функций находились в диапазоне от 0.78±0.02 до 0.90±0.01, при CV, не превышающих 8.11%. При сопоставлении коэффициентов активации на кинематическом уровне было установлено высокое сходство структуры броска вперед правой рукой со всеми упражнениями, за исключением броска правой назад и из-за спины вперед. Также было отмечено высокое сходство паттернов временнόй активации броска правой рукой в сторону с бросками, стоя на коленях и из седа. Здесь коэффициенты составляли 0.87±0.02 и 0.76±0.02 соответственно.
На следующем этапе анализа были рассчитаны весовые коэффициенты в структуре выделяемых факторов (синергий) для каждой мышцы при реализации разных упражнений (рис. 4). Структура первой мышечной синергии определялась скелетными мышцами, демонстрирующими высокие весовые коэффициенты (> 0.7). Например, для локтевого разгибателя запястья правой руки при реализации большинства упражнений они составляли от 0.76±0.02 до 0.79±0.02 при низкой вариативности – не более 7.26%. Помимо этого высокое вовлечение в первую мышечную синергию при выполнении практически всех бросков было установлено для мышц правой стороны тела: трехглавой мышцы плеча, верхних пучков трапециевидной, широчайшей мышцы спины и двуглавой мышцы плеча. Кроме этого, верхние пучки трапециевидной мышцы левой стороны также были задействованы в высокой степени во всех упражнениях с мячом. Следует отметить, что мышцы, у которых были зарегистрированы высокие весовые коэффициенты, имели и низкие значения коэффициентов вариативности включения их в синергию, чаще всего не превышающие 10%. Особо можно отметить среднюю и высокую вариативность вовлечения некоторых мышц в первую синергию при выполнении броска из-за спины вперед, где CV оказывались более 30%. Например, для трехглавой мышцы плеча и передней части дельтовидной мышцы левой стороны CV составляли 77.80% и 80.65% соответственно. Некоторые мышцы в структуре первой синергии оказывались задействованы в равной степени при реализации разных бросков мяча, на что указывает отсутствие статистически значимых различий весовых коэффициентов. Таковыми являлись локтевой разгибатель запястья, лучевой сгибатель запястья, верхние пучки трапециевидной мышцы, широчайшая мышца спины и двуглавая мышца плеча правой стороны. Кроме того, локтевой разгибатель запястья и широчайшая мышца спины левой стороны также не имели достоверных различий весовых коэффициентов при реализации разных упражнений.
Рис. 4. Весовые коэффициенты в структуре мышечных синергий при реализации разных бросков мяча. L – левая сторона, R – правая сторона. 1 – бросок вперед правой рукой, 2 – бросок вперед левой рукой, 3 – бросок вперед двумя руками, 4 – бросок правой рукой в сторону, 5 – бросок правой рукой назад, 6 – бросок из-за спины вперед правой рукой, 7 – бросок стоя на коленях вперед правой рукой, 8 – бросок из седа вперед правой рукой. S1-S4 – номер мышечной синергии.
Вторая мышечная синергия включала меньшее количество мышц, имеющих высокие весовые коэффициенты. Так, для прямой мышцы живота правой стороны они составляли 0.82±0.04 и 0.80±0.03 при реализации бросков, стоя на коленях, и из седа (рис. 4). При реализации броска правой рукой назад весовые коэффициенты лучевого сгибателя запястья составляли в среднем по группе 0.71±0.02. Прямая мышца живота демонстрировала высокое вовлечение во вторую мышечную синергию при выполнении броска правой рукой вперед, двумя руками вперед и броска вперед, стоя на коленях. Здесь весовые коэффициенты находились в диапазоне от 0.71±0.03 до 0.82±0.01. Дельтовидные мышцы левой стороны тела также оказывались в высокой степени задействованы при выполнении броска назад и броска из-за спины (рис. 4). Весовые коэффициенты других исследуемых мышц при реализации разных упражнений демонстрировали средние и низкие весовые коэффициенты. Как и в первой мышечной синергии, мышцы, имеющие высокие весовые коэффициенты, демонстрировали низкую вариативность и соответственно высокую стабильность их включения в структуру второй синергии при их межиндивидуальном рассмотрении (CV не более 10%). В структуре данной мышечной синергии было установлено отсутствие статистически значимых различий весовых коэффициентов у семи скелетных мышц при реализации разных упражнений. Таковыми являлись локтевой разгибатель запястья обеих сторон тела, лучевой сгибатель запястья и двуглавая мышца плеча правой стороны, а также трапециевидная и широчайшая мышца спины левой стороны.
На рис. 5 приведены весовые коэффициенты суставных углов в структуре первых кинематических модулей. Так, при выполнении броска правой рукой вперед первый модуль характеризовался высокой синхронизацией изменений голеностопного, плечевого, тазобедренного и шейного углов правой стороны тела. Здесь коэффициенты находились в диапазоне от 0.76±0.02 до 0.91±0.02, их вариативность оценивалась как низкая и не превышала 12.72%. Отмечена закономерность, заключающаяся в увеличении синхронизации изменений величин суставных углов при выполнении бросков мяча в направлении назад и из-за спины, а также в исходных положениях, стоя на коленях, и из седа. Например, при броске из-за спины высокие весовые коэффициенты в структуре первого кинематического модуля демонстрировали голеностопные, коленные, шейные углы правой, а также локтевой и плечевой суставы левой стороны тела. Диапазон значений коэффициентов составлял от 0.76±0.02 до 0.93±0.01 при низких CV, не превышающих 12.23%.
Рис. 5. Весовые коэффициенты в структуре кинематических модулей при реализации разных бросковых движений. r – правая сторона, L – левая сторона. 1 – бросок вперед правой рукой, 2 – бросок вперед левой рукой, 3 – бросок вперед двумя руками, 4 – бросок правой рукой в сторону, 5 – бросок правой рукой назад, 6 – бросок из-за спины вперед правой рукой, 7 – бросок стоя на коленях вперед правой рукой, 8 – бросок из седа вперед правой рукой. М1-М4 – номер кинематического модуля.
Второй кинематический модуль включал значительно меньшее число суставов, демонстрирующих высокую степень синхронизации. Например, при броске вперед правой рукой весовые коэффициенты плечевого сустава левой стороны составляли 0.79±0.06. Для коленного правого и тазобедренного левого они были 0.68±0.04 и 0.66±0.08 соответственно. В структуре второго кинематического модуля большинства упражнений количество суставных углов, проявляющих высокую синхронизацию, не превышало двух или трех. Так, при броске из-за спины высокие коэффициенты имели тазобедренные суставы – выше 0.84±0.05. В некоторых упражнениях, например, при броске из седа и броске назад, второй кинематический модуль включал единственный суставной угол с высоким коэффициентом.
Весовые коэффициенты для голеностопного сустава правой стороны лишь в двух упражнениях имели достоверные различия в структуре первого кинематического модуля (рис. 5). Весовые коэффициенты коленного сустава правой стороны также при сравнении большей части упражнений существенно не различались (p > 0.05). Аналогичные результаты демонстрировали локтевой сустав правой и шейные суставы обеих сторон тела. В структуре второго кинематического модуля практически полное отсутствие достоверных различий весовых коэффициентов при сравнении разных упражнений демонстрировали голеностопный и локтевой суставы левой, а также плечевой и шейный суставы левой стороны тела.
Далее анализировали зависимости между мышечными синергиями и кинематическими модулями в структуре рассматриваемых упражнений и между ними. При регрессионном анализе в качестве зависимых переменных поочередно выступали вариационные ряды коэффициентов активации (усредненные межиндивидуальные профили) кинематических модулей, а независимыми переменными являлись коэффициенты активации мышечных синергий (табл. 2).
Таблица 2. Коэффициенты детерминации при анализе зависимостей между мышечными синергиями и кинематическими модулями в структуре разных упражнений
Кин 1 | ||||||||
1 | 0.34 (1–4) | 0.42 (1–4) | 0.54 (1–4) | 0.41 (1–4) | 0.79 (1–4) | 0.66 (1–3) | 0.76 (1–4) | 0.66 (2–4) |
2 | 0.47 (1–4) | 0.63 (1–4) | 0.53 (1–4) | 0.85 (1–4) | 0.62 (1–4) | 0.71 (1–4) | 0.71 (1–4) | |
3 | 0.71 (1–4) | 0.64 (1–4) | 0.58 (1–3) | 0.82 (1–4) | 0.81 (1–4) | 0.66 (1–4) | ||
4 | 0.67 (1–4) | 0.88 (1–4) | 0.82 (1–4) | 0.85 (1–4) | 0.78 (1–4) | |||
5 | 0.91 (1–4) | 0.50 (2–4) | 0.17 (1–4) | 0.36 (1,3,4) | ||||
6 | 0.77 (1–4) | 0.53 (2–4) | 0.57 (1,3,4) | |||||
7 | 0.72 (1–3) | 0.54 (1–3) | ||||||
8 | 0.66 (1–4) | |||||||
Кин 2 | ||||||||
1 | 0.94 (1–4) | 0.91 (1–4) | 0.81 (1–4) | 0.83 (1,2,4) | 0.94 (1–4) | 0.75 (1–3) | 0.84 (1,2,4) | 0.77 (1–4) |
2 | 0.72 (1–4) | 0.79 (1–3) | 0.80 (1–4) | 0.78 (1–4) | 0.81 (1–4) | 0.87 (1–3) | 0.66 (1,2) | |
3 | 0.68 (1–4) | 0.69 (1–4) | 0.82 (1,2,4) | 0.76 (1–4) | 0.60 (1–3) | 0.66 (1–4) | ||
4 | 0.83 (1–4) | 0.80 (1–4) | 0.80 (1–4) | 0.85 (1,2,4) | 0.77 (1–4) | |||
5 | 0.12 (2–4) | 0.84 (1–4) | 0.94 (1–3) | 0.41 (1,2,4) | ||||
6 | 0.81 (1–4) | 0.89 (1–4) | 0.47 (1,3,4) | |||||
7 | 0.72 (1–3) | 0.73 (1–3) | ||||||
8 | 0.67 (1–4) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 – бросок вперед правой рукой, 2 – бросок вперед левой рукой, 3 – бросок вперед двумя руками, 4 – бросок правой рукой в сторону, 5 – бросок правой рукой назад, 6 – бросок из-за спины вперед правой рукой, 7 – бросок стоя на коленях вперед правой рукой, 8 – бросок из седа вперед правой рукой. Кин1,2 – номер кинематического модуля. Заливкой выделены высокие коэффициенты (> 0.7). Значения в скобках обозначают номер мышечной синергии, удовлетворяющей критериям включения в регрессионную модель.
Наибольшее количество значимых связей обнаружено со вторым кинематическим модулем. Здесь коэффициенты детерминации всех рассматриваемых упражнений находились в диапазоне от 0.77 до 0.94, при этом в большинстве случаев они включали как минимум три мышечные синергии, удовлетворяющие критериям включения их в регрессионную модель. С первым модулем на кинематическом уровне регистрировались высокие и средние коэффициенты, в среднем для каждого упражнения были выявлены высокие связи с половиной из рассматриваемых упражнений. С третьим кинематическим модулем преимущественно регистрировались низкие связи.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В нашей работе предполагалось выяснить, возможно ли построение целостных движений, относящихся к категории профилирующих элементов в художественной гимнастике, на основе общих синергетических модулей, организованных на мышечном уровне. Сама идея упрощения двигательного контроля заключается в использовании управляющей системой общей структуры для формирования мышечных паттернов в виде комбинаций небольшого числа модулей, специфичных для конкретной задачи или группы задач [1, 9]. Доказательства такой организации представлены при изучении локомоторной активности человека, где удалось выявить общие мышечные модули при выполнении таких задач как ходьба, бег, педалирование и ряд других [10, 11]. Установлены общие мышечные модули, задействуемые в реализации задач по захвату предметов рукой, находящихся на разном удалении и направлении [12, 13]. Были предприняты попытки найти общие мышечные синергии, посредством которых обеспечивается поддержание вертикальной позы и ходьбы [10]. Идентифицированы мышечные модули, которые задействуются в реакциях на внешнее воздействие при стоянии, аналогичные используемым при компенсации возмущающих воздействий при ходьбе [14]. Эти сведения приводят как доказательство модульной организации управления движениями человека, а также как подтверждение существования общих и специфичных для разных двигательных задач мышечных синергий [9, 15]. Тот факт, что находятся связи параметров выявляемых модулей с кинематикой определенных фаз и периодов движений свидетельствует о том, что синергии могут быть связаны с выполнением конкретной функции на уровне одного или нескольких сегментов тела. Возможно, эти синергии, выделяемые на уровне подзадач, и являются общими для широкого спектра однотипных движений. В этой связи логично ожидать, что параметры пространственно-временного структурирования мышечных синергий, в частности, степень синхронизации отдельных мышц, принимающих участие в движениях определенного сегмента (или ряда сегментов), будет высокой. Это предположение находит подтверждение в наших исследованиях.
При рассмотрении весовых коэффициентов в структуре синергий, выявленных для разных бросков мяча, мы обращали внимание на два аспекта. Первый связан с выделением мышц, имеющих высокие весовые коэффициенты, в структуре модулей. Такие мышцы имеют явную синхронизацию активности и формируют временной паттерн активации. Разумеется, другие мышцы, демонстрирующие меньшие коэффициенты, могут быть задействованы в синергии, но степень их участия в синергии и роль в формировании паттернов активации значительно меньше. Второй аспект анализа предусматривал сравнение весовых коэффициентов вне зависимости от их величины. Таким образом, при сопоставлении разных упражнений мы оценивали количество мышц, формирующих основной паттерн активации, и степень вовлечения всех мышц в синергии при выполнении разных упражнений. Мы установили, что практически половина исследуемых мышц оказались вовлечены (демонстрировали высокие коэффициенты) в первую мышечную синергию. Таковыми являлись мышцы предплечья, двуглавая мышца плеча, трапециевидная и широчайшая мышца спины правой стороны тела, а также локтевой разгибатель кисти, трапециевидная мышца и широчайшая мышца спины левой стороны. Их вариативность при межиндивидуальном рассмотрении была низкой, это свидетельствует о том, что структура данной синергии характерна для всех испытуемых и не является индивидуальной особенностью. В большинстве случаев в этих же мышцах не обнаруживались статистически значимые различия в величинах весовых коэффициентов при реализации разных упражнений. Легко заметить, что выявленные мышцы в структуре первой синергии задействованы в перемещении сегментов тела правой верхней конечности, осуществляющей основное движение, т. е. их активация связана с конкретной функцией. Активность ряда мышц в структуре этой же синергии, вероятно, связана со стабилизацией положения туловища во время броска. Таким образом, основная синергия (первая) может обеспечивать две функции, связанные с активным перемещением сегментов тела или стабилизацией определенного положения тела, и это характерно для всех рассматриваемых нами упражнений.
Во второй мышечной синергии высокие весовые коэффициенты были выявлены преимущественно для прямой мышцы живота и дельтовидной мышцы обеих сторон тела в структуре упражнений, выполняемых без зрительного контроля, либо из исходных положений, ограничивающих подвижность определенных звеньев тела. Кроме того, не было установлено существенных различий весовых коэффициентов для тех же мышц, которые были в высокой степени задействованы в первой мышечной синергии. Данные закономерности могут быть описаны, исходя из понятия о специфических мышечных синергиях, которые задействуются в движениях, реализуемых в необычных условиях или при внешнем воздействии, вынуждающем управляющую систему менять стратегию контроля, а именно включать ранее не задействованные синергии или менять структуру используемых [16]. Наиболее ярко такие перестройки были продемонстрированы при рассмотрении локомоций человека. Так, ходьба по ровной поверхности в обычных условиях может быть описана пятью пространственно-временными синергиями на мышечном уровне [2]. При изменении условий, например, при ходьбе по неровной опоре, увеличивается количество выявляемых модулей и наблюдается изменение степени участия скелетных мышц в их структуре [17]. Мы не наблюдали существенных различий (в среднем по группе) по количеству извлекаемых мышечных модулей в структуре разных упражнений. В некоторых реализациях даже одного упражнения наблюдались небольшие вариации количества задействованных модулей, вероятно, связанные с вычислительными аспектами применяемого метода факторизации, либо с вариативностью как принципом организации всех биологических систем. Однако вторая мышечная синергия включала высокие весовые коэффициенты ряда мышц только для двух из всех рассматриваемых упражнений, т. е. можно говорить о специфической мышечной синергии, которая в большей степени задействуется при выполнении двигательной задачи в нестандартных условиях.
Условия реализации стандартной двигательной задачи должны отражаться на координационных отношениях мышц, задействованных в движении, особенно ярко это выражалось при рассмотрении временнόй структуры выделяемых мышечных модулей. Броски, выполняемые из исходных положений, стоя на коленях, и из седа, имели уникальные паттерны временной активации, отличные от других упражнений и по форме и по выраженности основных пиков. Это вполне логично, поскольку на структуру межсуставного взаимодействия может оказывать влияние искусственное ограничение степеней свободы, не связанное с центральными процессами управления, т. е. само исходное положение не позволяет задействовать ряд суставов. Броски, выполняемые в направлении назад и из-за спины вперед, имели схожие паттерны с некоторыми упражнениями, однако, практически все индивидуальные профили их активации приходились на разные временные периоды движения. Кроме того, движения, реализуемые без зрительного контроля, а также выполняемые из нестандартных исходных положений или недоминирующей рукой, характеризовались вовлечением в кинематические модули большего числа суставов, несмотря на наличие искусственного ограничения степеней свободы в ряде движений. Таким образом, упражнения, связанные с броском мяча в разных направлениях, но при условии наличия зрительного контроля за результатом движения и опоры на обе стопы, могут быть построены на основе общих мышечных модулей, имеющих схожую временную организацию. В условиях ограничения зрительного контроля и в положениях, ограничивающих подвижность ряда суставов, наблюдаются специфичные паттерны активации синергий. Следует отметить, что обсуждаемые закономерности синергетического взаимодействия скелетных мышц были характерны и для кинематического уровня исследования синергий.
Методы снижения размерности данных, широко применяемые для выявления синергетических эффектов на мышечном уровне, позволяют получать те же характеристики на кинематическом, однако, на наш взгляд, такие кинематические модули скорее относятся к категории стабилизируемых переменных и их следует рассматривать как отдельную контролируемую единицу. Понятие стабилизируемых переменных исходит из определения синергии как организации множества элементов управляемой системы с целью стабилизации важных для успешной реализации двигательной задачи переменных контроля [18–20]. Под управляемыми элементами, как правило, понимают мышечные группы, объединенные в модули низкой размерности, а переменные контроля могут включать кинематические характеристики движения. Определение важных переменных является сложной задачей, чаще они выявляются интуитивно и проверяются экспериментальным путем. Важность выделения таких переменных подчеркивается в положениях концепции «неконтролируемого многообразия», где две категории переменных образуют два независимых пространства, в разной степени влияющих на производительность [21]. Оценка соотношения дисперсии данных, регистрируемой при многократных реализациях модельного движения, позволяет судить о степени проявления синергизма. Если исходить из предположения о том, что мышечных синергий ограниченное небольшое количество, и они гибко задействуются в реализации широкого спектра произвольных движений, то их применение для стабилизации множества важных переменных представляется нецелесообразным, тем более что при рассмотрении сложных по координации движений, впрочем, как и любых других фундаментальных моделей двигательного поведения человека, выявляются не более пяти-шести мышечных модулей. Несмотря на показанную возможность гибкой настройки координационных отношений мышц в структуре таких образований, решение двигательных задач с множеством возможных соотношений характеристик движения на кинематическом уровне посредством такого количества мышечных объединений представляется маловероятным.
Мы предположили, что принцип управления на основе объединения в модули для упрощения контроля может быть применен не только к исполнительным органам (мышцам), но и к организации контролируемых переменных. Такая возможность была показана нами ранее при изучении роли синергий в процессе регуляции позы при выполнении сложных спортивных равновесий [22]. Теоретической базой для обоснования такого предположения может являться концепция о системе внутреннего представления тела, описывающая взаимное положение звеньев тела на базе сложной информационной структуры – внутренней модели или схемы, базирующейся преимущественно на интеграции зрительной и проприоцептивной информации. Система внутреннего представления может включать не только схему собственного тела, но и систему координат, в которой описывается ориентация и движение тела относительно внешнего пространства [23, 24]. В этой связи представление о движениях сегментов тела, объединенных по модульному принципу, и воздействие на них посредством мышечных синергий представляется возможным. Для оценки взаимодействия сегментов тела можно использовать величины основных суставных углов, а степень синхронизации их изменений в процессе реализации двигательной задачи будет являться рассматриваемой переменной контроля. С помощью регрессионного анализа нам удалось установить, что практически во всех рассматриваемых упражнениях мышечные синергии имели высокие взаимосвязи с одним из кинематических модулей, причем в его стабилизации чаще были задействованы все мышечные синергии. Тот факт, что усредненные внутрииндивидуальные временные паттерны активации мышечных синергий находят взаимосвязи с кинематическими модулями, полученными при рассмотрении структуры разных двигательных действий, свидетельствует о действительном существовании общих мышечных синергий, которые задействуются при организации разных по структуре движений, относящихся к одной категории упражнений в художественной гимнастике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, лица, овладевшие сложным специфическим двигательным навыком, могут демонстрировать схожие стратегии двигательного контроля. Это проявляется в структурировании межмышечного взаимодействия в виде единых модулей, которые задействуются при реализации разных двигательных задач. При выполнении упражнений оказываются задействованы две основные мышечные синергии, обеспечивающие активное перемещение верхней конечности и стабилизацию положения туловища. Специфика пространственно-временной организации синергий на мышечном уровне проявляется при реализации упражнений, выполняемых без зрительного контроля, либо из исходных положений, ограничивающих подвижность определенных звеньев тела. Решение проблемы координации множества элементов управляемой системы может заключаться не только в снижении количества мышц, задействованных в управлении, но и в организации переменных контроля в виде модулей на кинематическом уровне и их стабилизации посредством мышечных синергий.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают благодарность сотруднику Научно-исследовательского института проблем спорта и оздоровительной физической культуры Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Пухову А. М. за помощь в проведении исследований.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
С. А. М. – планирование, организация и участие в проведении экспериментов, регистрация и анализ полученных данных, обработка данных, подготовка текста рукописи. С. М. И. – участие в проведении экспериментов, обработка данных.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все исследования проводились в соответствии с принципами биомедицинской этики, изложенными в Хельсинкской декларации 1964 г. и последующих поправках к ней. Они также были одобрены Комитетом по этике Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, протокол № 3 от 10 октября 2022 года. Каждый участник исследования дал добровольное письменное информированное согласие после получения разъяснений о потенциальных рисках и преимуществах, а также о характере предстоящего исследования.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
S. A. Moiseev
Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports
Author for correspondence.
Email: sergey_moiseev@vlgafc.ru
Russian Federation, Velikiye Luki
S. M. Ivanov
Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports
Email: sergey_moiseev@vlgafc.ru
Russian Federation, Velikiye Luki
References
- D'Avella A (2016) Modularity for Motor Control and Motor Learning. Adv Exp Med Biol 957: 3–19. https://doi.org/10.1007/978–3–319–47313–0_1
- Ivanenko YP., Poppele RE., Lacquaniti F (2004) Five basic muscle activation patterns account for muscle activity during human locomotion. J Physiol 556(1): 267–282. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2003.057174
- Frère J., Hug F (2012) Between-subject variability of muscle synergies during acomplex motor skill. Front Comput Neurosci 28(6): 99. https://doi.org/10.3389/fncom.2012.00099
- Torres-Oviedo G, Ting LH (2010) Subject-specific muscle synergies in human balance control are consistent across different biomechanical contexts. J Neurophysiol 103(6): 3084–3098. https://doi.org/ 10.1152/jn.00960.2009
- Moiseev S, Pukhov A, Mikhailova E, Gorodnichev R (2022) Methodological and computational aspects of extracting extensive muscle synergies in moderate-intensity locomotions. J Evol Biochem Phys 58: 88–97. https://doi.org/10.1134/S0022093022010094
- Turpin N, Uriac S, Dalleau G (2021) How to improve the muscle synergy analysis methodology? Eur J Appl Physiol 121(4): 1009–1025. https://doi.org/10.1007/s00421–021–04604–9
- Cheung V, d'Avella A, Bizzi E (2009) Adjustments of motor pattern for load compensation via modulated activations of muscle synergies during natural behaviors. J Neurophysiol 101(3): 1235–1257. https://doi: 10.1152/jn.01387.2007
- Радченко СГ (2011) Методология регрессионного анализа. К. Корнійчук. [Radchenko SG (2011) Methodology of regression analysis. K. Kornіjchuk. (In Russ)].
- D’Avella A, Bizzi E (2005) Shared and specific muscle synergies in natural motor behaviors. Proc Natl Acad Sci U S A 102(8): 3076–3081. https://doi.org/10.1073/pnas.0500199102
- De Marchis C, Schmid M, Bibbo D, Bernabucci I, Conforto S (2013) Inter-individual variability of forces and modular muscle coordination in cycling: a study on untrained subjects. Hum Mov Sci 32(6): 1480–1494. https://doi.org/10.1016/j.humov.2013.07.018
- McGowan CP, Neptune RR, Clark DJ, Kautz SA (2010) Modular control of human walking: adaptations to altered mechanical demands. J Biomech 43(3): 412–419. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2009.10.009
- Jarque-Bou N, Scano A, Atzori M, Müller H (2019) Kinematic synergies of hand grasps: a comprehensive study on a large publicly available dataset. J Neuroeng Rehabil 16(1): 63. https://doi.org/10.1186/s12984–019–0536–6
- Scano A, Chiavenna A, Molinari Tosatti L, Müller H, Atzori M (2018) Muscle Synergy Analysis of a Hand-Grasp Dataset: A Limited Subset of Motor Modules May Underlie a Large Variety of Grasps. Front Neurorobot 12: 57. https://doi.org/10.3389/fnbot.2018.00057
- Chvatal S, Ting L (2013) Common muscle synergies for balance and walking. Front Comput Neurosci 7: 48. https://doi.org/10.3389/fncom.2013.00048
- Kim M, Kim Y, Kim H, Yoon B (2018) Specific muscle synergies in national elite female ice hockey players in response to unexpected external perturbation. J Sports Sci 36(3): 319–325. https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1306090
- Boccia G, Zoppirolli C, Bortolan L, Schena F, Pellegrini B (2018) Shared and task-specific muscle synergies of Nordic walking and conventional walking. Scand J Med Sci Sports 28(3): 905–918. https://doi.org/10.1111/sms.12992
- Saito, Tomita A, Ando R, Watanabe K, Akima H (2018) Similarity of muscle synergies extracted from the lower limb including the deep muscles between level and uphill treadmill walking. Gait Posture 59: 134–139. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.10.007
- Scholz J, Schöner G (1999) The uncontrolled manifold concept: identifying control variables for a functional task. Exp Brain Res 126(3): 289–306. https://doi.org/10.1007/s002210050738
- Latash M (2010) Motor synergies and the equilibrium-point hypothesis. Motor Control 14(3): 294–322. https://doi.org/10.1123/mcj.14.3.294
- Nardon M, Pascucci F, Cesari P, Bertucco M, Latash M (2022) Synergies Stabilizing Vertical Posture in Spaces of Control Variables. Neuroscience 500: 79–94. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2022.08.006
- Latash M, Levin MF, Scholz JP, Schöner G (2010) Motor control theories and their applications. Medicina 46(6): 382–392.
- Моисеев С, Михайлова Е (2023) Двигательные синергии в системе управления сложными спортивными равновесиями. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 109(5): 612–628. [Moiseev S, MihajlovaE (2023) Motor synergies in the control system of complex sports balances. Russ J Physiol 109(5): 612–628. (In Russ)]. https://doi.org/10.31857/S0869813923050060
- Гурфинкель ВC, Дебрева ЕE, Левик ЮC (1986) Роль внутренней модели в восприятии положения и планировании движения. Физиология человека 12(5): 769. [Gurfinkel' VS Debreva EE, Levik YuS (1986) The role of the internal model in position perception and movement planning. Human physiol 12(5): 769. (In Russ)].
- Киреева Т, Левик Ю, Холмогорова Н (2005) Взаимодействие зрительной и проприоцептивной информации в восприятии положения руки. Рос журн биомехан 9(2): 74. [Kireeva T, Levik Y, Holmogorova N (2005) Interaction of visual and proprioceptive information in the perception of hand position. Russ J Biomech 9(2): 74. (In Russ)].
Supplementary files