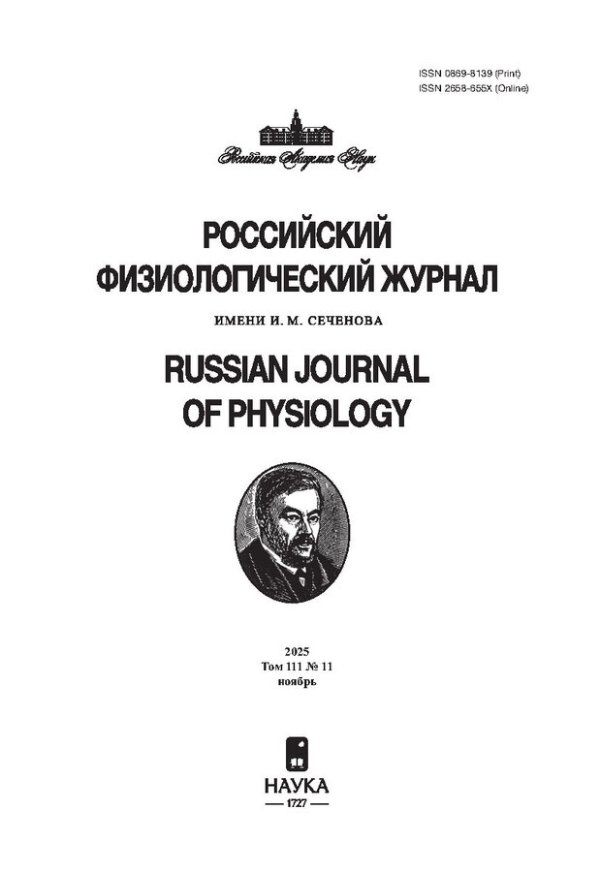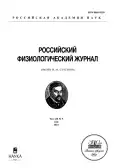Влияние кардарина на экспрессию генов белков, вовлеченных в эпилептогенез, в гиппокампе крыс в литий-пилокарпиновой модели височной эпилепсии
- Авторы: Харисова А.Р.1, Рогинская А.И.1, Зубарева О.Е.1
-
Учреждения:
- Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
- Выпуск: Том 110, № 5 (2024)
- Страницы: 814-836
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-8139/article/view/266897
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924050115
- EDN: https://elibrary.ru/BKJEXJ
- ID: 266897
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В последние годы активно обсуждается роль в патогенезе эпилепсии астро- и микроглиальных клеток и связанного с ними нейровоспаления. Эти клетки могут быть в разных функциональных состояниях, крайние из которых A1 и M1 фенотипы продуцируют преимущественно провоспалительные (способствующие эпилептогенезу) белки, а A2 и M2 фенотипы – противовоспалительные (предотвращающие эпилептогенез) белки. Предполагается, что использование препаратов, способных стимулировать поляризацию от М1 и А1 к М2 и А2 фенотипам, может стать успешной стратегией лечения эпилепсии. К таким препаратам относятся агонисты ядерных рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом (PPARs). Целью данной работы стало изучение изменений экспрессии микро- и астроглиальных белков, вовлеченных в регуляцию эпилептогенеза, в дорзальном гиппокампе крыс в литий-пилокарпиновой модели височной эпилепсии и исследование влияния на эти процессы агониста PPAR бета/дельта кардарина. Кардарин вводили на начальных этапах эпилептогенеза (в течение 7 дней после индукции TLE модели), через два месяца (хроническая фаза модели) проводили анализ экспрессии генов интереса в дорзальном гиппокампе методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Проведенное исследование выявило изменение экспрессии генов астро- и микроглиальных белков в процессе эпилептогенеза, в основном связанное с усилением нейровоспалительных процессов и ослаблением нейропротекторных свойств этих клеток. У TLE крыс увеличивалась экспрессия генов маркеров активации астро- (Gfap) и микроглии (Aif1), про- (Il1b, Nlrp3) и противовоспалительных (Il1rn) белков, маркеров фенотипа A1 астроцитов (Lcn2, Gbp2) и ростовых факторов (Bdnf, Fgf2). Экспрессия гена защитного М2 фенотипа Arg1 снижалась у TLE крыс. Наиболее яркий эффект введения кардарина проявился в усилении экспрессии гена маркера A2 фенотипа астроцитов S100a10.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Эпилепсия является одним из наиболее распространенных и тяжелых неврологических заболеваний [1]. Около 30% больных эпилепсией оказываются нечувствительными к существующим методам лечения [2]. Используемые в клинике препараты устраняют симптомы заболевания, но они не позволяют полностью предотвратить эпилептогенез [3]. Более чем у 17% пациентов прием используемых в клинике противоэпилептических препаратов приводит к развитию нежелательных побочных нервно-психических нарушений [4]. Поэтому поиск новых методов лечения, способных предотвращать развитие эпилептических процессов и связанных с ними нарушений, является актуальной проблемой.
Традиционно развитие эпилептических нарушений в мозге связывают с дисбалансом активности возбуждающих и тормозных систем в нейронных сетях [5], однако в последнее время появляется все больше данных о роли в патогенезе эпилепсии микро- и астроглиальных клеток, а также связанных с ними процессов: нейровоспаления и метаболических нарушений [6, 7]. Роль нейровоспаления в патогенезе острых судорог и эпилепсии доказана с помощью применения противовоспалительной терапии [8], использования животных, нокаутных по гену рецептора провоспалительного цитокина интерлейкина-1 [9] и в других моделях. Астро- и микроглиальные клетки играют ключевую роль в индукции воспалительных реакций в мозге [10]. При этом они могут быть в различных функциональных состояниях, крайние из которых соответственно A1 и M1 фенотипы продуцируют преимущественно провоспалительные (способствующие эпилептогенезу), а A2 и M2 фенотипы – противовоспалительные (предотвращающие эпилептогенез) белки. Выдвинута гипотеза, согласно которой успешной стратегией лечения заболеваний, патогенез которых связан с нейровоспалением, включая эпилепсию, может быть использование препаратов, способных стимулировать поляризацию от М1 и А1 к М2 и А2 фенотипам [11, 12].
Среди препаратов, способных влиять на поляризацию глиальных клеток, снижать выраженность нейровоспалительных процессов, регулировать липидный и энергетический обмен, в настоящее время активно изучаются агонисты ядерных рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом (PPARs) [13, 14]. PPARs бывают трех типов – альфа (α), бета/дельта (β/δ) и гамма (γ). Все типы PPARs экспрессируются в различных клетках организма, включая клетки мозга: они обнаружены в нейронах [15], олигодендроцитах [16], микроглии [17] и астроцитах [18]. Естественными лигандами этих рецепторов являются свободные жирные кислоты, эйкозаноиды и др. [19]. Выявлено, что терапевтические эффекты кетогенной диеты опосредуются PPARs [20]. Нейропротекторные свойства синтетических агонистов PPARs показаны в моделях различных нейропатологий, включая эпилепсию [21, 22]. Наибольшее число работ, выполненных на моделях эпилепсии, посвящено описанию защитных свойств агонистов PPARγ [23]. В частности, эти эффекты были показаны на модели острых судорог, индуцированных пентилентетразолом [23], и на модели хронической височной эпилепсии [24]. Защитное действие агонистов PPARγ при эпилепсии реализуется через подавление окислительного стресса и нейровоспаления [24, 25]. Значительно хуже в экспериментальных моделях эпилепсии исследованы свойства агонистов PPARs других типов – альфа и бета/дельта, несмотря на то, что они также показывают противовоспалительные свойства в других моделях нервных заболеваний [26].
В данной работе мы исследовали эффекты агониста PPAR β/δ кардарина (GW 501516) в хронической литий-пилокарпиновой модели височной эпилепсии у крыс. Данная модель по патофизиологическим, патоморфологическим, биохимическим и поведенческим показателям достаточно точно воспроизводит патологические процессы, наблюдающиеся при развитии височной эпилепсии у людей [27, 28]. В частности, после индукции патологического процесса (у человека – травма или другая патология, провоцирующая эпилептогенез, в модели – введение пилокарпина) сначала судороги не проявляются (латентный период), а затем развиваются спонтанные рецидивирующие судороги (хронический период). В проведенном исследовании мы оценили влияние введений кардарина в латентный период TLE модели на наблюдаемые в хронический период модели изменения экспрессии генов микроглиальных и астроглиальных белков, вовлеченных в регуляцию эпилептогенеза.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные
Работа выполнена на 7–8-недельных самцах крыс аутбредной линии Вистар, масса тела 110–210 г (среднее – 140.2 ± 27.7 г). Животных содержали в стандартных условиях по 4–6 крыс в клетке при 12-часовом световом цикле (ночь – с 8 вечера до 8 утра). На протяжении всего эксперимента животные имели свободный доступ к корму и воде.
Литий-пилокарпиновая модель и введение кардарина
Схема эксперимента представлена на рис. 1. Для моделирования височной эпилепсии (TLE) крысам внутрибрюшинно (в/б) вводили 127 мг/кг хлорида лития (LiCl, Sigma-Aldrich, США), что позволяло снизить дозу пилокарпина и уменьшить смертность животных [29]. 23 ч спустя крысам вводили (–) скополамин метилбромид (в/б, 1 мг/кг, Sigma-Aldrich) для предотвращения периферических эффектов пилокарпина и через 1 ч – агонист мускариновых рецепторов пилокарпин (в/б, Sigma-Aldrich). Пилокарпин вводили поэтапно по 10 мг/кг каждые 30 мин до развития 4-й стадии судорог (rearing) по модифицированной шкале Racine [30]. Суммарная доза пилокарпина составляла 20–40 мг/кг. Крысы, у которых после четвертой инъекции (40 мг/кг) судороги не развились, были исключены из эксперимента. Судороги останавливали через 90 мин введением диазепама (в/б, 10 мг/кг, Sigma-Aldrich). Контрольным животным вводили раствор LiCl. Ранее нами было показано, что подобная схема индукции модели вызывает развитие TLE у большинства экспериментальных животных [8].
Рис. 1. Схема эксперимента. Cntr+Veh – контрольная группа без введения кардарина; TLE+Veh – экспериментальная группа без введения кардарина; Cntr+GW – контрольная группа с введением кардарина; TLE+GW – экспериментальная группа с введением кардарина. На срезе мозга представлена схема выделения дорзального гиппокампа.
Далее крысы случайным образом были разделены на 4 группы (всего 47 животных): 1) контрольная нелеченая группа крыс (Cntr+Veh; n = 6), которым вводился растворитель (1 мл/кг диметилсульфоксид, DMSO, в/б); 2) экспериментальная группа без терапии – крысы, которым вводили пилокарпин с растворителем (TLE+Veh; n = 7); 3) контрольные животные с введением кардарина (GW 501516; 2.5 мг/кг, в/б), растворенного в DMSO (Cntr+GW; n = 7); 4) экспериментальная группа с лечением (TLE+GW; n = 7). DMSO использовался в качестве растворителя, поскольку кардарин нерастворим в воде. Кардарин вводили 1 раз в день в указанной дозе в течение первой экспериментальной недели. Первая инъекция была сделана через сутки после введения пилокарпина. Указано число выживших животных, использованных для биохимического анализа. Немногим более 30% леченых и нелеченых крыс, которым вводили пилокарпин, погибли в процессе эксперимента. Кардарин не влиял на выживаемость животных. Для улучшения выживаемости в первые дни после введения пилокарпина экспериментальные крысы получали специальный уход: их кормили влажным кормом (фрукты, каши). Животным, которые сильно теряли вес, вводили внутримышечно 15%-ный раствор глюкозы.
Обратная транскрипция с последующей полимеразной цепной реакцией
Через 120 дней после индукции TLE животных декапитировали. Мозг быстро извлекали и замораживали при температуре –80 °C. Выделение ткани мозга производили на срезах, сделанных на замораживающем микротоме OTF5000 (Bright Instruments, Лутон, Великобритания) при температуре –20 °C. Дорзальную область гиппокампа (рис. 1) выделяли согласно атласу мозга крыс [31]. Гиппокамп был выбран для анализа как структура, играющая ключевую роль в развитии TLE [32]. Схема выделения представлена на рис. 1. Тотальную РНК выделяли с использованием реагента ExtractRNA (Evrogen, Москва, Россия) в соответствии с инструкциями производителя. Концентрацию и чистоту РНК определяли с помощью спектрофотометра NanoDrop™ Lite (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США) на основе поглощения при 260 нм и соотношении поглощения при 260/280 нм соответственно.
Далее проводили обратную транскрипцию. Для синтеза кДНК мы использовали 1 мкг тотальной РНК, олиго-dT (0.5 мкг на 1 мкг РНК) и 9-мерные случайные праймеры (0.25 мкг на 1 мкг РНК, ООО "Синтез ДНК", Москва, Россия), 100 единиц обратной транскриптазы M–MLV (Evrogen) в соответствии с протоколом производителя. Реакцию проводили в общем объеме 20 мкл. Полученную кДНК разводили в 10 раз перед проведением ПЦР.
ПЦР проводили с использованием технологии TaqMan на термоциклере C1000 Touch в сочетании с CFX384 Touch™ (Bio-Rad, Геркулес, Калифорния, США) в общем объеме 6 мкл с 0.8 мкл кДНК, 0.5 единиц Taq M-полимеразы (Alkor Bio, Санкт-Петербург, Россия), 3.5 мМ MgCl2 и специфическими прямыми и обратными праймерами и зондами. Последовательности праймеров и зондов, а также полные названия генов приведены в табл. 1, они были изготовлены ООО "ДНК-Синтез". Все пробы были проанализированы в 3 повторах.
В работе анализировали мРНК генов белков, уровень экспрессии которых изменяется в эпилептогенезе (см. ссылки далее): 1) маркеров активации астроглиальных (Gfap) [33] и микроглиальных (Aif1) [34] клеток; 2) провоспалительных (Il1b, Nlrp3, Tnfa) и противовоспалительных (Il1rn) белков [3, 35]; 3) маркеров провоспалительного (А1) (Lcn2, Ptx3) и нейропротекторного фенотипа (А2) астроглии (S100a10, Gbp2) [12, 36]; маркеров провоспалительного М1 (Nos2) [37] и противовоспалительного М2 (Arg1, Tgfb1) фенотипов микроглии [38, 39]; 4) нейротрофических факторов Fgf2 [40], Bdnf [40, 41], Gdnf [42]. Кроме того, мы оценили влияние кардарина на экспрессию генов PPARs (Ppara, Ppard, Pparg) [23, 26].
Относительная экспрессия генов интереса была рассчитана методом 2–∆∆Ct [43]. Нормализация данных была выполнена по среднему геометрическому значению для трех наиболее стабильных референсных генов, выбранных из 9 референсных генов (Actb, Gapdh, B2m, Rpl13a, Sdha, Ppia, Hprt1, Pgk1, Ywhaz). Референсные гены были отобраны на основе всестороннего ранжирования, полученного с помощью онлайн-инструмента RefFinder® (http://blooge.cn/RefFinder/) в соответствии с описанным ранее протоколом [44]. В проведенном исследовании для нормализации данных были использованы следующие референсные гены: Sdha, Gapdh и Ywhaz.
Таблица 1. Использованные последовательности праймеров и зондов
Ген | Последовательность праймеров и зондов 5′ → 3′ |
Actb (actin beta) NM_031144 [45] (праймеры) [44] (зонд) | TGTCACCAACTGGGACGATA GGGGTGTTGAAGGTCTCAAA FAM–CGTGTGGCCCCTGAGGAGCAC-BHQ1 |
Gapdh (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) NM_017008 [46] | TGCACCACCAACTGCTTAG GGATGCAGGGATGATGTTC R6G-ATCACGCCACAGCTTTCCAGAGGG-BHQ2 |
B2m (beta-2-microglobulin) NM_012512 [47] | TGCCATTCAGAAAACTCCCC GAGGAAGTTGGGCTTCCCATT ROX-ATTCAAGTGTACTCTCGCCATCCACCG-BHQ1 |
Rpl13a (ribosomal protein L13a) NM_173340 [48] (праймеры) [44] (зонд) | GGATCCCTCCACCCTATGACA CTGGTACTTCCACCCGACCTC FAM–CTGCCCTCAAGGTTGTGCGGCT-BHQ1 |
Sdha (succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A) NM_130428 [49] (праймеры) [44] (зонд) | AGACGTTTGACAGGGGAATG TCATCAATCCGCACCTTGTA R6G-ACCTGGTGGAGACGCTGGAGCT-BHQ2 |
Ppia (peptidylprolyl isomerase A) NM_017101 [44] | AGGATTCATGTGCCAGGGTG CTCAGTCTTGGCAGTGCAGA ROX–CACGCCATAATGGCACTGGTGGCA-BHQ1 |
Hprt1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) NM_012583 [48] (праймеры) [44] (зонд) | TCCTCAGACCGCTTTTCCCGC TCATCATCACTAATCACGACGCTGG FAM–CCGACCGGTTCTGTCATGTCGACCCT-BHQ1 |
Pgk1 (phosphoglycerate kinase 1) NM_053291 [50] (праймеры) [44] (зонд) | ATGCAAAGACTGGCCAAGCTAC AGCCACAGCCTCAGCATATTTC R6G-TGCTGGCTGGATGGGCTTGGA-BHQ2 |
Ywhaz (tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zet) NM_013011 [50] (праймеры) [44] (зонд) | GATGAAGCCATTGCTGAACTTG GTCTCCTTGGGTATCCGATGTC ROX-TGAAGAGTCGTACAAAGACAGCACGC-BHQ1 |
Il1b (interleukin 1 beta) NM_031512 [51] | CACCTCTCAAGCAGAGCACAG GGGTTCCATGGTGAAGTCAAC FAM-TGTCCCGACCATTGCTGTTTCCTAG-BHQ1 |
Aif1 (allograft inflammatory factor 1) NM_017196.3 [51] | CAACACACTGCAGCCTCATC AAGCTTTTCCTCCCTGCAAA Cy5-CCCCACCTAAGGCCACCAGCGTCTGA-BHQ3 |
Gfap (glial fibrillary acidic protein) NM_017009.2 [52] | TGGCCACCAGTAACATGCAA CAGTTGGCGGCGATAGTCAT HEX–CGGTCCAAGTTTGCAGACCTCACAG-BHQ2 |
Il1rn (interleukin 1 receptor antagonist) NM_022194.2 [52] | GGGGACCTTACAGTCACCTAAT GGTTAGTATCCCAGATTCTGAAGG ROX-AGTCAGCTGGCCACCCTGCTGGGA-BHQ2 |
Nlrp3 (NLR family pyrin domain containing 3) NM_001191642 | CAGACCCTCATGTTGCCTGT AGACCTCGGCAGAAGCTAGA FAM–CCAGACTGGTGAACTGCTGCCTCA-BHQ1 |
Lcn2 (lipocalin 2) NM_130741.1 | AGCTACGATGTGCAAGTGGC CCCCTTGGTTCTTCCGTACA FAM–CGACACTGACTACGACCAGTTTGCCA-BHQ1 |
Arg1 (arginase 1) NM_017134.3 [53] (праймеры) | AGCTGGGAATTGGCAAAGTG AACTCAGGTGAATGGGCCTT HEX-TGGAAGAGACCTTCAGCTACCTGC-BHQ2 |
S100a10 (S100 calcium binding protein A10) NM_031114.1 | CATTTCACAGGTTTGCAGGGG GCACTGGTCCAGGTCTTTCA Cy5-AGGACCCTCTGGCTGTGGACA-BHQ3 |
Ptx3 (pentraxin 3) NM_001109536.2 | AAACTTCGCCTCTCCAGCAA CATGGTGTGGGGTCCTCG HEX-TGCTCTCTGGTCTGCAGTGTTGGC-BHQ2 |
Gbp2 (guanylate binding protein 2) NM_133624.2 | AGTCAATGGGCCACGTCTAA AGTGGGTGATGGCCTTTTGT HEX-AGCAGTGGGTCTCTCCCCTGCA-BHQ2 |
Nos2 (nitric oxide synthase 2) NM_012611.3 [54] | CAGAAGCAGAATGTGACCATCAT CGGAGGGACCAGCCAAATC ROX–CCACCACACAGCCTCAGAGTCCTT-BHQ2 |
Ppara (peroxisome proliferator activated receptor alpha) NM_013196.2 [55] (праймеры) [52] (зонд) | AATCCACGAAGCCTACCTGA GTCTTCTCAGCCATGCACAA FAM-AGGCCCGGGTCATACTCGCAGGAA-BHQ1 |
Ppard (peroxisome proliferator activated receptor delta) NM_013141.2 [52] | CAAACCCACGGTAAAGGCGG TGGCTGTTCCATGACTGACC HEX–CCAGGCCTGCAGGCGCCACGCCA-BHQ2 |
Pparg (peroxisome proliferator activated receptor gamma) NM_013124.3 [56] (праймеры) [52] (зонд) | CCTGAAGCTCCAAGAATACC GATGCTTTATCCCCACAGAC HEX–CCCTCATGGCCATCGAGTGCC-BHQ2 |
Gdnf (glial cell derived neurotrophic factor) NM_019139.2 | GACCGGATCCGAGGTGC GCGCTTCGAGAAGCCTCTTA HEX-TGCCTTCCCGCTGCCCGCCG-BHQ2 |
Bdnf (brain derived neurotrophic factor) NM_001270630.1 | CCATAAGGACGCGGACTTGTAC GAGGAGGCTCCAAAGGCACTT ROX–CTTCCCGGGTGATGCTCAGCAGT-BHQ2 |
Fgf2 (fibroblast growth factor 2) NM_019305.2 | AGCGGCTCTACTGCAAGAAC TGGAGCTGTAGTTTGACGTGT R6G-AGACGGCCGCGTGGACGGCGTCCG-BHQ2 |
Статистическая обработка результатов
Статистический анализ проводился с использованием программ SPSS Statistics 23 (IBM, США) и GraphPad Prism (GraphPad Software, США). Выбросы определяли с помощью квартильного метода. Для проверки нормальности распределений использовали критерий Колмогорова – Смирнова. Однородность дисперсии оценивали по методу Ливиня. Для данных с нормальным распределением использовался двухфакторный ANOVA (модель х лечение) с апостериорным тестом множественных сравнений Сидака, для ненормально распределенных данных и для групп с большой разницей в дисперсиях – тест Крускала – Уоллиса с последующим апостериорным тестом множественных сравнений Данна. Данные на графиках представлены в виде среднего и стандартных ошибок (в случае нормального распределения данных) либо в виде медианы и квартилей (для ненормально распределенных данных). Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку эпилептогенез сопровождается астро- и микроглиозом, связанными с развитием спонтанных рецидивирующих судорог [57], мы оценили экспрессию генов маркеров активации астроцитов (Gfap) и микроглии (Aif1) у леченых и нелеченых TLE крыс. Показано, что экспрессия названных генов резко возрастает в процессе формирования TLE (p < 0.001). Кардарин не оказывал влияния на экспрессию этих генов (рис. 2), аналогичные изменения наблюдались как у леченых, так и нелеченых крыс.
Рис. 2. Относительная экспрессия генов маркера активации астроцитов Gfap (a) и микроглиальных клеток Aif1 (b) в дорзальном гиппокампе экспериментальных и контрольных крыс; * р < 0.05, двухфакторный ANOVA (модель х лечение) с апостериорным тестом множественных сравнений Сидака или непараметрический аналог ANOVA тест Крускала – Уоллиса с апостериорным тестом множественных сравнений Данна.
Учитывая важную роль нейровоспаления в развитии эпилептических процессов [3], мы также оценили экспрессию генов провоспалительных и противовоспалительных белков в гиппокампе экспериментальных животных. TLE крысы отличались повышенной экспрессией провоспалительных генов Il1b (seizure – F1,19 = 9.23; p < 0.01) и Nlrp3 (H = 14.37; p < 0.01) (рис. 3), однако апостериорные сравнения не выявили достоверного отличия леченых и нелеченых экспериментальных крыс от контроля по показателям экспрессии гена Il1b. По уровню мРНК Nlrp3 достоверные различия между контрольными и TLE крысами обнаружены только в группах животных, которым вводили кардарин (p < 0.01). Экспрессия провоспалительного гена Tnfa достоверно не изменялась ни в одной из групп (рис. 3). Продукция мРНК гена противовоспалительного цитокина антагониста рецепторов интерлейкина-1 Il1rn усиливалась у TLE крыс (seizure – F1,23 = 20.55; p < 0.001). Эти изменения в равной степени отмечались как у леченых, так и нелеченых животных (рис. 3, p < 0.05).
Рис. 3. Относительная экспрессия генов провоспалительных белков Il1b (a), Nlrp3 (b), Tnfa (d) и противовоспалительного цитокина Il1rn (с) в дорзальном гиппокампе экспериментальных и контрольных крыс; * р < 0.05, ** p < 0.01, двухфакторный ANOVA (модель х лечение) с апостериорным тестом множественных сравнений Сидака или непараметрический аналог ANOVA тест Крускала – Уоллиса с апостериорным тестом множественных сравнений Данна.
Одним из основных вопросов, ответ на который мы хотели получить в настоящем исследовании, было изучение возможного влияния кардарина на поляризацию астро- и микроглии, поскольку ранее было показано, что эпилептогенез связан с увеличением доли глиальных клеток с провоспалительными A1 и M1 фенотипами [11]. Мы предполагали, что кардарин может обратить этот процесс, направив поляризацию в сторону защитных A2 и M2 фенотипов. Для решения этого вопроса мы провели анализ экспрессии генов маркерных белков, характерных соответственно для провоспалительных и защитных фенотипов астро- (рис. 4) и микроглии (рис. 5).
Рис. 4. Относительная экспрессия генов маркеров провоспалительного А1 фенотипа (a, b) и нейропротекторного фенотипа А2 (с, d) астроглии в дорзальном гиппокампе экспериментальных и контрольных крыс; * р < 0.05, ** p < 0.01, двухфакторный ANOVA (модель х лечение) с апостериорным тестом множественных сравнений Сидака.
Рис. 5. Относительная экспрессия генов маркеров провоспалительного М1 (a) и противовоспалительного М2 (b) фенотипа микроглии, а также их соотношение (c) в дорзальном гиппокампе экспериментальных и контрольных крыс. * р < 0.05 в двухфакторном ANOVA (модель х лечение) с апостериорным тестом множественных сравнений Сидака.
Нами показано, что экспрессия генов маркеров провоспалительного А1 фенотипа астроцитов Lcn2 и Gbp2 увеличивается у TLE крыс (соответственно F1,23 = 9.24; p < 0.01 и F1,23 = 20.89; p < 0.001). Эти изменения носили однонаправленный характер у леченых и нелеченых крыс, хотя для Lcn2 межгрупповые сравнения выявляют достоверные различия в группах животных, которым вводили кардарин, а для Gbp2 – в группах нелеченых крыс. Продукция мРНК белка защитного А2 фенотипа Ptx3 значимо не изменялась, а экспрессия гена другого маркера А2 S100a10 зависела как от TLE (F1,22 = 6.12; p = 0.02), так и от лечения кардарином (F1,22 = 11.56; p < 0.01), взаимодействие факторов (F1,22 = 5.55; p = 0.02). Максимальное увеличение экспрессии этого гена маркера А2 астроцитов отмечается у леченых TLE крыс.
Экспрессия гена маркера M1 микроглии Nos2 немного усиливалась у TLE крыс, однако различия не достигали статистической значимости (F1,22 = 3.20; p = 0.09, рис. 5). При этом TLE приводила к уменьшению продукции мРНК маркера защитного М2 фенотипа Arg1 (F1,22 = 5.40; p = 0.04). Известно, что в макрофагах и микроглии ферменты аргиназа (ген Arg1) и индуцибельная NO-синтаза (ген Nos2) конкурируют за субстрат L-аргинин, что может активировать внутриклеточные каскады, связанные с продукцией защитных (М2) или провоспалительных (M1) факторов [58]. Поэтому мы дополнительно проанализировали соотношение Arg1/Nos2 как показатель баланса нейропротекторных и повреждающих механизмов. Соотношение Arg1/Nos2 снижалось (F1,20 = 25.00; p < 0.001), что свидетельствует о превалировании активности М1 микроглии у TLE крыс. Кардарин значимо не влиял на эти изменения.
Далее мы исследовали экспрессию генов нескольких трофических факторов, вовлеченных в регуляцию эпилептогенеза – Bdnf, Gdnf и Fgf2 (рис. 6). Экспрессия Bdnf и Fgf2 увеличивалась у TLE животных (соответственно F1,21 = 12.52; p < 0.01 и F1,22 = 8.28; p < 0.01), при этом при межгрупповом сравнении достоверные отличия от контроля для Bdnf выявлены у нелеченых, а для Fgf2 – у леченых крыс.
Рис. 6. Относительная экспрессия генов нейротрофических факторов Bdnf (a), Gdnf (b) и Fgf2 (с) в дорзальном гиппокампе крыс; * р < 0.05; двухфакторный ANOVA (модель х лечение) с апостериорным тестом множественных сравнений Сидака.
Мы также исследовали, может ли введение кардарина повлиять на экспрессию генов PPARs у наших животных (рис. 7). Исследование показало, что TLE не влияла на экспрессию генов Ppard и Pparg. Экспрессия Ppara снижалась у TLE крыс (F1,22 = 5.16; p = 0.03), однако это снижение наблюдалось преимущественно в группе нелеченых крыс (апостериорные сравнения, критерий Тьюки, между Cntr+Veh и TLE+Veh группами – p = 0.07; между Cntr+GW и TLE+GW группами – p = 0.94). Достоверного влияния кардарина в использованной нами дозе и схеме введения на экспрессию генов PPARs не обнаружено.
Рис. 7. Относительная экспрессия генов PPARs: Ppara (a), Ppard (b), Pparg (c) в дорзальном гиппокампе крыс; двухфакторный ANOVA (модель х лечение).
Таким образом, проведенное исследование выявило, что экспрессия большинства исследованных генов (показателей активации микро- и астроглиальных клеток, маркеров нейровоспаления, M1, A1, M2, A2 фенотипов, ростовых факторов) изменяется в хроническую фазу литий-пилокарпиновой модели. Кардарин усиливал экспрессию генов Nlrp3, Lcn2, S100a10, Tgfb2 и Fgf2, а также ослаблял повышенную у TLE крыс экспрессию генов Gbp2, Bdnf.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной работе в литий-пилокарпиновой модели височной эпилепсии у крыс мы изучили изменения экспрессии в клетках гиппокампа генов астро- и микроглиальных белков, вовлеченных в регуляцию эпилептогенеза, а также оценили возможность предотвращения развития этих нарушений с помощью введения агониста PPAR бета/дельта кардарина. Доза и схема введения кардарина были подобраны в нашем предыдущем исследовании как эффективные для уменьшения TLE-индуцированных нарушений поведения [59].
Проведенное исследование выявило изменение экспрессии большого числа исследованных глиальных генов в хроническую фазу TLE модели. В частности, эпилептогенез был сопряжен с увеличением экспрессии генов маркеров активации астро- (Gfap) и микроглии (Aif1). Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) считается маркером реактивного астроглиоза [60], а воспалительный фактор аллотрансплантата 1 (AIF1) – маркером микроглиоза [61]. Гиппокампальный астро- и микроглиоз, также как и повышение экспрессии генов Gfap и Aif1, характерны для клиники TLE [62] и неоднократно были описаны в литий-пилокарпиновой модели [63]. Астро- и микроглиозис не только являются следствием эпилептогенеза, но и могут усиливать дальнейшее развитие эпилептических процессов [64]. Кардарин не влиял на TLE-индуцированное усиление экспрессии генов Gfap и Aif1.
Сам по себе факт активации микро- и астроглиальных клеток не позволяет судить об их свойствах, поскольку они могут находиться в различных функциональных состояниях (фенотипах), полярными из которых являются соответственно провоспалительные M1 и A1 и защитные М2 и А2 фенотипы, хотя и существует целый ряд промежуточных состояний, и клетки могут переходить от одного фенотипа к другому [12, 65]. Препараты, способные усилить поляризацию в сторону защитных фенотипов, рассматриваются как перспективные для лечения различных нервных заболеваний, патогенез которых связан с нейровоспалением [86–88]. Такими свойствами могут обладать агонисты PPARs. На культуре микроглиальных клеток, стимулированных бактериальным эндотоксином (что усиливает М1 поляризацию), было показано, что добавление в культуральную среду агониста PPARγ росиглитазона способствует сдвигу от M1 к M2 фенотипу. Этот эффект был связан с улучшением аутофагии через активацию сигнального пути LKB1/AMPK [14].
Нейровоспаление играет ключевую роль в эпилептогенезе [3, 66]. Однако в моделях эпилепсии способность агонистов PPARs влиять на поляризацию глиальных клеток ранее не изучалась. В данной работе мы исследовали влияние агониста PPAR бета/дельта на экспрессию про- и противовоспалительных генов, а также генов маркеров A1/A2 и M1/M2 фенотипов в литий-пилокарпиновой модели TLE.
Нами показано, что в хроническую фазу TLE модели у животных имеет место развитие воспалительных процессов – усиливается экспрессия гена провоспалительного цитокина интерлейкина 1 бета (Il1b), основного компонента инфламмасом (Nlrp3), маркеров астроцитарного A1 фенотипа липокалина (Lcn2) и интерферон-индуцированного гуанилат-связывающего белка 2 (Gbp2). Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении маркера микроглиального фенотипа М1 индуцибельной NO-синтазы (Nos2), что наряду с увеличением соотношения Nos2/Arg1 свидетельствует о сдвиге M1/M2 поляризации в сторону провоспалительного M1 фенотипа. Эти изменения наблюдались как у леченых, так и у нелеченых животных. Полученные результаты хорошо согласуются с данными, полученными ранее нами [3, 52], и с данными других авторов [36, 67], выявившими усиление экспрессии провоспалительных генов Il1b, Nlrp3 и Lcn2 при эпилептогенезе. Кардарин незначительно усиливал экспрессию генов Nlrp3 и Lcn2, но ослаблял повышенную экспрессию гена Gbp2 и не влиял на TLE-индуцированное усиление экспрессии гена Il1b, поэтому мы не можем сделать однозначный вывод о влиянии кардарина на экспрессию провоспалительных генов и генов – маркеров провоспалительных фенотипов. Ранее противовоспалительные свойства кардарина были продемонстрированы на культуре клеток эмбрионального мозга крыс, стимулированных бактериальным липополисахаридом [68]. Отсутствие выраженного действия кардарина на экспрессию провоспалительных генов в нашем исследовании может быть связано с тем, что мы использовали другую экспериментальную модель, изучали отсроченные эффекты лечения, использовали животных другого возраста и более низкую дозу препарата. При этом следует отметить, что Gbp2 не только является маркером A1 астроцитов, но он также повышает апоптоз нейронов в патологических условиях [69], поэтому вызванное кардарином ослабление экспрессии гена Gbp2 может играть положительную роль для предотвращения TLE-индуцированной гибели нервных клеток.
В отличие от генов – маркеров провоспалительных A1 и M1 фенотипов, экспрессия которых усиливалась в хроническую фазу TLE модели, экспрессия генов защитных белков A2 и M2 фенотипов у экспериментальных крыс менялась разнонаправленно: продукция мРНК аргиназы 1 (Arg1, маркер М2) снижалась, экспрессия гена пентраксина 3 (Ptx3, маркер A2) значимо не изменялась, а экспрессия гена противовоспалительного цитокина антагониста рецепторов IL-1 (Il1rn) увеличивалась в гиппокампе как леченых, так и нелеченых TLE крыс. Усиление экспрессии гена Il1rn в гиппокампе крыс в хроническую фазу литий-пилокарпиновой модели ранее было показано [52]. Экспрессия генов Arg1 и Ptx3 в литий-пилокарпиновой модели исследована впервые.
Наиболее яркие эффекты кардарина показаны в отношении экспрессии гена маркера А2 фенотипа S100a10, она увеличивалась только у леченых животных. Ранее усиление экспрессии гена S100a10 было выявлено в гиппокампе крыс в каинатной модели височной эпилепсии [70]. Данный белок традиционно рассматривается как маркер A2 астроцитов [71], хотя его экспрессия также обнаружена в некоторых других клетках мозга [72]. Белок S100A10 в комплексе с аннексином A2 вовлечен в организацию липидных микродоменов на клеточной мембране, он участвует в связывании актиновых филаментов и каркасов цитоскелета, в мембранном транспорте и фибринолизе [73, 74], что объясняет его вовлеченность в нейрорепаративные процессы. Однако в наибольшей степени функции S100A10 в мозге обсуждаются в связи с его возможной ролью в патогенезе депрессивных расстройств [75]: нехватка этого белка вызывает депрессивно-подобное поведение, а лечение антидепрессантами усиливает экспрессию гена S100a10 в гиппокампе [75]. В недавно проведенном исследовании нами были выявлены анксиолитические эффекты кардарина в литий-пилокарпиновой модели эпилепсии [59]. Возможно, хотя бы частично эти эффекты опосредуются усилением экспрессии гена S100a10.
Нами также была исследована экспрессия генов трех ростовых факторов – BDNF, FGF2 и GDNF, продуцируемых микро- и астроглиальными клетками [76–78] и вовлеченных в регуляцию эпилептогенеза. В данном исследовании нами показано, что экспрессия генов Bdnf и Fgf2 увеличивается у TLE крыс, а экспрессия гена Gdnf не изменяется. Ранее усиление экспрессии гена Bdnf было показано в височных областях мозга пациентов с эпилепсией [79] и гиппокампе экспериментальных животных в пилокарпиновой модели эпилепсии [80]. Роль BDNF при эпилептогенезе в настоящее время активно дискутируется [81]. С одной стороны, связываясь с мембранным рецептором тирозинкиназы B (TrkB), он запускает серию каскадных реакций, которые приводят: 1) к фосфорилированию и активации циклического аденозинмонофосфат-связывающего белка (CREB), который опосредует транскрипцию генов, связанных с дифференцировкой нейронов и их выживанием [82]; 2) к снижению возбудимости пирамидных нейронов энторинальной коры [83]. Эти эффекты BDNF препятствуют эпилептогенезу. С другой стороны, BDNF может способствовать развитию эпилептических процессов. Показано, что внутригиппокампальное введение BDNF может индуцировать судороги, вероятно, за счет стимуляции прорастания мшистых волокон (важный патогенетический механизм эпилепсии [84]). В целом предполагается [81], что в физиологических концентрациях BDNF способствует выживанию нейронов, однако избыточная экспрессия BDNF может значительно повышать возбудимость нейронов и увеличивать восприимчивость к эпилепсии. В нашем исследовании TLE приводила к многократному усилению экспрессии гена Bdnf в клетках гиппокампа, кардарин ослаблял эти нарушения, что, вероятно, можно рассматривать как антиэпилептогенный эффект.
Нейротрофический фактор глиальной клеточной линии (GDNF) является мощным фактором выживания для некоторых типов нейронов. Повышение уровня GDNF путем инъекций в гиппокамп вирусных агентов, продуцирующих этот белок, снижает выраженность судорог в экспериментальных моделях эпилепсии [85]. Ранее было показано усиление экспрессии гена Gdnf в гиппокампе крыс в первые часы после судорог, индуцированных введением каиновой кислоты [86] либо пилокарпина [87]. Возможно, что усиление экспрессии этого гена отражает запуск защитных систем мозга на ранних этапах эпилептогенеза. В проведенном нами эксперименте мы не наблюдали усиления экспрессии гена Gdnf в хроническую фазу литий-пилокарпиновой модели височной эпилепсии.
Мы показали также, что у животных с TLE в дорзальном гиппокампе возрастает экспрессия гена Fgf2, и этот эффект сильнее выражен у крыс, которым вводили кардарин. FGF2 является многофункциональным фактором роста, вовлеченным в регуляцию процессов нейрогенеза, нейровоспаления и синаптической пластичности [88], нарушенной при эпилептогенезе [89]. Нейропротекторные и регенеративные свойства FGF2 показаны на многих моделях нервных заболеваний [88]. Экспрессия гена Fgf2 в гиппокампе возрастает во многих моделях острых судорог и эпилепсии [90]. Так же как и BDNF, FGF2 может оказывать разнонаправленное действие на развитие эпилептических процессов, с одной стороны, усиливая процессы возбуждения, с другой – предотвращая гибель нейронов [90]. В частности, было показано, что внутримозговое введение фармакологических доз FGF2 провоцирует иктальную активность в нейронах гиппокампа [91]. Однако хроническое введение низких доз FGF2 не изменяет тяжесть каинат-индуцированных судорог, но предотвращает связанную с ними гибель нейронов в гиппокампе [92], а также блокирует развитие поведенческих нарушений в данной модели эпилепсии [91]. В нашем исследовании отмечается относительно небольшое увеличение экспрессии гена Fgf2, незначительно усиленное кардарином. Ранее нами показано, что кардарин ослабляет поведенческие нарушений в TLE модели [59]. Эти факты позволяют рассматривать повышение экспрессии гена Fgf2 в нашем эксперименте скорее как нейропротекторный эффект.
В проведенном нами исследовании впервые показано, что при развитии TLE в дорзальном гиппокампе крыс снижается экспрессия гена Ppara. Ранее было показано, что агонисты PPARα ослабляют развитие нейровоспаления в различных экспериментальных моделях [93, 94]. Также выявлено, что активация PPARα снижает выраженность никотин-индуцированных судорог у крыс [95] и уменьшает частоту приступов у пациентов с фармакорезистентной ночной лобной эпилепсией [96]. Поэтому выявленное нами уменьшение экспрессии гена Ppara свидетельствует о подавлении естественных нейропротекторных механизмов у крыс с TLE.
В целом проведенное нами исследование выявило изменение активности астро- и микроглии в процессе эпилептогенеза, в основном связанное с усилением нейровоспалительных процессов и ослаблением нейропротекторных свойств этих клеток. Влияние кардарина на эти нарушения было умеренным, основной его эффект проявился в усилении экспрессии гена защитного маркера A2 астроцитов S100a10.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Планирование работы и экспериментов (О.Е.З.), проведение экспериментов и сбор данных (А.Р.Х., А.И.Р.), обработка данных (А.Р.Х., А.И.Р.), написание и редактирование манускрипта (О.Е.З., А.Р.Х.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств Российского научного фонда (проект № 23–25–00480). Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все эксперименты, проводимые с животными, были согласованы и утверждены комиссией по биоэтике ИЭФБ РАН (Протокол № 1–16 / 2023 заседания № 1 комиссии по биоэтике ИЭФБ РАН от 26.01.2023 г.). Все эксперименты проводятся в соответствии с Руководством по обращению с лабораторными животными, действующими в Институте эволюционной физиологии и биохимии. Это руководство соответствует Директиве ЕС 2010/63/ЕС об экспериментах на животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы этой работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
А. Р. Харисова
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
Email: ZubarevaOE@mail.ru
Россия, Санкт-Петербург
А. И. Рогинская
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
Email: ZubarevaOE@mail.ru
Россия, Санкт-Петербург
О. Е. Зубарева
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: ZubarevaOE@mail.ru
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- Fiest KM, Sauro KM, Wiebe S, Patten SB, Kwon C-S, Dykeman J, Pringsheim T, Lorenzetti DL, Jetté N (2017) Prevalence and incidence of epilepsy. Neurology 88: 296–303. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003509
- Löscher W, Klitgaard H, Twyman RE, Schmidt D (2013) New avenues for anti-epileptic drug discovery and development. Nat Rev Drug Discov 12: 757–776. https://doi.org/10.1038/nrd4126
- Soltani Khaboushan A, Yazdanpanah N, Rezaei N (2022) Neuroinflammation and Proinflammatory Cytokines in Epileptogenesis. Mol Neurobiol 59: 1724–1743. https://doi.org/10.1007/s12035–022–02725–6
- Chen B, Choi H, Hirsch LJ, Katz A, Legge A, Buchsbaum R, Detyniecki K (2017) Psychiatric and behavioral side effects of antiepileptic drugs in adults with epilepsy. Epilepsy Behav 76: 24–31. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.08.039
- Akyuz E, Polat AK, Eroglu E, Kullu I, Angelopoulou E, Paudel YN (2021) Revisiting the role of neurotransmitters in epilepsy: An updated review. Life Sci 265: 118826. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118826
- Boison D, Steinhäuser C (2018) Epilepsy and astrocyte energy metabolism. Glia 66: 1235–1243. https://doi.org/10.1002/glia.23247
- Pracucci E, Pillai V, Lamers D, Parra R, Landi S (2021) Neuroinflammation: A Signature or a Cause of Epilepsy? Int J Mol Sci 22: 6981. https://doi.org/10.3390/ijms22136981
- Dyomina AV, Zubareva OE, Smolensky IV, Vasilev DS, Zakharova MV, Kovalenko AA, Schwarz AP, Ischenko AM, Zaitsev AV (2020) Anakinra Reduces Epileptogenesis, Provides Neuroprotection, and Attenuates Behavioral Impairments in Rats in the Lithium-Pilocarpine Model of Epilepsy. Pharmaceuticals (Basel) 13: 340. https://doi.org/10.3390/ph13110340
- Dubé C, Vezzani A, Behrens M, Bartfai T, Baram TZ (2005) Interleukin-1beta contributes to the generation of experimental febrile seizures. Ann Neurol 57: 152–155. https://doi.org/10.1002/ana.20358
- Kwon HS, Koh S-H (2020) Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes. Transl Neurodegener 9: 42. https://doi.org/10.1186/s40035–020–00221–2
- Deng X-L, Feng L, Wang Z-X, Zhao Y-E, Zhan Q, Wu X-M, Xiao B, Shu Y (2020) The Runx1/Notch1 Signaling Pathway Participates in M1/M2 Microglia Polarization in a Mouse Model of Temporal Lobe Epilepsy and in BV-2 Cells. Neurochem Res 45: 2204–2216. https://doi.org/10.1007/s11064–020–03082–3
- Fan Y-Y, Huo J (2021) A1/A2 astrocytes in central nervous system injuries and diseases: Angels or devils? Neurochem Int 148: 105080. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105080
- Hong F, Pan S, Guo Y, Xu P, Zhai Y (2019) PPARs as Nuclear Receptors for Nutrient and Energy Metabolism. Molecules 24: 2545. https://doi.org/10.3390/molecules24142545
- Ji J, Xue T-F, Guo X-D, Yang J, Guo R-B, Wang J, Huang J-Y, Zhao X-J, Sun X-L (2018) Antagonizing peroxisome proliferator-activated receptor γ facilitates M1-to-M2 shift of microglia by enhancing autophagy via the LKB1-AMPK signaling pathway. Aging Cell 17: e12774. https://doi.org/10.1111/acel.12774
- Krémarik-Bouillaud P, Schohn H, Dauça M (2000) Regional distribution of PPARβ in the cerebellum of the rat. J Chem Neuroanat 19: 225–232. https://doi.org/10.1016/S0891–0618(00)00065-X
- Granneman J, Skoff R, Yang X (1998) Member of the peroxisome proliferator-activated receptor family of transcription factors is differentially expressed by oligodendrocytes. J Neurosci Res 51: 563–573. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097–4547(19980301)51:5<563:: AID-JNR3>3.0.CO;2-D
- Bernardo A, Ajmone-Cat MA, Levi G, Minghetti L (2003) 15-deoxy-delta12,14-prostaglandin J2 regulates the functional state and the survival of microglial cells through multiple molecular mechanisms. J Neurochem 87: 742–751. https://doi.org/10.1046/j.1471–4159.2003.02045.x
- Cristiano L, Bernardo A, Cerù MP (2001) Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) and peroxisomes in rat cortical and cerebellar astrocytes. J Neurocytol 30: 671–683. https://doi.org/10.1023/A:1016525716209
- Grygiel-Górniak B (2014) Peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands: nutritional and clinical implications – a review. Nutr J 13: 17. https://doi.org/10.1186/1475–2891–13–17
- Knowles S, Budney S, Deodhar M, Matthews SA, Simeone KA, Simeone TA (2018) Ketogenic diet regulates the antioxidant catalase via the transcription factor PPARγ2. Epilepsy Res 147: 71–74. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2018.09.009
- Senn L, Costa A-M, Avallone R, Socała K, Wlaź P, Biagini G (2023) Is the peroxisome proliferator-activated receptor gamma a putative target for epilepsy treatment? Current evidence and future perspectives. Pharmacol Ther 241: 108316. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2022.108316
- Pérez-Segura I, Santiago-Balmaseda A, Rodríguez-Hernández LD, Morales-Martínez A, Martínez-Becerril HA, Martínez-Gómez PA, Delgado-Minjares KM, Salinas-Lara C, Martínez-Dávila IA, Guerra-Crespo M, Pérez-Severiano F, Soto-Rojas LO (2023) PPARs and Their Neuroprotective Effects in Parkinson’s Disease: A Novel Therapeutic Approach in α-Synucleinopathy? Int J Mol Sci 24: 3264. https://doi.org/10.3390/ijms24043264
- Adabi Mohazab R, Javadi-Paydar M, Delfan B, Dehpour AR (2012) Possible involvement of PPAR-gamma receptor and nitric oxide pathway in the anticonvulsant effect of acute pioglitazone on pentylenetetrazole-induced seizures in mice. Epilepsy Res 101: 28–35. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2012.02.015
- Yu X, Shao X-G, Sun H, Li Y-N, Yang J, Deng Y-C, Huang Y-G (2008) Activation of cerebral peroxisome proliferator-activated receptors gamma exerts neuroprotection by inhibiting oxidative stress following pilocarpine-induced status epilepticus. Brain Res 1200: 146–158. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2008.01.047
- Peng J, Wang K, Xiang W, Li Y, Hao Y, Guan Y (2019) Rosiglitazone polarizes microglia and protects against pilocarpine-induced status epilepticus. CNS Neurosci Ther 25: 1363–1372. https://doi.org/10.1111/cns.13265
- Tang X, Yan K, Wang Y, Wang Y, Chen H, Xu J, Lu Y, Wang X, Liang J, Zhang X (2020) Activation of PPAR-β/δ Attenuates Brain Injury by Suppressing Inflammation and Apoptosis in a Collagenase-Induced Intracerebral Hemorrhage Mouse Model. Neurochem Res 45: 837–850. https://doi.org/10.1007/s11064–020–02956-w
- Ahmed Juvale II, Che Has AT (2020) The evolution of the pilocarpine animal model of status epilepticus. Heliyon 6: e04557. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04557
- Curia G, Lucchi C, Vinet J, Gualtieri F, Marinelli C, Torsello A, Costantino L, Biagini G (2014) Pathophysiogenesis of mesial temporal lobe epilepsy: is prevention of damage antiepileptogenic? Current Med Chem 21: 663–688. https://doi.org/10.2174/0929867320666131119152201
- Bojja SL, Singh N, Kolathur KK, Rao CM (2022) What is the Role of Lithium in Epilepsy? Curr Neuropharmacol 20: 1850–1864. https://doi.org/10.2174/1570159X20666220411081728
- Furtado MA, Castro OW, Vecchio FD, Oliveira JAC de, Garcia-Cairasco N (2011) Study of spontaneous recurrent seizures and morphological alterations after status epilepticus induced by intrahippocampal injection of pilocarpine. Epilepsy and Behavior 20: 257–266. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2010.11.024
- Paxinos G, Watson C (2007) The rat brain in stereotaxic coordinates. 6th ed. Elsevier/Acad Press. Amsterdam, Boston.
- Dubey V, Roy A, Dixit AB, Tripathi M, Pandey S, Jain S, Chandra PS, Banerjee J (2023) Dendritic reorganization in the hippocampus, anterior temporal lobe, and frontal neocortex of lithium-pilocarpine induced Status Epilepticus (SE). J Chem Neuroanat 133: 102329. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2023.102329
- Jurga AM, Paleczna M, Kadluczka J, Kuter KZ (2021) Beyond the GFAP-Astrocyte Protein Markers in the Brain. Biomolecules 11: 1361. https://doi.org/10.3390/biom11091361
- Jurga AM, Paleczna M, Kuter KZ (2020) Overview of General and Discriminating Markers of Differential Microglia Phenotypes. Front Cell Neurosci 14: 198. https://doi.org/10.3389/fncel.2020.00198
- Wu C, Zhang G, Chen L, Kim S, Yu J, Hu G, Chen J, Huang Y, Zheng G, Huang S (2019) The Role of NLRP3 and IL-1β in Refractory Epilepsy Brain Injury. Front Neurol 10: 1418. https://doi.org/10.3389/fneur.2019.01418
- Shin HJ, Jeong EA, Lee JY, An HS, Jang HM, Ahn YJ, Lee J, Kim KE, Roh GS (2021) Lipocalin-2 Deficiency Reduces Oxidative Stress and Neuroinflammation and Results in Attenuation of Kainic Acid-Induced Hippocampal Cell Death. Antioxidants 10: 100. https://doi.org/10.3390/antiox10010100
- Sharma S, Puttachary S, Thippeswamy T (2019) Glial source of nitric oxide in epileptogenesis: A target for disease modification in epilepsy. J Neurosci Res 97: 1363–1377. https://doi.org/10.1002/jnr.24205
- Munder M (2009) Arginase: an emerging key player in the mammalian immune system. Br J Pharmacol 158: 638–651. https://doi.org/10.1111/j.1476–5381.2009.00291.x
- Cherry JD, Olschowka JA, O’Banion MK (2014) Neuroinflammation and M2 microglia: the good, the bad, and the inflamed. J Neuroinflammat 11: 98. https://doi.org/10.1186/1742–2094–11–98
- Simonato M (2014) Gene therapy for epilepsy. Epilepsy Behav 38: 125–130. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.09.013
- AlRuwaili R, Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI, Ali NH, Alexiou A, Papadakis M, Saad HM, Batiha GE-S (2024) The Possible Role of Brain-derived Neurotrophic Factor in Epilepsy. Neurochem Res 49: 533–547. https://doi.org/10.1007/s11064–023–04064-x
- Chiavellini P, Canatelli-Mallat M, Lehmann M, Goya RG, Morel GR (2022) Therapeutic potential of glial cell line-derived neurotrophic factor and cell reprogramming for hippocampal-related neurological disorders. Neural Regen Res 17: 469–476. https://doi.org/10.4103/1673–5374.320966
- Livak KJ, Schmittgen TD (2001) Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2-ΔΔCT method. Methods 25: 402–408. https://doi.org/10.1006/meth.2001.1262
- Schwarz AP, Malygina DA, Kovalenko AA, Trofimov AN, Zaitsev AV (2020) Multiplex qPCR assay for assessment of reference gene expression stability in rat tissues/samples. Mol Cell Probes 53: 101611. https://doi.org/10.1016/j.mcp.2020.101611
- Bonefeld BE, Elfving B, Wegener G (2008) Reference genes for normalization: a study of rat brain tissue. Synapse 62: 302–309. https://doi.org/10.1002/syn.20496
- Lin W, Burks CA, Hansen DR, Kinnamon SC, Gilbertson TA (2004) Taste receptor cells express pH-sensitive leak K+ channels. J Neurophysiol 92: 2909–2919. https://doi.org/10.1152/jn.01198.2003
- Yamaguchi M, Yamauchi A, Nishimura M, Ueda N, Naito S (2005) Soybean oil fat emulsion prevents cytochrome P450 mRNA down-regulation induced by fat-free overdose total parenteral nutrition in infant rats. Biol Pharm Bull 28: 143–147. https://doi.org/10.1248/bpb.28.143
- Swijsen A, Nelissen K, Janssen D, Rigo J-M, Hoogland G (2012) Validation of reference genes for quantitative real-time PCR studies in the dentate gyrus after experimental febrile seizures. BMC Res Notes 5: 685. https://doi.org/10.1186/1756–0500–5–685
- Pohjanvirta R, Niittynen M, Lindén J, Boutros PC, Moffat ID, Okey AB (2006) Evaluation of various housekeeping genes for their applicability for normalization of mRNA expression in dioxin-treated rats. Chem Biol Interact 160: 134–149. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2006.01.001
- Langnaese K, John R, Schweizer H, Ebmeyer U, Keilhoff G (2008) Selection of reference genes for quantitative real-time PCR in a rat asphyxial cardiac arrest model. BMC Mol Biol 9: 53. https://doi.org/10.1186/1471–2199–9–53
- Rioja I, Bush KA, Buckton JB, Dickson MC, Life PF (2004) Joint cytokine quantification in two rodent arthritis models: kinetics of expression, correlation of mRNA and protein levels and response to prednisolone treatment. Clin Exp Immunol 137: 65–73. https://doi.org/10.1111/j.1365–2249.2004.02499.x
- Zubareva OE, Dyomina AV, Kovalenko AA, Roginskaya AI, Melik-Kasumov TB, Korneeva MA, Chuprina AV, Zhabinskaya AA, Kolyhan SA, Zakharova MV, Gryaznova MO, Zaitsev AV (2023) Beneficial Effects of Probiotic Bifidobacterium longum in a Lithium-Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy in Rats. Int J Mol Sci 24: 8451. https://doi.org/10.3390/ijms24098451
- Su J-C, Zhang Y, Cheng C, Zhu Y-N, Ye Y-M, Sun Y-K, Xiang S-Y, Wang Y, Liu Z-B, Zhang X-F (2021) Hydrogen regulates the M1/M2 polarization of alveolar macrophages in a rat model of chronic obstructive pulmonary disease. Exp Lung Res 47: 301–310. https://doi.org/10.1080/01902148.2021.1919788
- Sang N, Yun Y, Li H, Hou L, Han M, Li G (2010) SO2 inhalation contributes to the development and progression of ischemic stroke in the brain. Toxicol Sci 114: 226–236. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfq010
- Cernecka H, Doka G, Srankova J, Pivackova L, Malikova E, Galkova K, Kyselovic J, Krenek P, Klimas J (2016) Ramipril restores PPARβ/δ and PPARγ expressions and reduces cardiac NADPH oxidase but fails to restore cardiac function and accompanied myosin heavy chain ratio shift in severe anthracycline-induced cardiomyopathy in rat. Eur J Pharmacol 791: 244–253. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.08.040
- Chistyakov DV, Aleshin SE, Astakhova AA, Sergeeva MG, Reiser G (2015) Regulation of peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) α and -γ of rat brain astrocytes in the course of activation by toll-like receptor agonists. J Neurochem 134: 113–124. https://doi.org/10.1111/jnc.13101
- Johnson AM, Sugo E, Barreto D, Hiew C-C, Lawson JA, Connolly AM, Somerville E, Hasic E, Bye AM, Cunningham AM (2016) The Severity of Gliosis in Hippocampal Sclerosis Correlates with Pre-Operative Seizure Burden and Outcome After Temporal Lobectomy. Mol Neurobiol 53: 5446–5456. https://doi.org/10.1007/s12035–015–9465-y
- Rath M, Müller I, Kropf P, Closs EI, Munder M (2014) Metabolism via Arginase or Nitric Oxide Synthase: Two Competing Arginine Pathways in Macrophages. Front Immunol 5: 532. https://doi.org/10.3389/fimmu.2014.00532
- Subkhankulov MR, Sinyak DS, Guk VA, Postnikova TYu, Roginskaya AI, Zubareva OE (2024) Cardarin Effect on the Formation of Histopathological and Behavioral Abnormalities in the Lithium-Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy in Rats. J Evol Biochem Phys 60: 316–331. https://doi.org/10.1134/S002209302401023X
- Xu Z, Xue T, Zhang Z, Wang X, Xu P, Zhang J, Lei X, Li Y, Xie Y, Wang L, Fang M, Chen Y (2011) Role of signal transducer and activator of transcription-3 in up-regulation of GFAP after epilepsy. Neurochem Res 36: 2208–2215. https://doi.org/10.1007/s11064–011–0576–1
- Flores-Cuadrado A, Saiz-Sanchez D, Mohedano-Moriano A, Lamas-Cenjor E, Leon-Olmo V, Martinez-Marcos A, Ubeda-Bañon I (2021) Astrogliosis and sexually dimorphic neurodegeneration and microgliosis in the olfactory bulb in Parkinson’s disease. NPJ Parkinsons Dis 7: 11. https://doi.org/10.1038/s41531–020–00154–7
- Kandratavicius L, Peixoto-Santos JE, Monteiro MR, Scandiuzzi RC, Carlotti CG, Assirati JA, Hallak JE, Leite JP (2015) Mesial temporal lobe epilepsy with psychiatric comorbidities: a place for differential neuroinflammatory interplay. J Neuroinflammat 12: 38. https://doi.org/10.1186/s12974–015–0266-z
- Kyriatzis G, Bernard A, Bôle A, Khrestchatisky M, Ferhat L (2024) In the Rat Hippocampus, Pilocarpine-Induced Status Epilepticus Is Associated with Reactive Glia and Concomitant Increased Expression of CD31, PDGFRβ, and Collagen IV in Endothelial Cells and Pericytes of the Blood-Brain Barrier. Int J Mol Sci 25: 1693. https://doi.org/10.3390/ijms25031693
- Robel S, Sontheimer H (2016) Glia as drivers of abnormal neuronal activity. Nat Neurosci 19: 28–33. https://doi.org/10.1038/nn.4184
- Robel S (2017) Astroglial Scarring and Seizures: A Cell Biological Perspective on Epilepsy. Neuroscientist 23: 152–168. https://doi.org/10.1177/1073858416645498
- Rana A, Musto AE (2018) The role of inflammation in the development of epilepsy. J Neuroinflammat 15: 144. https://doi.org/10.1186/s12974–018–1192–7
- Pohlentz MS, Müller P, Cases-Cunillera S, Opitz T, Surges R, Hamed M, Vatter H, Schoch S, Becker AJ, Pitsch J (2022) Characterisation of NLRP3 pathway-related neuroinflammation in temporal lobe epilepsy. PLoS One 17: e0271995. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271995
- Defaux A, Zurich M-G, Braissant O, Honegger P, Monnet-Tschudi F (2009) Effects of the PPAR-beta agonist GW501516 in an in vitro model of brain inflammation and antibody-induced demyelination. J Neuroinflammat 6: 15. https://doi.org/10.1186/1742–2094–6–15
- Alese OO, Mabandla MV (2019) Upregulation of hippocampal synaptophysin, GFAP and mGluR3 in a pilocarpine rat model of epilepsy with history of prolonged febrile seizure. J Chem Neuroanat 100: 101659. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2019.101659
- Dahal A, Govindarajan K, Kar S (2023) Administration of Kainic Acid Differentially Alters Astrocyte Markers and Transiently Enhanced Phospho-tau Level in Adult Rat Hippocampus. Neuroscience 516: 27–41. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2023.02.010
- Fei X, Dou Y-N, Wang L, Wu X, Huan Y, Wu S, He X, Lv W, Wei J, Fei Z (2022) Homer1 promotes the conversion of A1 astrocytes to A2 astrocytes and improves the recovery of transgenic mice after intracerebral hemorrhage. J Neuroinflammat 19: 67. https://doi.org/10.1186/s12974–022–02428–8
- Milosevic A, Liebmann T, Knudsen M, Schintu N, Svenningsson P, Greengard P (2017) Cell- and region-specific expression of depression-related protein p11 (S100a10) in the brain. J Comp Neurol 525:955–975. https://doi.org/10.1002/cne.24113
- Ogweno G, Murungi E (2023) Evolving Paradigms in Laboratory Biomarkers of Fibrinolysis Phenotypes and Association with Post-Traumatic Vascular Thrombosis. In book: Advances in the Diagnosis and Management of Vascular Thrombosis. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.111678
- Okura G, Bharadwaj A, Waisman Dm (2023) Recent Advances in Molecular and Cellular Functions of S100A10. Biomolecules 13(10): 1450. https://doi.org/10.3390/biom13101450
- Svenningsson Per, Kim K, Warner-Schmidt J, Oh Y, Greengard P (2013) p11 and its role in depression and therapeutic responses to antidepressants. Nature Rev Neurosci 14(10): 673–680. https://doi.org/10.1038/nrn3564
- Yamagata K, Hakata K, Maeda A, Mochizuki C, Matsufuji H, Chino M, Yamori Y (2007) Adenosine induces expression of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) in primary rat astrocytes. Neurosci Res 59: 467–474. https://doi.org/10.1016/j.neures.2007.08.016
- Fahmy GH, Moftah MZ (2010) FGF-2 in Astroglial Cells During Vertebrate Spinal Cord Recovery. Front Cell Neurosci 4. https://doi.org/10.3389/fncel.2010.00129
- Ferrini F, De Koninck Y (2013) Microglia Control Neuronal Network Excitability via BDNF Signalling. Neural Plasticity 2013: e429815. https://doi.org/10.1155/2013/429815
- Martínez-Levy GA, Rocha L, Rodríguez-Pineda F, Alonso-Vanegas MA, Nani A, Buentello-García RM, Briones-Velasco M, San-Juan D, Cienfuegos J, Cruz-Fuentes CS (2018) Increased Expression of Brain-Derived Neurotrophic Factor Transcripts I and VI, cAMP Response Element Binding, and Glucocorticoid Receptor in the Cortex of Patients with Temporal Lobe Epilepsy. Mol Neurobiol 55: 3698–3708. https://doi.org/10.1007/s12035–017–0597–0
- Schmidt-Kastner R, Humpel C, Wetmore C, Olson L (1996) Cellular hybridization for BDNF, trkB, and NGF mRNAs and BDNF-immunoreactivity in rat forebrain after pilocarpine-induced status epilepticus. Exp Brain Res 107: 331–347. https://doi.org/10.1007/BF00230416
- Gliwińska A, Czubilińska-Łada J, Więckiewicz G, Świętochowska E, Badeński A, Dworak M, Szczepańska M (2023) The Role of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in Diagnosis and Treatment of Epilepsy, Depression, Schizophrenia, Anorexia Nervosa and Alzheimer’s Disease as Highly Drug-Resistant Diseases: A Narrative Review. Brain Sci 13: 163. https://doi.org/10.3390/brainsci13020163
- Cunha C, Brambilla R, Thomas KL (2010) A simple role for BDNF in learning and memory? Front Mol Neurosci 3: 1. https://doi.org/10.3389/neuro.02.001.2010
- Gibon J, Buckley SM, Unsain N, Kaartinen V, Séguéla P, Barker PA (2015) proBDNF and p75NTR Control Excitability and Persistent Firing of Cortical Pyramidal Neurons. J Neurosci 35: 9741–9753. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4655–14.2015
- Scharfman HE, Goodman JH, Sollas AL, Croll SD (2002) Spontaneous limbic seizures after intrahippocampal infusion of brain-derived neurotrophic factor. Exp Neurol 174: 201–214. https://doi.org/10.1006/exnr.2002.7869
- Kanter-Schlifke I, Georgievska B, Kirik D, Kokaia M (2007) Seizure suppression by GDNF gene therapy in animal models of epilepsy. Mol Ther 15: 1106–1113. https://doi.org/10.1038/sj.mt.6300148
- Humpel C, Hoffer B, Strömberg I, Bektesh S, Collins F, Olson L (1994) Neurons of the hippocampal formation express glial cell line-derived neurotrophic factor messenger RNA in response to kainate-induced excitation. Neuroscience 59: 791–795. https://doi.org/10.1016/0306–4522(94)90284–4
- Schmidt-Kastner R, Tomac A, Hoffer B, Bektesh S, Rosenzweig B, Olson L (1994) Glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) mRNA upregulation in striatum and cortical areas after pilocarpine-induced status epilepticus in rats. Brain Res Mol Brain Res 26: 325–330. https://doi.org/10.1016/0169–328x(94)90106–6
- Woodbury ME, Ikezu T (2014) Fibroblast growth factor-2 signaling in neurogenesis and neurodegeneration. J Neuroimmun Pharmacol 9: 92–101. https://doi.org/10.1007/s11481–013–9501–5
- Postnikova TY, Diespirov GP, Amakhin DV, Vylekzhanina EN, Soboleva EB, Zaitsev AV (2021) Impairments of Long-Term Synaptic Plasticity in the Hippocampus of Young Rats during the Latent Phase of the Lithium-Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy. Int J Mol Sci 22: 13355. https://doi.org/10.3390/ijms222413355
- Paradiso B, Zucchini S, Simonato M (2013) Implication of fibroblast growth factors in epileptogenesis-associated circuit rearrangements. Front Cell Neurosci 7: 152. https://doi.org/10.3389/fncel.2013.00152
- Liu Z, Holmes GL (1997) Basic fibroblast growth factor-induced seizures in rats. Neurosci Lett 233: 85–88. https://doi.org/10.1016/s0304–3940(97)00627–7
- Liu Z, D’Amore PA, Mikati M, Gatt A, Holmes GL (1993) Neuroprotective effect of chronic infusion of basic fibroblast growth factor on seizure-associated hippocampal damage. Brain Res 626: 335–338. https://doi.org/10.1016/0006–8993(93)90598-h
- Esmaeili MA, Yadav S, Gupta RKr, Waggoner GR, Deloach A, Calingasan NY, Beal MF, Kiaei M (2016) Preferential PPAR-α activation reduces neuroinflammation, and blocks neurodegeneration in vivo. Hum Mol Genet 25: 317–327. https://doi.org/10.1093/hmg/ddv477
- Ibáñez C, Acuña T, Quintanilla ME, Pérez-Reytor D, Morales P, Karahanian E (2023) Fenofibrate Decreases Ethanol-Induced Neuroinflammation and Oxidative Stress and Reduces Alcohol Relapse in Rats by a PPAR-α-Dependent Mechanism. Antioxidants (Basel) 12: 1758. https://doi.org/10.3390/antiox12091758
- Puligheddu M, Pillolla G, Melis M, Lecca S, Marrosu F, De Montis MG, Scheggi S, Carta G, Murru E, Aroni S, Muntoni AL, Pistis M (2013) PPAR-alpha agonists as novel antiepileptic drugs: preclinical findings. PLoS One 8: e64541. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064541
- Puligheddu M, Melis M, Pillolla G, Milioli G, Parrino L, Terzano GM, Aroni S, Sagheddu C, Marrosu F, Pistis M, Muntoni AL (2017) Rationale for an adjunctive therapy with fenofibrate in pharmacoresistant nocturnal frontal lobe epilepsy. Epilepsia 58: 1762–1770. https://doi.org/10.1111/epi.13863
Дополнительные файлы