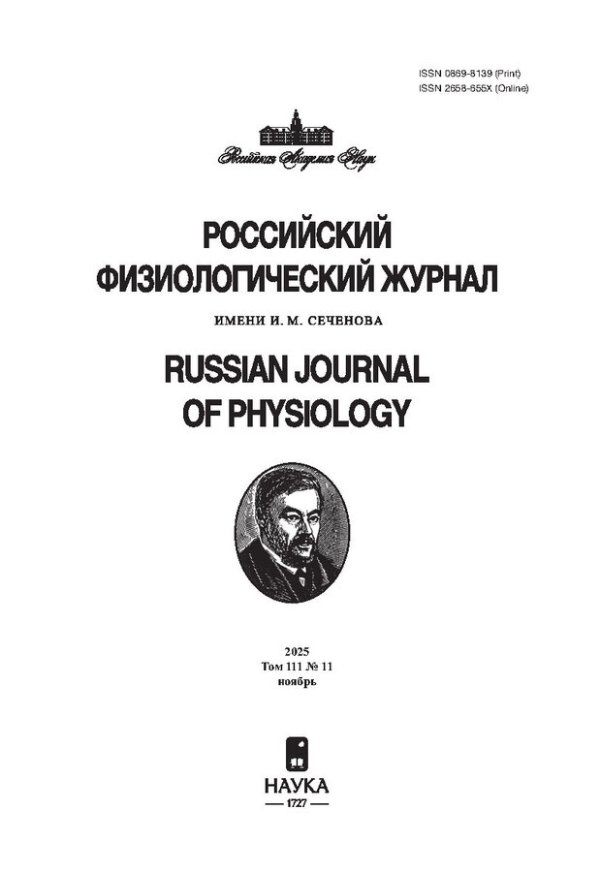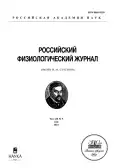Синергическое трио метаболических регуляторов, поддерживающих порочный круг патологических процессов при посттравматическом стрессовом расстройстве
- Авторы: Кондашевская М.В.1, Артемьева К.А.1, Михалева Л.М.1
-
Учреждения:
- Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского
- Выпуск: Том 110, № 5 (2024)
- Страницы: 704-722
- Раздел: ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-8139/article/view/266890
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924050044
- EDN: https://elibrary.ru/BLLSQS
- ID: 266890
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) представляет собой дизадаптивную реакцию на воздействие стрессора чрезвычайной интенсивности. Как и при любой реакции на внешние вызовы, организм животных и человека реагирует на системном, организменном и клеточном уровнях. У чувствительных к стрессорам индивидов (особей) наблюдается расстройство коллективной работы стрессреализующих и стресс-лимитирующих систем, а это, в свою очередь, обусловливает трансформацию поведения, когнитивных способностей и других функций ЦНС. В настоящее время доказано, что в патогенезе ПТСР важное место занимает изменение численности и состава кишечной микробиоты. В связи с этим обсуждаются методы оздоровления микрофлоры. Анализируя данные российских и иностранных исследователей, авторы пришли к выводу, что метаболическое, соматическое и психическое здоровье во многом зависит от слаженного функционирования основных взаимозависимых компонентов метаболизма: гепатобилиарной системы, кишечной микробиоты и, как считают авторы, от состояния тучных клеток. Пристальное изучение взаимодействия этих компонентов позволит определить новые терапевтические мишени и наиболее действенные методы лечения ПТСР.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – психическое расстройство, развивающееся вследствие мощного психотравмирующего воздействия угрожающего или катастрофического характера, симптомы которого чаще всего проявляются через 6 месяцев. Реакция на стрессор настолько изменяет чувствительность и ответ всех участвующих систем уязвимых к стрессу индивидов (особей), что организм не может вернуться к исходному гомеостатическому состоянию, реакция прогрессирует и модифицируется в хроническую или повторяющуюся стрессовую форму [1]. Показано, что формирование заболевания обусловлено неадекватным изменением чувствительности ответа гипоталамо-гипофизарно-адреналовой (ГГА) оси, симпатической нервной и иммунной системы [2, 3]. Если о реакции оси ГГА и симпатической нервной системы известно достаточно много, то ответу иммунной системы уделяется недостаточно внимания [4–6].
Первая волна сигналов опасности состоит из высвобождения продуктов метаболизма, таких как АТФ и АДФ, промежуточных формаций цикла Кребса и активных форм кислорода (АФК), поддерживается пуринергической передачей сигналов [7]. При сбалансированной реакции на стрессор, после того как опасность устранена или нейтрализована, активируется согласованная последовательность восстановительных реакций в организме резистентных к стрессу индивидов (особей). В то время как стрессоры чрезвычайной интенсивности индуцируют нарушение метаболизма клеток всего организма уязвимых индивидов (особей), что детерминирует расстройство коллективной работы всех систем органов, а это, в свою очередь, обусловливает изменение поведения, когнитивных способностей и других функций ЦНС [1]. В организме млекопитающих основным регулятором метаболического гомеостаза является печень – важнейший элемент системы органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [8].
Еще со времен Г. Селье известно, что при стрессе изменяется морфофункциональное состояние иммунной системы и ЖКТ. В последнее время микробиота кишечника вызывает значительный интерес к обитающим разновидностям бактерий и их потенциальной роли в патогенезе и терапии ПТСР. Идея обеспечения устойчивости к стрессу посредством специфической модуляции кишечной микробиоты стала доминирующей. В экспериментах и в клинике уже получены обнадеживающие результаты лечения ПТСР [9, 10]. Тем не менее невозможно добиться устойчивых результатов терапии без изучения функциональной связи между кишечной микробиотой, гепатобилиарной и иммунной системами.
Резидентные клетки иммунной системы формируют трансмембранные и цитоплазматические белки – инфламмасомы, которые функционируют как сенсоры «опасности». Система сенсоров включает в себя рецепторы распознавания паттернов (PRR), рецепторы комплемента и Fc-рецепторы, расположенные на поверхности тучных клеток, В-лимфоцитов, дендритных клеток, макрофагов, служащие для специфичного распознавания и связывания с фрагментом молекулы антитела. PRR реагируют на патоген-ассоциированные молекулярные структуры (PAMP) и на сигналы опасности, появляющиеся при повреждении тканей – эндогенные молекулярные структуры (DAMP). После активации PRR тучные клетки, тканевые макрофаги и стромальные клетки начинают секретировать провоспалительные медиаторы, включая липидные медиаторы и интерлейкины. Интерлейкины (IL) связываются со своими рецепторами на поверхности соседних клеток, что часто включает экспрессию еще большего количества цитокинов [11]. Установлено, что несколько генов, ассоциированных с иммунным воспалительным ответом, сцеплены с реакцией на стресс, приводящей к развитию ПТСР [12]. Существует уже достаточно много доказательств того, что при ПТСР формируется системное вялотекущее воспаление. При этом применение неоптимальных противовоспалительных средств не приводит к излечению от заболевания [1, 6].
О роли тучных клеток в патогенезе ПТСР известно очень мало, несмотря на то, что многие знают, что мастоциты первыми реагируют на любые изменения во внутренней и окружающей среде. В течение нескольких секунд – минут после стимуляции они секретируют как предварительно сформированные медиаторы, так и молекулы, синтезированные de novo, действующие как эффекторы во взаимоотношениях между иммунной, сосудистой и нервной системами, а также связях периферии и мозга [1, 13]. Таким образом, тучные клетки, являясь важными источниками различных медиаторов, способны оказывать влияние как на близлежащие клетки и органы, так и на гомеостаз всего организма. Благодаря этой особенности мастоциты играют решающую роль в регуляции различных физиологических и патологических процессов [13]. Следует отметить, что роль мастоцитов в патогенезе ПТСР чаще всего упускается из виду [14]. Авторы статьи убеждены, что исследование функций тучных клеток раскроет новые патогенетические механизмы ПТСР и значительно расширит возможности оптимальной терапии этого заболевания.
В данном обзоре мы стремились представить малоизвестные сведения о желудочно-кишечных факторах, которые динамично участвуют в регуляции стрессорной реакции ЦНС, уделяя основное внимание гепатобилиарной системе, микрофлоре кишечника и тучным клеткам, синергическое трио которых, по нашей гипотезе, вовлечено в развитие и поддержание такого тяжелого заболевания, как посттравматическое стрессовое расстройство.
Липидный дистресс-синдром при посттравматическом стрессовом расстройстве
В наших работах и исследованиях других авторов было установлено нарушение липидного профиля и регуляции метаболизма липидов в организме животных при моделировании ПТСР, а также у людей с диагнозом ПТСР. В крови животных и людей были выявлены продукты перекисного окисления липидов [8, 15].
В 1998 г. российским академиком, хирургом B. C. Савельевым была сформулирована концепция липидного дистресс-синдрома как системной патологической реакции организма на основе нарушений липидного обмена в виде многочисленных патофизиологических, патобиохимических и патоморфологических процессов, выходящих за рамки конкретного пораженного органа-мишени, способствующая прогрессированию имеющихся заболеваний или возникновению новых, коморбидных. Этим же автором был разработан принципиально новый подход к диагностике и лечению многих заболеваний, обусловленных нарушениями липидного метаболизма. Липидный дистресс-синдром был назван именем Савельева [16, 17]. Установленные при липидном дистресс-синдроме Савельева закономерности развития нарушений липидного метаболизма не зависят от нозологии и касаются общих для всех заболеваний патологических процессов, основу которых составляют дислипопротеидемия, эндотоксинемия, эпителиальная и эндотелиальная дисфункция. Липидный дистресс-синдром всегда формируется на фоне нарушений липидного метаболизма – дислипопротеидемии [18].
Наиболее важным липидом является холестерин – одноатомный жирорастворимый спирт, а по химической структуре холестерин относится к стероидам (рис. 1) [19]. Концентрация холестерина в сыворотке крови взрослого человека в норме равна ~ 200 мг/дл, что соответствует холестериновому равновесию, когда количество холестерина, поступающего в организм, равно количеству холестерина, выводимому из организма. Если концентрация холестерина в крови выше нормы, то это указывает на его задержку в организме, что является фактором риска развития атеросклероза. Холестерин присутствует во всех тканях и клетках организма человека и многих животных, синтезируется он в основном в печени (~ 50%), тонком кишечнике (~ 20%), коже, коре надпочечников, железах половой системы (рис. 1) [19, 20]. С пищей в организм поступает ~ 25–30% всего холестерина в организме. Вместе с фосфолипидами холестерин входит в состав клеточных мембран всех органов (рис. 1). Он необходим для выработки желчи и многих других важнейших биоактивных веществ, в частности, он требуется для биосинтеза стероидных гормонов надпочечниками (кортизола, альдостерона, половых гормонов, прогестерона и др.) (рис. 1) [19, 20].
Рис. 1. Биологическая роль холестерина.
Основой холестеринового гомеостаза является энтерогепатическая циркуляция желчных кислот. Первичные желчные кислоты синтезируются в гепатоцитах из холестерина и метаболизируются в желчь в составе конъюгата с глицином и таурином (рис. 2) [20]. Желчь участвует в метаболизме жирных кислот, она необходима для регуляции перистальтики кишечника, нормальной работы желез ЖКТ, в частности поджелудочной железы, а также для поддержания баланса микрофлоры. В тонкой кишке под воздействием многочисленных пищеварительных ферментов происходит деконъюгация желчных кислот, в результате образуются соли желчных кислот, участвующие в формировании мицелл, необходимых для всасывания жиров. После всасывания жиров желчные кислоты остаются в полости тонкой кишки и по механизму обратной связи абсорбируются из подвздошной кишки в кровь (рис. 2) [20]. В кровоток поступают также триглицериды (ТГ), образующиеся в результате расщепления пищевых жиров. Холестерин и ТГ в кровотоке находятся в составе липопротеидов, выполняющих транспортную функцию. Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) осуществляют транспорт холестерина и триглицеридов в периферические клетки, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) переносят холестерин в печень (рис. 2). Секреция липопротеидов печенью модулируется различными факторами кишечника, поджелудочной железы, жировой ткани и нервными импульсами ЦНС. В случае функциональных расстройств энтерогепатической циркуляции и/или внутрипеченочного холестаза вследствие снижения активности купферовских клеток ретикулоэндотелия формируется дислипидемия [20, 21].
Рис. 2. Энтерогепатическая циркуляция желчи и микробная переработка желчных кислот. Большая зеленая стрелка – пассивная абсорбция и активный транспорт желчи из кишечника в печень. Маленькие сплошные зеленые стрелки отражают направление потока желчи. Пунктирные стрелки отображают воздействие микробиоты. BA+Glyc+Taur – в состав желчи входят желчные кислоты, глицин и таурин.
Нарушение липидного метаболизма при ПТСР обусловливает значительное увеличение маркеров перекисного окисления липидов (ПОЛ), таких как гидроперекиси липидов, конъюгированные диены, сопровождающееся заметным снижением активности ферментативных и неферментативных антиоксидантов, таких как супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, восстановленный глутатион, витамины С и Е [21–23]. Продукты ПОЛ активируют инфламмасомы – крупные мультибелковые комплексы, являющиеся внутриклеточными рецепторами распознавания патогенов или сигналов опасности, расположенных в тучных клетках, макрофагах, нейтрофилах, моноцитах, микроглии и др. Инфламмасомы, в свою очередь, активируют врожденный иммунитет, в том числе и тучные клетки, что инициирует выработку провоспалительных интерлейкинов – IL1β и IL18 [2].
Дислипидемия и ассоциированные метаболические заболевания включают в себя не только проблемы атеросклероза и его мультифокальных ишемических проявлений (ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания), но и алиментарно-конституциональное ожирение с метаболическими нарушениями в органах гепатобилиарной системы. Достаточно давно установлено, что при ПТСР уровни параметров липидов плазмы изменены: общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП и очень низкой плотности (ЛПОНП) – значительно повышены, тогда как концентрация ЛПВП – заметно снижена [8]. В связи с этим фактор риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца повышается в 1.5–2 и более раз. При дислипидемии развитие жирового гепатоза происходит у 43–81%, а при ожирении – более чем у 75% пациентов, около половины из них имеют гистологические изменения, представленные воспалением или фиброзом, что является патоморфологическим субстратом для развития стеатогепатита [18, 21]. В работах иностранных авторов показана сильная корреляционная связь между заболеваниями печени (стеатоз, цирроз и др.) и распространенностью психиатрических диагнозов [22, 23]. В наших работах была установлена корреляционная связь показателей морфофункциональной трансформации печени с показателями тревожного поведения крыс при моделировании ПТСР [8]. В работах других исследователей, проведенных на людях с печеночной энцефалопатией и неалкогольной жировой болезнью печени, доказана причинно-следственная связь между болезнями печени и изменениями объема кортикальных структур мозга. Последнее проявлялось в виде признаков нейропсихических расстройств, трансформации поведения и когнитивного дефицита – симптомов, характерных для ПТСР [22, 23]. В современной работе Bell с соавт. были выявлены общие гены, определяющие функционирование печени и мозга [24], в частности, ген, кодирующий пропротеинконвертазу субтилизин/кексин 9-го типа и его белковый продукт (PCSK9), участвующий в метаболизме холестерина и липидов [25–27]. Установлено, что PCSK9 увеличивает скорость метаболической деградации рецепторов ЛПНП, предотвращая диффузию ЛПНП из плазмы в клетки, способствуя повышению уровня связанного с липопротеинами холестерина в плазме. Церебральная экспрессия PCSK9 низкая, но значительно повышается во время болезненных состояний [28]. Известно, что PCSK9 среди прочего играет роль в нейрогенезе, дифференцировке нервных клеток, метаболизме центральных рецепторов ЛПНП, апоптозе нервных клеток, нейровоспалении, болезни Альцгеймера и других психоневрологических заболеваниях [25–27]. Показано, что мутации с усилением функции гена приводят к стойкой гиперхолестеринемии, сопровождающейся сердечно-сосудистыми и печеночными заболеваниями. В то же время мутации с потерей функции обычно обусловливают гипохолестеринемию, поэтому воздействие на этот ген может быть эффективным для защиты против указанных заболеваний, а возможно, и заболеваний ЦНС [25–27]. Работы по выявлению доказательств решающей роли PCSK9 в патогенных процессах, включая ЦНС, продолжаются. Однако каузальные связи между болезнями печени и изменениями в головном мозге до конца не выяснены [25–27].
Липидный состав крови в значительной степени зависит от состояния кишечной микробиоты и меняется на фоне стресса, сопровождающегося глубокими микроэкологическими нарушениями в кишечнике. Микроорганизмы ЖКТ активно участвуют в метаболизме холестерина, воздействуя на ферментные системы клеток хозяина, участвующие в синтезе эндогенного холестерина и рециркуляции желчных кислот [29]. Нарушение микробного ансамбля проявляется в виде повышенного количества анаэробов, гемолитических кишечных палочек, стафилококков, грибов с одновременным снижением числа лактобацилл (сем. Lactobacillaceae) и бифидобактерий (сем. Bifidobacteriaceae) [30]. Интенсивное размножение бактерий в тонкой кишке вследствие дисбиоза ЖКТ на фоне стресса (психоэмоционального, лекарственного, химического и т. д.) [30] приводит к усиленной деконъюгации связанных желчных кислот и образованию их токсичных эндогенных солей, нарушающих микроциркуляцию в стенке кишки, увеличивающих всасывание и возврат в печень до 100% выделенных в просвет тонкой кишки желчных кислот (рис. 3). По принципу «обратной связи» в гепатоцитах печени компенсаторно уменьшается синтез желчных кислот, вследствие чего повышается содержание холестерина в плазме крови. Таким образом, основой формирования дислипопротеидемии и липидного дистресс-синдрома является нарушение главного природного механизма холестеринового гомеостаза – энтерогепатической циркуляции желчных кислот (рис. 3) [30].
Рис. 3. Путь развития заболеваний печени и других заболеваний при гиперхолестеринемии. TG – триглицериды, LDL – липопротеины низкой плотности, CV – сердечно-сосудистые заболевания.
В современных работах показано, что печень взаимодействует с кишечником и компонентами кишечного барьера, в состав которого входит множество тучных клеток, через посредство желчных кислот, микробиоты кишечника и, конечно, нервной системы [8, 31, 32]. Снижение выработки желчных кислот печенью индуцирует дисбактериоз, в результате чего условно-патогенные бактерии и их липополисахариды (ЛПС) проникают в печень через воротную вену, вызывая активацию тучных клеток, секретирующих медиаторы воспаления. В то же время избыток желчных кислот обусловливает гибель гепатоцитов и приводит к тому же воспалительному эффекту [31, 32].
Нарушение процессов метаболизма холестерина и деструкции стеринов до конечных продуктов индуцирует повышение концентрации холестерина, ТГ и других жиров [33], что обусловливает формирование стеатоза печени (рис. 3). Липиды, циркулирующие в крови, начинают откладываться в клетках органов, не приспособленных для их хранения: печени, миокарде, мышечных волокнах. В результате такие клетки гибнут путем апоптоза. Больные с хроническим стеатогепатозом представляют собой группу повышенного риска развития ПТСР [33], сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, артериальной гипертензии и т. д. (рис. 3). Диагностика стеатогепатоза при помощи УЗИ не представляет трудности, но верификация диагноза проводится с помощью биохимической диагностики и пункционной биопсии печени [18].
Разработанная академиком B. C. Савельевым тактика лечения липидного дистресс-синдрома основана на изменении в системе «хозяин↔микробиота» как важнейшем природном механизме холестеринового гомеостаза, который до настоящего времени часто упускается из виду. Восстановление нормальной популяции микрофлоры ЖКТ должно представлять основную задачу различных консервативных и хирургических методов лечения нарушений липидного метаболизма. Это приоритетное условие, выдвинутое академиком B. C. Савельевым, обосновано тем, что резидентная и транзиторная микрофлора хозяина, синтезируя, трансформируя или разрушая экзогенные и эндогенные стерины, активно участвует в холестериновом метаболизме и является важнейшей метаболической и регуляторной системой, кооперирующей клетки и органы хозяина в поддержании гомеостаза [16–18].
Вовлеченность кишечной микробиоты в патогенез ПТСР
За последнее десятилетие было обнаружено, что посредством нейроиммунной модуляции микробиота кишечника способна вносить существенный вклад в этиопатогенез нейродегенеративных и психоневрологических расстройств, таких как депрессия, ПТСР и др. [34, 35]. Активное изучение микробного разнообразия кишечной микрофлоры позволило идентифицировать ряд микроорганизмов, включая бифидобактерии и лактобактерии в качестве потенциальных психотропных пробиотиков (рис. 4) [36].
Формирование и размножение кишечного микробиома начинается с рождения, а модификация его состава зависит в основном от генетических, эпигенетических, пищевых и некоторых других факторов. Изменение баланса кишечной микробиоты способно привести к ухудшению здоровья и развитию многих недугов, начиная с воспалительных заболеваний ЖКТ, метаболических, иммунологических и заканчивая психическими расстройствами (рис. 4) [36, 37]. Убедительные доказательства указывают на то, что кишечный микробиом человека – сложное сообщество микроорганизмов, обитающих в ЖКТ, играет решающую роль в развитии и функционировании нервной системы хозяина, сложном поведении и когнитивных процессах. Достаточно давно установлена корреляционная связь между числом и составом бактерий кишечника человека и психическими заболеваниями [38, 39]. Общегеномные ассоциативные исследования генома человека и микробиоты кишечника выявили важные взаимодействия между хозяином и микробиотой. Двунаправленная коммуникация микробиом кишечника↔мозг располагает также такими механизмами, как активация иммунной системы (в том числе активация тучных клеток) кишечника хозяина микробными метаболитами, оказывающими влияние на блуждающий нерв [35, 37]. Дисбактериоз кишечника наблюдается при различных психических расстройствах. Микробиом кишечника продуцирует многие нейротрансмиттеры, в связи с этим может способствовать развитию такого психического расстройства как ПТСР, влияя на стрессорные реакции путем изменения передачи сигналов [35, 37].
Рис. 4. Функции нормальной микрофлоры кишечника. CNS – центральная нервная система.
В совместной работе китайских и американских исследователей при проведении анализа генома человека и микробиома кишечника с двумя выборками между микробиологическими особенностями и психическими заболеваниями было обнаружено, что Bacteroides eggerthii и Bacteroides thetaiotaomicron положительно ассоциированы с ПТСР. Определено, что те гены, которые характерны для микробиоты, экспрессируются также и в тканях мозга человека [40].
В работе американских исследователей было установлено, что результаты терапии ПТСР неоптимальными лекарственными средствами часто приводят к развитию цирроза печени у ветеранов боевых действий [35]. Показано, что ПТСР часто индуцирует печеночную энцефалопатию, изменяя ось гепатобилиарная система↔микробиом↔мозг. В исследование были включены 93 ветерана мужского пола в возрасте 42–58 лет, участвовавших в боевых действиях. Установлено, что при ПТСР у мужчин-ветеранов с циррозом печени выявляется меньшее микробное разнообразие, большее количество транзиторных патобионтов, сокращен состав аутохтонных таксонов. В отличие от группы сравнения у пациентов с ПТСР было выявлено гораздо большее количество патобионтов (Enterococcus и Escherichia/Shigella) и меньшее количество аутохтонных бактерий, принадлежащих к семействам Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Повышение численности бактерий из рода Enterococcus, а также изменение соотношения численности бактерий родов Escherichia/Shigella коррелировало с ухудшением когнитивных способностей [35, 41].
В работах китайских исследователей (Bajaj с соавт.) при изучении микробиоты ЖКТ ветеранов боевых действий с диагнозом ПТСР также выявлено значительно большее количество патобионтов Enterococcus и Escherichia/Shigella и меньшее число аутохтонных родов Lachnospira и Ruminococcus, семейств Lachnospiraceaeae и Ruminococcaceae [3].
Распространенность ПТСР и депрессии резко возросла во всем мире после пандемии COVID-19 (2019–2022 гг.). Для эффективного лечения этих состояний необходимо всестороннее понимание всех патофизиологических факторов. В работе испанских исследователей были проанализированы микробные сообщества из образцов кала 198 человек, у 8.8% которых зарегистрировано ПТСР. Выполнено секвенирование ампликона гена 16S рибосомальной РНК V3–4, проанализированы микробное разнообразие и структура сообщества, а также относительное таксономическое изобилие. Оказалось, что у лиц с коморбидным ПТСР + депрессия + состояние тревожности снижена численность бактерий вида Fusicatenibacter saccharivorans. При этом более высокие уровни бактерий рода Turicibacter положительно коррелировали с детской психической травмой, а у лиц, перенесших опасные для жизни физические травмы, были обнаружены более низкие уровни бактерий класса Lentisphaerae [41–43]. Учитывая неоптимальный ответ на современные методы лечения ПТСР и то, что когнитивные способности связаны с кишечной микробиотой [44, 45], которая представляет собой новую терапевтическую мишень, воздействие на микробиоту кишечника может принести пользу оси кишечник – мозг.
В последнее время рассматриваются многие стратегии и тактики модулирования баланса кишечной экосистемы. Pearson-Leary с соавт. получили экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что можно передавать посредством переноса фекальной микробиоты поведенческий «тревожный» фенотип крыс между двумя популяциями – устойчивыми и неустойчивыми к стрессу социального поражения. Чувствительные к стрессу животные демонстрировали тревожное поведение и депрессию, что коррелировало с нейровоспалением в вентральном гиппокампе. Анализ фекальной микробиоты этих крыс выявил повышенную экспрессию бактерий рода Clostridium, обладающих иммуномодулирующими способностями. При переносе фекальной микробиоты от неустойчивых к стрессу крыс контрольным или устойчивым животным наблюдалось повышение плотности микроглии и экспрессия провоспалительного интерлейкина IL-1β в вентральном гиппокампе, что сопровождалось депрессивноподобным поведением. В совокупности полученные результаты свидетельствовали о том, что с помощью трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ) можно влиять на микробиом, ЦНС и поведение животных-реципиентов. В настоящее время ТФМ начали применять не только при воспалительных заболеваниях кишечника, но и при метаболическом синдроме, психических расстройствах, в частности, при ПТСР [46, 47].
В целом понимание механизмов, с помощью которых можно манипулировать микробиотой кишечника, является важным шагом в выяснении долгосрочной безопасности ТФМ и эффективности лечения ПТСР. Поскольку существующие фармакологические методы терапии ПТСР часто оказывают отрицательное влияние на микробиоту кишечника, они не всегда подходят для лечения этого заболевания [45]. Поэтому концепция обеспечения устойчивости к стрессу посредством специфической модуляции кишечной микробиоты может стать ключевым направлением для новых поисков методов терапии ПТСР. Предположительно, лечение будет направлено на нормализацию состава микробиома.
Вовлеченность тучных клеток в патогенез ПТСР
Слизистая оболочка является главным эшелоном защиты организма от вредного воздействия содержимого просвета кишечника, в том числе бактериальных токсинов. Поверхность слизистой оболочки кишечника выстлана эпителиальными клетками, которые физически отделяют просвет кишечника от внутренней среды, тем самым предотвращая проникновение потенциально вредных веществ, сохраняя при этом всасывание питательных веществ и электролитов. Барьерные функции кишечника в высокой степени регулируются иммунными и неиммунными механизмами, в которых тучные клетки (мастоциты) играют центральную роль. В частности, медиаторы, выделяемые мастоцитами, влияют на целостность и жизнеспособность эпителия кишечника, кровоток, коагуляцию и проницаемость сосудов, способствуют секреции ионов и воды, а также участвуют в нейроиммунных взаимодействиях, содействующих перистальтике (рис. 5) [11, 13].
Рис. 5. Функции тучных клеток кишечника в норме.
В слизистой оболочке кишечника расположены специализированные иммунные структуры, такие как пейеровы бляшки, а также рециркулирующие клетки иммунной системы. В кишечнике как B1-, так и В2-клетки являются источником IgA, тогда как T-лимфоциты могут быть вовлечены в процессы индукции и/или регуляции образования IgM в ответ на ТН2-антигены [48]. Среди всех этих клеток размещаются тучные клетки, имеющие, кроме множества других рецепторов, рецепторы к IgA. Мастоциты представляют собой ключевое звено, выполняющее несколько ролей в поддержании местного и общего гомеостаза [11, 13]. ЖКТ оснащен самой большой популяцией тучных клеток в организме. В кишечнике мастоциты составляют около 2–3% иммунно-клеточного пула собственной пластинки, кроме того, они расположены в мышечном и серозном слоях (3000–25000 клеток/мм3), где они находятся в стратегической близости от кровеносных и лимфатических сосудов, а также нервных окончаний [11, 13].
Все элементы иммунной системы слизистой оболочки ЖКТ должны слаженно функционировать, чтобы генерировать иммунный ответ, который, с одной стороны, защищает хозяина от патогенов, а с другой – способствует выработке толерантности к пищевым антигенам и комменсальным бактериям. Иммунные клетки врожденного типа, включая мастоциты и дендритные клетки, обучают иммунные клетки адаптивного типа и эпителиальные клетки кишечника устанавливать симбиотические отношения с бактериями-комменсалами (рис. 5) [11, 49]. Тучные клетки вносят основной вклад в выработку иммунной толерантности слизистой оболочки, секретируя IL-9, который индуцирует выброс фермента – индоламиновую 2,3-диоксигеназу дендритными клетками. Установлено, что при дефиците IL-9 и Toll-подобных рецепторов 5 (TLR5, рецептор для бактериального компонента флагеллина), экспрессируемых мастоцитами, возникает воспалительный дисбиоз [49], что свидетельствует о регуляции тучными клетками микробного ансамбля (рис. 5). Имеются сведения, что модуляция мастоцитами состава и численности бактерий кишечника в нормальных физиологических условиях способствует нейропротекции ЦНС, сказывается на поведении и положительно влияет на нейродегенеративные процессы [11, 50]. Определено, что гепарин тучных клеток, в изобилии присутствующий на поверхности слизистой оболочки кишечника, участвует в регуляции перемещений бактерий в просвете кишечника [51].
Кроме влияния на проницаемость кишечной стенки и кишечную микрофлору, мастоциты играют ключевую роль в регуляции транспорта желчи, изменяя протоковую реакцию путем воздействия на фактор роста фибробластов 15 (FGF15) и его рецепторы. Этот же путь воздействия охарактеризован при исследовании участия тучных клеток в регуляции синтеза желчных кислот печенью (рис. 5) [52]. Таким образом, прослеживается как опосредованное, так и прямое влияние мастоцитов на метаболизм организма хозяина.
Острый и хронический стресс могут приводить к активации мастоцитов [11, 53, 54] и модулировать парацеллюлярную и трансклеточную проницаемость. Тучные клетки взаимодействуют с другими клетками иммунной и неиммунной систем [11, 53]. Это свойство позволяет им влиять на множество клеток, органов и систем. В частности, высвобождая такие биологически активные вещества, как гистамин, ацетилхолин, серотонин, норадреналин, кортикотропин-рилизинг гормон и др. и иммунные медиаторы (цитокины), мастоциты являются важнейшими компонентами взаимодействия между кишечной нервной системой и ЦНС (рис. 5) [11, 53]. Мастоциты играют решающую роль в физиологических и патологических реакциях, влияя через петли обратной связи на нейроиммуноэндокринную систему организма. Тучные клетки появились более 500 миллионов лет назад, когда у животных еще не сформировалась иммунная система. Существует предположение, что первоначально мастоциты служили прототипом нейроиммуноэндокринных клеток, а затем они эволюционировали в главный регулятор таких взаимодействий, тем более что большинство известных заболеваний связано с нейровоспалением, которое усиливается при стрессе [55].
Воздействие стрессора оказывает значительный эффект на функции кишечника и активацию тучных клеток как в ЖКТ, так и в ЦНС [56, 57]. Большая часть мастоцитов расположена на аблюминальной стороне кровеносных сосудов, где они взаимодействуют с нейронами, глией и эндотелиальными клетками. Стрессор за счет активации мастоцитов одновременно повышает проницаемость как гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), так и кишечного эпителиального барьера. В условиях стресса ЦНС может влиять на гепатобилиарную систему и кишечную микробиоту через основную систему стресса – ГГА ось, регулируя секрецию кортизола. Последний, в свою очередь, способен трансформировать проницаемость и барьерную функцию кишечника, изменять состояние гепатобилиарной системы. Мастоциты чувствительны к изменениям состояния ГГА оси, поскольку они обладают рецепторами к кортикотропин-рилизинг гормону, поэтому тучные клетки активируются при возбуждении ГГА оси. Высвобождаемые периферическими тучными клетками медиаторы проникают через ГЭБ и модулируют функции микроглии, астроцитов, нейронов [56, 57]. В ЦНС присутствует значительное количество мастоцитов. Глия и тучные клетки в головном мозге реактивируют друг друга посредством совместной стимуляции выработки широкого спектра биологически активных веществ. Паттерн высвобождения медиаторов мастоцитами является многофазным – готовые к применению медиаторы секретируются в окружающую среду в течение нескольких секунд, а вновь синтезируемые медиаторы – в течение следующих часов. Поэтому тучные клетки функционируют как катализаторы, усиливающие и продлевающие многие клеточные вазоактивные, нейроактивные, иммунореактивные и эндокринные реакции. В связи с этим тучные клетки являются важными эффекторами оси гепатобилиарная система↔кишечная микробиота↔мозг, которые преобразуют сигналы стресса в высвобождение широкого спектра нейротрансмиттеров и провоспалительных цитокинов. По этой причине роль мастоцитов в психических расстройствах, по мнению авторов статьи, должна рассматриваться как особо важная, поскольку эта гипотеза подтверждается многочисленными современными данными [11, 55–57].
Пандемия COVID-19 заставила исследователей по-новому взглянуть на роль тучных клеток при многих заболеваниях. Первостепенная загадка пандемии COVID-19 заключалась в том, что заставляло иммунную систему так катастрофически и внезапно реагировать лишь у некоторых пациентов, оставаясь достаточно регулируемой у большинства других заболевших. В результате проведения рандомизированных исследований возникла теория дисфункции мастоцитов. По этой гипотезе предполагается, что дисфункция мастоцитов – это, вероятнее всего, генетическая проблема, которая существует у ряда людей до заболевания COVID-19 или любого другого заболевания, проявляясь тяжелой формой воспалительной реакции. Возможно также, что воздействие сильного стрессора обусловливает постоянное увеличение численности тучных клеток, пораженных дисфункцией. Вероятно, из-за сложных взаимодействий между эпигенетическими аномалиями и индуцированным стрессором цитокиновым штормом осуществляется дополнительная мутация стволовых клеток, из которых произошли мастоциты с проявлениями дисфункции [58–60].
В настоящее время дисфункция тучных клеток считается хроническим мультисистемным воспалительным заболеванием, которое характеризуется периодическими обострениями. В связи с этим повторные симптомы инфекции COVID-19, наблюдающиеся у некоторых пациентов, объясняются тем, что они страдали от начального приступа инфекции, за которым через некоторое время следовало симптоматическое обострение вследствие активации мастоцитов с признаками дисфункции [61]. Кроме того, было показано, что психические расстройства, распространенные при COVID-19, связаны главным образом с воспалением и коагулопатией. В настоящее время считается, что эти расстройства возникают в большей степени из-за дисфункции мастоцитов. Это мнение поддерживается тем, что применение некоторых препаратов (фамотидин, аспирин), ингибирующих активацию тучных клеток и высвобождение ими медиаторов воспаления, принесло ощутимую пользу, несмотря на то что они не обладают противовирусным действием [60, 61].
Дисфункция мастоцитов остается пока что непризнанным заболеванием, несмотря на его большую распространенность, которая замаскирована крайней гетерогенностью клинических проявлений, обусловленной чрезвычайной мутационной гетерогенностью [61]. Дисфункция тучных клеток в большинстве случаев является идиопатическим заболеванием исключительно потому, что клональность не может быть продемонстрирована с помощью доступных клинических тестов. Обычно дисфункцию мастоцитов диагностируют в связи с каким-нибудь первичным заболеванием, несмотря на то, что дисфункция является первичным заболеванием. Исследования, проведенные путем секвенирования изолятов тучных клеток, полученных от пациентов с дисфункцией мастоцитов, показали, что почти у всех таких пациентов выявляется широкий спектр мутаций в KIT (только не в кодоне 816), а также в десятках других регуляторных генов мастоцитов. Еще одним тестом является метод проточной цитометрии для коэкспрессии CD117 на клеточной поверхности вместе с CD25 и/или CD2 [62]. Однако у некоторых пациентов дисфункция тучных клеток может быть чисто вторичной по отношению к другому процессу (например, аутоиммунному или раковому заболеванию). Следует подчеркнуть, что у диагностированных и пролеченных пациентов с дисфункцией мастоцитов при заболевании COVID-19 ни у кого из них не было тяжелого течения инфекции [63].
Потенциальные результаты предложенной гипотезы огромны как по отношению к ПТСР, так по отношению к другим воспалительным заболеваниям. Из гипотезы следует, что при наличии факта гиперактивации тучных клеток необязательно диагностическое тестирование на наличие синдрома дисфункции мастоцитов, но рекомендуется скорейшая корректировка начальной терапии, включая антагонисты рецепторов гистамина H1 и H2. Следует отметить, что большинство методов лечения, нацеленных на указанный синдром, достаточно безопасны. Использование стабилизаторов и блокирование медиаторов тучных клеток у пациентов с воспалительными заболеваниями способно помочь «успокоить» тучные клетки и исключить цитокиновые бури, что может привести к лучшим результатам, включая снижение показателей смертности. Кроме того, использование стабилизаторов мастоцитов, таких как антигистаминные препараты и кромолин, может помочь предотвратить значительный рост случаев хронизации воспалительных заболеваний. С большой долей вероятности можно предположить, что применение стабилизаторов мастоцитов будет очень уместно при ПТСР, так как это расстройство характеризуется наличием системного субклинического воспаления с выраженным нейровоспалением [63].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПТСР представляет собой дизадаптивную реакцию, изменяющую чувствительность и ответ всех участвующих систем уязвимых к стрессу индивидов (особей) настолько, что организм не может вернуться к исходному гомеостазу, реакция прогрессирует и модифицируется в хроническую или повторяющуюся стрессовую реакцию. Симптомы заболевания характеризуются отсроченным периодом. У пострадавших от травматических событий впоследствии диагностируются тревожные, депрессивные и соматоформные расстройства, которые обусловливают профессиональную и социальную дизадаптацию с устойчивыми изменениями личностных черт. До настоящего времени отсутствуют надежные методы лечения ПТСР. При ПТСР, как и при многих других заболеваниях, сопровождающихся воспалением, основным ведущим или главным звеном в цепи возникающих в организме нарушений является системное вялотекущее воспаление, определяющее развитие остальных этапов болезни [1]. Возникшее в ходе формирования патологического процесса нарушение функций органов или систем обычно само становится фактором, вызывающим эти нарушения. Изменив метаболизм гепатобилиарной системы, состояние кишечной микрофлоры и активировав тучные клетки, основное звено патологического процесса трансформирует причинно-следственные отношения, и они меняются местами. Такое состояние в медицине называют «порочным кругом» – это замкнутый цикл патологических процессов. Гепатобилиарная система, кишечная микробиота и тучные клетки, находясь в синергических отношениях в качестве регуляторов метаболизма, образуют порочный круг, поддерживающий патологические процессы при ПТСР. Тактика влияния лекарственными средствами только на один компонент этого порочного круга может дать лишь временный положительный эффект. Авторы выдвигают гипотезу о необходимости лечебного воздействия на все компоненты охарактеризованного в статье метаболического порочного круга.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией: М.В.К. – разработка концепции и написание статьи; К.А.А. – оформление статьи; Л.М.М. – редактирование статьи.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета государственного задания лаборатории патологии клетки НИИ морфологии человека им. академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровскогo, № 122030200535–1. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
М. В. Кондашевская
Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского
Автор, ответственный за переписку.
Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва
К. А. Артемьева
Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского
Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва
Л. М. Михалева
Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского
Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Lapshin MS, Kondashevskaya MV, Epishev VV, Patochkina NA (2023) Pathogenesis of Post-Traumatic Stress Disorder and Therapeutic Targets. Neurosci Behav Physiol 53(6): 1072–1083. https://doi.org/ 10.1007/s11055–023–01501-w
- Speer KE, Semple S, McKune AJ (2020) Acute Physiological Responses Following a Bout of Vigorous Exercise in Military Soldiers and First Responders with PTSD: An Exploratory Pilot Study. Behav Sci (Basel) 10(2): 59. https://doi.org/ 10.3390/bs10020059
- Liu B, Yuan ML, Hu Y, Ge FF, Wang JY, Zhang W (2021) A Review of Research Progress in the Pathophysiological Mechanism of Stress-related Mental Disorders. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 52(1): 22–27. https://doi.org/ 10.12182/20210160101
- Sugama S, Kakinuma Y (2020) Stress and brain immunity: Microglial homeostasis through hypothalamus-pitu itary-adrenal gland axis and sympathetic nervous system. Brain Behav Immun Health 7: 100111. https://doi.org/ 10.1016/j.bbih.2020.100111
- Patas K, Baker DG, Chrousos GP, Agorastos A (2024) Inflammation in Posttraumatic Stress Disorder: Dysregulation or Recalibration? Curr Neuropharmacol 22(4): 524–542. https://doi.org/ 10.2174/1570159X21666230807152051
- Speer K, Upton D, Semple S, McKune A (2018) Systemic low-grade inflammation in post-traumatic stress disorder: a systematic review. J Inflamm Res 11: 111–121. https://doi.org/ 10.2147/JIR.S155903
- Naviaux RK (2014) Metabolic features of the cell danger response. Mitochondrion 16: 7–17. https://doi.org/ 10.1016/j.mito.2013.08.006
- Kondashevskaya MV, Mikhaleva LM, Artem'yeva KA, Aleksankina VV, Areshidze DA, Kozlova MA, Pashkov AA, Manukhina EB, Downey HF, Tseilikman OB, Yegorov ON, Zhukov MS, Fedotova JO, Karpenko MN, Tseilikman VE (2023) Unveiling the Link: Exploring Mitochondrial Dysfunction as a Probable Mechanism of Hepatic Damage in Post-Traumatic Stress Syndrome. Int J Mol Sci 24: 13012. https://doi.org/10.3390/ijms241613012
- Sun J, Ince MN, Abraham C, Barrett T, Brenner LA, Cong Y, Dashti R, Dudeja PK, Elliott D, Griffith TS, Heeger PS, Hoisington A, Irani K, Kim TK, Kapur N, Leventhal J, Mohamadzadeh M, Mutlu E, Newberry R, Peled JU, Rubinstein I, Sengsayadeth S, Tan CS, Tan XD, Tkaczyk E, Wertheim J, Zhang ZJ (2023) Modulating microbiome-immune axis in the deployment-related chronic diseases of Veterans: report of an expert meeting. Gut Microbes 15(2): 2267180. https://doi.org/ 10.1080/19490976.2023.2267180
- Pearson-Leary J, Zhao C, Bittinger K, Eacret D, Luz S, Vigderman AS, Dayanim G, Bhatnagar S (2020) The gut microbiome regulates the increases in depressive-type behaviors and in inflammatory processes in the ventral hippocampus of stress vulnerable rats. Mol Psychiatry 25: 1068–1079. https://doi.org/ 10.1038/s41380–019–0380-x
- Кондашевская МВ (2019) Экосистема тучных клеток – ключевой полифункциональный компонент организма животных и человека. Группа МДВ. Москва. [Kondashevskaya MV (2019) The mast cell ecosystem is a key multifunctional component of animals and humans. MDV Group. Moscow. (In Russ)].
- Zass LJ, Hart SA, Seedat S, Hemmings SM, Malan-Müller S (2017) Neuroinflammatory genes associated with post-traumatic stress disorder: implications for comorbidity. Psychiatr Genet 27(1): 1–16. https://doi.org/ 10.1097/YPG.0000000000000143
- Traina G (2021) The role of mast cells in the gut and brain. J Integr Neurosci 20: 185–196. https://doi.org/ 10.31083/j.jin.2021.01.313
- Кондашевская МВ (2023) Гепарин-адаптоген, секретируемый тучными клетками, горизонты гепаринотерапии. Группа МДВ. Москва. [Kondashevskaya MV (2023) Heparin-adaptogen secreted by mast cells, Horizons of heparin therapy. MDV Group. Moscow. (In Russ)].
- Perković MN, Milković L, Uzun S, Mimica N, Pivac N, Waeg G, Žarković N (2021) Association of Lipid Peroxidation Product 4-Hydroxynonenal with Post-Traumatic Stress Disorder. Biomolecules 11(9): 1365. https://doi.org/10.3390/biom11091365
- Петухов ВА (2003) Липидный дистресс-синдром. М. ВЕДИ. [Petukhov VA (2003) Lipid distress syndrome. M. VEDI. (In Russ)].
- Петухов ВА, Магомедов МС (2007) Липидный дистресс-синдром Савельева: 20 лет спустя. Поликлиника 2: 90–94. [Petukhov VA, Magomedov MS (2007) Saveliev's lipid distress syndrome: 20 years later. Poliklinika 2: 90–94. (In Russ)].
- Савельев ВС, Петухов ВА, Каралкин АВ, Фомин ДК (2002) Внепеченочные билиарные дисфункции при липидном дистресс-синдроме: этиопатогенез, диагностика и принципы лечения. Русск мед журн 2: 62. [Savelyev VS, Petukhov VA, Karalkin AV, Fomin DK (2002) Extrahepatic biliary dysfunction in10.1002/hep.32028 lipid distress syndrome: etiopathogenesis, diagnosis and principles of treatment. Russ Med J 2: 62. (In Russ)].
- Du J, Zhu M, Bao H, Li B, Dong Y, Xiao C, Zhang GY, Henter I, Rudorfer M, Vitiello B (2016) The Role of Nutrients in Protecting Mitochondrial Function and Neurotransmitter Signaling: Implications for the Treatment of Depression, PTSD, and Suicidal Behaviors. Crit Rev Food Sci Nutr 56(15): 2560–2578. https://doi.org/ 10.1080/10408398.2013.876960
- Wang Y, Yutuc E, Griffiths WJ (2021) Cholesterol metabolism pathways – are the intermediates more important than the products? FEBS J 288(12): 3727–3745. https://doi.org/ 10.1111/febs.15727
- Wang Y, Pandak WM, Hylemon PB, Min HK, Min J, Fuchs M, Sanyal AJ, Ren S (2023) Cholestenoic Acid as Endogenous Epigenetic Regulator Decreases Hepatocyte Lipid Accumulation in Vitro and in Vivo. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 326(2): G147–G162. https://doi.org/ 10.1152/ajpgi.00184.2023
- Peng Z, Duggan MR, Dark HE, Daya GN, An Y, Davatzikos C, Erus G, Lewis A, Moghekar AR, Walker KA (2022) Association of liver disease with brain volume loss, cognitive decline, and plasma neurodegenerative disease biomarkers. Neurobiol Aging 120: 34–42. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2022.08.004
- Bharti V, Bhardwaj A, Elias DA, Metcalfe AWS, Kim JS (2022) A Systematic Review and Meta-Analysis of Lipid Signatures in Post-traumatic Stress Disorder. Front Psychiatry 13: 847310. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.847310
- Bell AS, Wagner J, Rosoff DB, Lohoff FW (2023) Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) in the central nervous system. Neurosci Biobehav Rev 149: 105155. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105155
- Barale C, Melchionda E, Morotti A, Russo I (2021) PCSK9 Biology and Its Role in Atherothrombosis. Int J Mol Sci 22(11): 5880. https://doi.org/ 10.3390/ijms22115880
- Jaafar AK, Techer R, Chemello K, Lambert G, Bourane S (2023) PCSK9 and the nervous system: a no-brainer? J Lipid Res 64(9): 100426. https://doi.org/ 10.1016/j.jlr.2023.100426
- Agnello F, Mauro MS, Rochira C, Landolina D, Finocchiaro S, Greco A, Ammirabile N, Raffo C, Mazzone PM, Spagnolo M, Occhipinti G, Imbesi A, Giacoppo D, Capodanno D (2023) PCSK9 inhibitors: current status and emerging frontiers in lipid control. Expert Rev Cardiovasc Ther 23: 1–18. https://doi.org/ 10.1080/14779072.2023.2288169
- Vilella A, Bodria M, Papotti B, Zanotti I, Zimetti F, Remaggi G, Elviri L, Potì F, Ferri N, Lupo MG, Panighel G, Daini E, Vandini E, Zoli M, Giuliani D, Bernini F (2023) PCSK9 ablation attenuates Aβ pathology, neuroinflammation and cognitive dysfunctions in 5XFAD mice. Brain Behav Immun 115: 517–534. https://doi.org/ 10.1016/j.bbi.2023.11.008
- Cai J, Rimal B, Jiang C, Chiang JYL, Patterson AD (2022) Bile acid metabolism and signaling, the microbiota, and metabolic disease. Pharmacol Ther 237: 108238. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2022.108238
- Kriaa A, Bourgin M, Potiron A, Mkaouar H, Jablaoui A, Gérard P, Maguin E, Rhimi M (2019) Microbial impact on cholesterol and bile acid metabolism: current status and future prospects. J Lipid Res 60(2): 323–332. https://doi.org/ 10.1194/jlr.R088989
- Simbrunner B, Trauner M, Reiberger T (2021) Review article: therapeutic aspects of bile acid signalling in the gut-liver axis. Aliment Pharmacol Ther 54(10): 1243–1262. https://doi.org/ 10.1111/apt.16602
- Teratani T, Mikami Y, Nakamoto N, Suzuki T, Harada Y, Okabayashi K, Hagihara Y, Taniki N, Kohno K, Shibata S, Miyamoto K, Ishigame H, Chu PS, Sujino T, Suda W, Hattori M, Matsui M, Okada T, Okano H, Inoue M, Yada T, Kitagawa Y, Yoshimura A, Tanida M, Tsuda M, Iwasaki Y, Kanai T (2020) The liver-brain-gut neural arc maintains the Treg cell niche in the gut. Nature 585(7826): 591–596. https://doi.org/ 10.1038/s41586–020–2425–3
- Lin H, Wang L, Liu Z, Long K, Kong M, Ye D, Chen X, Wang K, Wu KK, Fan M, Song E, Wang C, Hoo RL, Hui X, Hallenborg P, Piao H, Xu A, Cheng KK (2022) Hepatic MDM2 Causes Metabolic Associated Fatty Liver Disease by Blocking Triglyceride-VLDL Secretion via ApoB Degradation. Adv Sci (Weinh) 9(20): e2200742. https://doi.org/ 10.1002/advs.202200742
- Ke S, Hartmann J, Ressler KJ, Liu YY, Koenen KC (2023) The emerging role of the gut microbiome in posttraumatic stress disorder. Brain Behav Immun 114: 360–370. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2023.09.005
- Bajaj JS, Sikaroodi M, Fagan A, Heuman D, Gilles H, Gavis EA, Fuchs M, Gonzalez-Maeso J, Nizam S, Gillevet PM, Wade JB (2019) Posttraumatic stress disorder is associated with altered gut microbiota that modulates cognitive performance in veterans with cirrhosis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 317: G661–G669. https://doi.org/10.1152/ajpgi.00194.2019
- Bastiaanssen TFS, Cowan CSM, Claesson MJ, Dinan TG, Cryan JF (2019) Making Sense of the Microbiome in Psychiatry. Int J Neuropsychopharmacol 22(1): 37–52. https://doi.org/ 10.1093/ijnp/pyy067
- Xiao L, Liu S, Wu Y, Huang Y, Tao S, Liu Y, Tang Y, Xie M, Ma Q, Yin Y, Dai M, Zhang M, Llamocca E, Gui H, Wang Q (2023) The interactions between host genome and gut microbiome increase the risk of psychiatric disorders: Mendelian randomization and biological annotation. Brain Behav Immun 113: 389–400. https://doi.org/ 10.1016/j.bbi.2023.08.003
- Montiel-Castro AJ, González-Cervantes RM, Bravo-Ruiseco G, Pacheco-López G (2013) The microbiota-gut-brain axis: neurobehavioral correlates, health and sociality. Front Integr Neurosci 7: 70. https://doi.org/ 10.3389/fnint.2013.00070
- Douglas-Escobar M, Elliott E, Neu J (2013) Effect of intestinal microbial ecology on the developing brain. JAMA Pediatr 167(4): 374–379. https://doi.org/ 10.1001/jamapediatrics.2013.497
- Xiao L, Liu S, Wu Y, Huang Y, Tao S, Liu Y, Tang Y, Xie M, Ma Q, Yin Y, Dai M, Zhang M, Llamocca E, Gui H, Wang Q (2023) The interactions between host genome and gut microbiome increase the risk of psychiatric disorders: Mendelian randomization and biological annotation. Brain Behav Immun 113: 389–400. https://doi.org/ 10.1016/j.bbi.2023.08.003
- Molina-Torres G, Rodriguez-Arrastia M, Roman P, Sanchez-Labraca N, Cardona D (2019) Stress and the gut microbiota-brain axis. Behav Pharmacol 30 (2 and 3-Spec Issue): 187–200. https://doi.org/ 10.1097/FBP.0000000000000478
- Gao F, Guo R, Ma Q, Li Y, Wang W, Fan Y, Ju Y, Zhao B, Gao Y, Qian L, Yang Z, He X, Jin X, Liu Y, Peng Y, Chen C, Chen Y, Gao C, Zhu F, Ma X (2022) Stressful events induce long-term gut microbiota dysbiosis and associated post-traumatic stress symptoms in healthcare workers fighting against COVID-19. J Affect Disord 303: 187–195. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.02.024
- Malan-Müller S, Valles-Colomer M, Palomo T, Leza JC (2023) The gut-microbiota-brain axis in a Spanish population in the aftermath of the COVID-19 pandemic: microbiota composition linked to anxiety, trauma, and depression profiles. Gut Microbes 15: 2162306. https://doi.org/10.1080/19490976.2022.2162306
- Pearson-Leary J, Zhao C, Bittinger K, Eacret D, Luz S, Vigderman AS, Dayanim G, Bhatnagar S (2020) The gut microbiome regulates the increases in depressive-type behaviors and in inflammatory processes in the ventral hippocampus of stress vulnerable rats. Mol Psychiatry 25: 1068–1079. https://doi.org/ 10.1038/s41380–019–0380-x
- Клёсов РА, Каркищенко НН, Степанова ОИ, Матвеенко ЕЛ (2020) Лекарственное поражение гастроинтестинальной системы и пути ее коррекции (обзор). Биомедицина 16(3): 14–34. [Klesov RA, Karkischenko NN, Stepanova OI, Matveyenko EL (2020) Drug-Induced Injury of the Gastrointestinal System and Methods for Its Correction (A Review). J Biomed 16(3): 14–34. (In Russ)]. https://doi.org/ 10.33647/2074–5982–16–3–14–34
- Alagiakrishnan K, Halverson T (2021) Microbial Therapeutics in Neurocognitive and Psychiatric Disorders. J Clin Med Res 13: 439–459. https://doi.org/10.14740/jocmr4575
- Halverson T, Alagiakrishnan K (2020) Gut microbes in neurocognitive and mental health disorders. Ann Med 52(8): 423–443. https://doi.org/10.1080/07853890.2020.1808239
- Снегирева НА, [Сидорова ЕВ], Дьяков ИН, Гаврилова МВ, Чернышова ИН, Пашков ЕП, Свитич ОА (2021) IgM- и IgA-ответ перитонеальных B1-клеток на Т-независимый антиген второго рода в присутствии γδT-клеток in vitro. Мед иммунол 23(2): 245–256. [Snegireva NA, [Sidorova EV], Dyakov IN, Gavrilova MV, Chernishova IN, Pashkov EP, Svitich OA (2021) IgM- and IgA-response of peritoneal B1 cells to the TI-2 antigen with in vitro presence of yôTcells". Med Immunol 23(2): 245–256. (In Russ)]. https://doi.org/ 10.15789/1563–0625-IAI-2157
- Renga G, Moretti S, Oikonomou V, Borghi M, Zelante T, Paolicelli G, Costantini C, De Zuani M, Villella VR, Raia V, Del Sordo R, Bartoli A, Baldoni M, Renauld JC, Sidoni A, Garaci E, Maiuri L, Pucillo C, Romani L (2018) IL-9 and Mast Cells Are Key Players of Candida albicans Commensalism and Pathogenesis in the Gut. Cell Rep 23: 1767–1778. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.04.034
- Girolamo F, Coppola C, Ribatti D (2017) Immunoregulatory effect of mast cells influenced by microbes in neurodegenerative diseases. Brain Behav Immun 65: 68–89. https://doi.org/ 10.1016/j.bbi.2017.06.017
- Yang G, Yang L, Zhou X (2023) Inhibition of bacterial swimming by heparin binding of flagellin FliC from Escherichia coli strain Nissle 1917. Arch Microbiol 205(8): 286. https://doi.org/ 10.1007/s00203–023–03622–9
- Meadows V, Kennedy L, Ekser B, Kyritsi K, Kundu D, Zhou T, Chen L, Pham L, Wu N, Demieville J, Hargrove L, Glaser S, Alpini G, Francis H (2021) Mast Cells Regulate Ductular Reaction and Intestinal Inflammation in Cholestasis Through Farnesoid X Receptor Signaling. Hepatology 74(5): 2684–2698. https://doi.org/10.1002/hep.32028
- Theoharides TC (2020) The impact of psychological stress on mast cells. Ann Allergy Asthma Immunol 125(4): 388–392. https://doi.org/ 10.1016/j.anai.2020.07.007
- Woźniak E, Owczarczyk-Saczonek A, Placek W (2021) Psychological Stress, Mast Cells, and Psoriasis-Is There Any Relationship? Int J Mol Sci 22: 13252. https://doi.org/10.3390/ijms222413252
- Theoharides TC (2017) Neuroendocrinology of mast cells: Challenges and controversies. Exp Dermatol 26(9): 751–759. https://doi.org/ 10.1111/exd.13288
- Traina G, Cocchi M (2020) Mast cells, astrocytes, arachidonic acid: do they play a role in depression? Appl Sci 10: 3455. https://doi.org/10.3390/app10103455
- Jones MK, Nair A, Gupta M (2019) Mast cells in neurodegenerative disease. Front Cell Neurosci 13: 171. https://doi.org/ 0.3389/fncel.2019.00171
- Kempuraj D, Selvakumar GP, Ahmed ME, Raikwar SP, Thangavel R, Khan A, Zaheer SA, Iyer SS, Burton C, James D, Zaheer A (2020) COVID-19, Mast Cells, Cytokine Storm, Psychological Stress, and Neuroinflammation. Neuroscientist 26: 402–414. https://doi.org/ 10.1177/1073858420941476
- Afrin LB, Weinstock LB, Molderings GJ (2020) Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation syndrome. Int J Infect Dis 100: 327–332. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.016
- Afrin LB, Self S, Menk J, Lazarchick J (2017) Characterization of mast cell activation syndrome. Am J Med Sci 353: 207–215. https://doi.org/ 10.1016/j.amjms.2016.12.013
- Altmüller J, Haenisch B, Kawalia A, Menzen M, Nöthen MM, Fier H, Molderings GJ (2017) Mutational profiling in the peripheral blood leukocytes of patients with systemic mast cell activation syndrome using next generation sequencing. Immunogenetics 69: 359–369. https://doi.org/ 10.1007/s00251–017–0981-y
- Afrin LB, Self S, Menk J, Lazarchick J (2017) Characterization of mast cell activation syndrome. Am J Med Sci 353: 207–215. https://doi.org/ 10.1016/j.amjms.2016.12.013
- Afrin LB, Weinstock LB, Molderings GJ (2020) Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation syndrome. Int J Infect Dis 100: 327–332. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.016
Дополнительные файлы