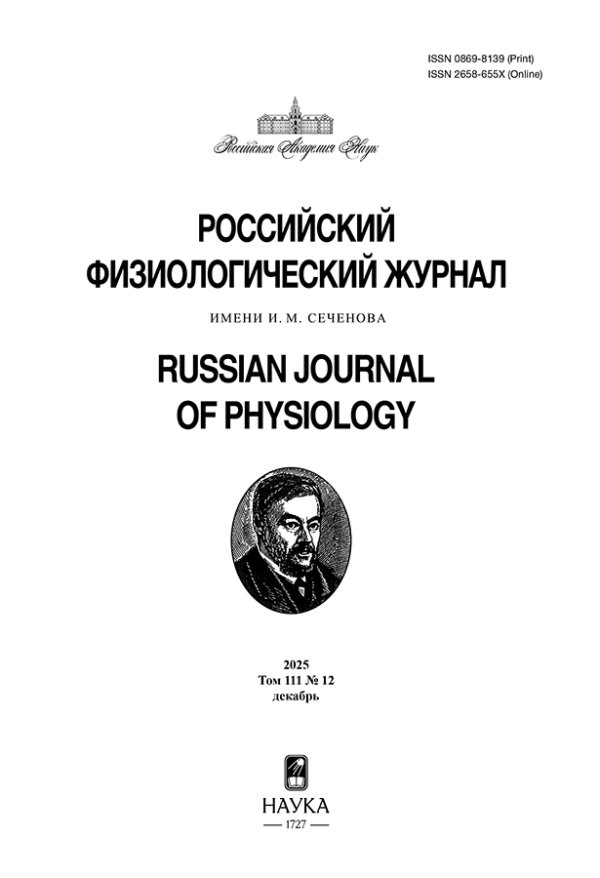Влияние генно-инженерных препаратов на течение асептического некроза головки бедренной кости у крыс
- Авторы: Шабалдин Н.А.1, Синицкая А.В.2, Игишева Л.Н.1,2, Богданов Л.А.2, Шабалдин А.В.1,2
-
Учреждения:
- Кемеровский государственный медицинский университет МЗ РФ
- НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
- Выпуск: Том 110, № 2 (2024)
- Страницы: 169-184
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-8139/article/view/260869
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924020022
- EDN: https://elibrary.ru/DJWLWB
- ID: 260869
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Костная ткань представляет собой динамическую структуру с метаболической функцией. Поддержание гомеостаза кости осуществляется за счет непрерывного процесса ее обновления, ремоделирования. При этом ряд патологических процессов, таких как ишемическая катастрофа, могут привести к нарушению баланса поддержания постоянства костной структуры. Одним из таких заболеваний является асептический некроз головки бедренной кости. В представленном исследовании выполнен анализ динамики экспрессии генов, участвующих в поддержании гомеостаза костной ткани, изменении гистологической картины при развитии асептического некроза головки бедренной кости у лабораторных крыс, не получавших генно-инженерных препаратов и на фоне применения ингибиторов биологического действия IL-6, TNF-α. После индукции асептического некроза в проксимальном эпифизе бедренной кости гистологическая картина у животных разных групп была неодинаковой. Более сохранная костная архитектоника и больший объем костных пластинок зафиксированы у крыс, получавших генно-инженерные препараты по сравнению с животными без введения биологических агентов. У последних имела место и наиболее яркая картина остеодеструкции с усилением экспрессии генов провоспалительных цитокинов. У животных на фоне применения ингибиторов биологического действия IL-6, TNF-α со второй недели после индукции асептического некроза мРНК профиль спонгиозной кости проксимального эпифиза бедра имел тенденцию усиления экспрессии генов остеорепарации. При этом наибольшее угнетение экспрессии генов остеокластогенеза получено у крыс после инъекции моноклонального антитела к рецептору IL-6.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Костная ткань представляет собой динамическую структуру с метаболической функцией, а также является источником кальция, фосфора, большого количества факторов роста, цитокинов и тесно взаимосвязана с гемопоэтической системой [1]. Поддержание гомеостаза кости осуществляется за счет постоянного динамического процесса ремоделирования, который обеспечивает обновление структурной организации, приспособление к воздействиям внешних факторов. При этом костное ремоделирование может быть физиологическим, постоянно протекающим и репаративным, которое возникает вследствие повреждений [2]. Физиологическое ремоделирование обеспечивается большим количеством внутриклеточных, межклеточных сигнальных путей, гормонами, а также другими регуляторными молекулами.
Цикл ремоделирования включает фазы покоя, резорбции, реверсии и неоостеогенеза. Поддержание внутреннего гомеостаза осуществляется вследствие баланса между процессами резорбции устаревших участков костной ткани и образования новых. При этом цикл ремоделирования осуществляется за счет взаимодействия основных клеток кости: остеобластов, остеоцитов, остеокластов. Ряд нозологических форм вызывает смещение баланса динамического поддержания постоянства костной структуры. Одним из таких заболеваний является асептический некроз головки бедренной кости.
Основной этиологической причиной манифестации асептического некроза является формирование зоны гипоперфузии головки бедренной кости. В молодом возрасте и у детей зона дефицита кровоснабжения проксимального эпифиза бедра (медиальная артерия, огибающая бедренную кость) возникает, как правило, вследствие травмы, однако существуют заболевания, при которых причины нарушений в сосудистом русле остаются до конца не изученными.
Патогенез аваскулярного некроза включает в себя сложные нарушения регуляции формирования и резорбции кости, развивающиеся как вторичные изменения метаболизма кости после дебюта ишемической катастрофы, с экспрессией большого количества молекулярных паттернов в зависимости от стадии заболевания. Вследствие кислородного голода в остеоцитах уже через 2–3 ч развиваются изменения в виде формирования ядерного пикноза, вакуолизации цитоплазмы, повреждения клеточной мембраны, в конечном итоге гибели клетки путем апоптоза [3]. Пикноз представляет собой необратимую конденсацию хроматиновой сети в клетке, за которой следует фрагментация ядра. Утилизация остеоцитов происходит за счет работы остеокластов. Процессы несколько отличаются от классического фагоцитоза. Благодаря адгезивным белковым рецепторам-интегринам происходит прикрепление активных остеокластов к костному матриксу. Зона резорбции герметична, межклеточное пространство закисляется с помощью экзоцитоза кислого содержимого вакуолей. Кислая среда разрушает минеральный компонент матрикса, органический компонент растворяется с помощью лизосомальных ферментов остеокластов. Продукты резорбции, а также апоптические остеоциты удаляются из костных лакун по механизму трансцитоза мембранных везикул остеокластов. [4].
Наряду с этим активируются процессы неспецифического воспаления, вопрос о роли которого в регуляции процессов остеодеструкции и репарации после манифестации асептического некроза остается крайне сложным. Центральную роль в воспалительном ответе играют макрофаги. При этом макрофаги могут быть классически активированные (M1) и иметь провоспалительный фенотип, либо альтернативно активированные (М2) и иметь противовоспалительный фенотип, что может определять разрушение либо восстановление тканей [5].
Субпопуляция макрофагов М1 первой обнаруживается в участках костного повреждения [6]. Добавление к клеточной культуре макрофагов некротизированной костной ткани (фракция супернатанта, фракция костного осадка) приводило к повышению экспрессии провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, TNF-α) и TLR4 [7]. При этом блокада TLR4 подавляла пролиферацию и миграцию провоспалительных цитокинов. Вероятно, TLR4 участвуют в механизмах распознавания некротизированных участков костной ткани. Гибель остеоцитов вследствие кислородного голода сопровождается экспрессией молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждениями (DAMP). В свою очередь взаимодействие DAMP с TLR4 приводит к усилению экспрессии провоспалительных цитокинов, преобладанию провоспалительного фенотипа, миграции и активации М1-макрофагов, клеточной пролиферации.
Как было указано выше, манифестация асептического некроза головки бедренной кости связана с гипоперфузией проксимального эпифиза, которая сопровождается усилением транскрипции гипоксически индуцированного фактора 1α (HIF-1α). Основное биологическое действие данной молекулы направлено на улучшение транспорта кислорода в клетки путем индукции ангиогенеза, эритропоэза. Однако в то же время сверхэкспрессия HIF-1α способствует выработке ряда медиаторов воспаления, включая такие провоспалительные цитокины как IL-6, TNFα, IL1β [8]. Большое количество исследовательских работ указывают на повышенную концентрацию провоспалительных цитокинов на 1–2 стадиях асептического некроза головки бедренной кости [9, 10]. Таким образом, сверхэкспрессия HIF-1α, гибель остеоцитов вследствие гипоксического повреждения способствуют активации каскада синтеза медиаторов воспаления.
Основным сигнальным путем, направленным на индукцию остеокластогенеза, является система рецептора активатора ядерного фактора NF-κβ, его лиганда и остеопротегерина (RANK-RANKL-OPG) [11]. Связывание рецептора активатора NF-κβ (RANK) с его лигандом (RANKL) ведет к транслокации ядерного транскрипционного фактора NF-κβ в ядро прогениторных клеток остеокластов, их созреванию и активации. Провоспалительные цитокины способствуют усилению синтеза RANKL, индукции остеокластогенеза [12, 13]. По некоторым данным гистологические признаки активации остеокластов в виде визуализации лакун костной резорбции можно обнаружить уже через 72 ч после манифестации асептического некроза [14].
Биологическое действие провоспалительных цитокинов направлено не только на усиление остеорезорбции, но и на угнетение остеорепарации. Ряд исследователей связывает увеличение концентрации провоспалительного цитокина фактора некроза опухоли-α (TNF-α) со снижением жизнеспособности и индукции апоптоза остеобластов [15, 16] Кроме того, цитокиновая сеть играет важную роль в регуляции остеобластогенеза. Такие цитокины как интерлейкин-10 (IL-10), IL-11, IL-18, интерферон-γ (IFN-γ) способствуют усилению остеобластогенеза, в то время как TNF-α, TNF-β, IL-1α, IL-4, IL-6, IL-7, IL-12, IL-13, IL-23, IFN-α, IFN-β выступают в качестве антиостебластогенных факторов [17].
Остеобластогенез регулируется большим количеством сигнальных путей, включая канонический и неканонический wnt (winglus)/β катенин сигнального пути, JAK (Janus Kinase)/STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription), MAPK (протеинкиназа, активируемая митогенами), процессы фосфорилирования. Наиболее изученным является Wnt/β-катенин-зависимый путь, связанный с процессами регенерации костной ткани. Связывание лиганда Wnt со своим мембранным рецептором приводит к транслокации β-катенина в ядро прогениторных клеток, усилению экспрессии остеобластогенного гена-мишени. В неактивном состоянии β-катенин фосфорилируется белками комплекса разрушения β-катенина, включая аксин. При этом одним из наиболее значимых медиаторов остеобластогенеза является связанный с Runt транскрипционный фактор 2 (RUNX2), который способствует дальнейшему усилению экспрессии остеобластогенных маркеров остеобластов: транскрипционного фактора или остерикса (OSX), щелочной фосфатазы (ALP), коллагена 1-го типа (COL1A1), костных морфогенетических белков (BMP). Провоспалительные цитокины, такие как TNF-α, IL-1α, IL-6, ингибируют экспрессию остеобластогенных маркеров, включая RUNX2, OSX, ALP и COL1A1 в преостеобластогенных клетках, а также снижают интенсивность BMP-индуцированного остеобластогенеза [10, 18]. Так, цитокины могут выступать в качестве потенциальной терапевтической мишени при костно-деструктивных заболеваниях, хотя знания о взаимодействии цитокиновых цепей требуют большего изучения.
В то же время активация воспаления создает условия для дальнейшей регенерации. Исследования показали возможность перехода макрофагов из субпопуляции М1 в М2 при изменении фенотипа. При воздействии противовоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-13, макрофаги М1 могут преобразовываться в альтернативно активированные макрофаги М2 [19]. Тем самым подавление биологического действия медиаторов воспаления на ранних стадиях асептического некроза с целью изменения фенотипа, альтернативной активации макрофагов, субпопуляции М2 и индукции репаративных процессов представляется логичным.
Таким образом, развитие неспецифического воспаления при манифестации аваскулярного некроза с каскадом экспрессии локальных регуляторных факторов, в том числе провоспалительных цитокинов, способствует смещению баланса ремоделирования костной ткани с усилением остеорезорбции и ингибированием остеорепарации. Блокирование биологического действия провоспалительных цитокинов на ранних стадиях асептического некроза может способствовать нормализации функционирования сигналинга, регулирующего костный гомеостаз, угнетению остеодеструкции, сохранению костной ткани.
Цель исследования: сравнить влияние генно-инженерных препаратов ингибиторов биологического действия IL-6, TNFα на коррекцию мРНК профиля спонгиозной кости проксимального эпифиза бедра при развитии асептического некроза в эксперименте.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выполнено экспериментальное исследование на 27 самцах крыс линии Вистар массой 250 ± 25 г в возрасте 3-х месяцев. Всем животным проведено хирургическое вмешательство для индукции асептического некроза головки бедренной кости в виде наложения плотной лигатуры из рассасывающегося шовного материала – викрила вокруг шейки бедренной кости для создания зоны гипоперфузии, а также введения в полость сустава 1.5 мл 2%-ного раствора реополиглюкина для увеличения внутрисуставного давления. Модель индукции асептического некроза головки бедренной кости защищена патентом Российской Федерации «Способ моделирования асептического некроза головки бедренной кости у лабораторных крыс» № 2773606 C1 от 06.06.2022. Животные были разделены на 3 группы: в первую группу вошли 9 животных, не получавших препараты (группа сравнения); вторую группу составили 9 животных, которым проводились инъекции сарилумаба (Кевзара, производитель – Санофи-Винтроп Индастри, Франция) – лечебного моноклонального антитела (подтип IgG1) к рецептору IL-6 (первая основная группа); третья группа состояла из 9 животных, получавших инъекции препаратом этанерцепт (Энбрел, производитель – Пфайзер Мануфэкчуринг Белджиум НВ, Бельгия) – конкурентным ингибитором связывания фактора некроза опухоли (TNF-α) с его рецепторами на поверхности клетки (вторая основная группа). Животные выводились из эксперимента путем декапитации по 3 особи из каждой группы на 4-й, 6-й и 8-й неделе после хирургической индукции аваскулярного некроза.
Схема введения препаратов для второй и третьей исследуемых групп была идентична, инъекции выполнялись каждые две недели с момента начала эксперимента, на 2-й, 4-й и 6-й неделе. Однократная доза препаратов рассчитывалась как 15 мг на 1 кг массы тела. Дозировка генно-инженерных препаратов рассчитывалась исходя из рекомендаций по применению при ювенильных идиопатических артритах в качестве противовоспалительной терапии, при этом несколько превышала максимально рекомендуемую. Данное превышение обусловлено малой массой животных и необходимостью большего подавления биологического действия провоспалительных цитокинов. Тем не менее во время выполнения экспериментальной работы ни у одного животного не наблюдалось нежелательных эффектов, побочных реакций на введение фармакологических препаратов. Представленные дозы лечебных моноклональных блокаторов провоспалительных цитокинов также были использованы в модельных экспериментах на малых животных при исследовании их влияния на патологические процессы [20, 21].
У крыс всех исследуемых групп после выведения из эксперимента проводилась экстирпация обеих бедренных костей, со стороны асептического некроза и условно здоровой, с последующим отсечением проксимального эпифиза. Головка бедренной кости разделялась на две равные части. Одна часть использовалась для гистологического исследования, другая – для оценки мРНК профиля. Гистологический препарат подготавливался бескислотным способом в солях этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), окрашивался гематоксилин-эозином. Для оценки морфометрических показателей использовалась программа ImageJ. Объем костных пластинок определен как пиксельное значение окрашенных пластинок.
Часть головки бедренной кости как пораженной асептическим некрозом, так и условно здоровой использовалась для выделения суммарной РНК набором RNeasyMicroKit (QIAGEN, Германия) согласно протоколу производителя. Предварительно головка бедренной кости обрабатывалась в 0.9%-ном растворе NaCl для удаления попутных форменных элементов крови, РНК выделялась из спонгиозной кости. Качество и количество выделенной РНК определяли на спектрофотометре Qubit 4 (Invitrogen, США) путем оценки индекса RIQ (RNA Integrity and Quality) с использованием набора реагентов Qubit RNA IQ Assay Kit (Invitrogen, США).
Уровень экспрессии генов определяли методом количественной полимеразной цепной реакции (кПЦР) с обратной транскрипцией, используя набор High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (4368814, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, США). Праймеры были синтезированы на приборе ABI 3900 high-throughput DNA synthesiser (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, США) компанией Евроген (Москва, Россия). Результаты кПЦР нормировали с помощью трех референсных генов actb, tbp, b2m в соответствии с имеющимися рекомендациями. Экспрессию изучаемых генов рассчитывали по методу 2-ΔΔСt и выражали в виде кратного изменения относительно экспрессии референсных генов, далее обозначенных как ΔСt исследуемых генов. Особенности экспрессии исследуемых генов у животных основных групп и группы сравнения оценивали по коэффициенту отношения ΔСt на условно здоровой и больной (некроз) конечностях. Исследовалась экспрессия генов: il4, il6, il1b, tnfa, tgfb, sp7, runx2, opn/spp1, bmp2, bglap, rankl, alpl, hif1α.
Статистическую обработку полученных результатов проводили в пакетах программ Statistica for WINDOWS фирмы StatSoftInc (США), версия 10.0 по правилам вариационной статистики. В исследовании были использованы крысы линии Вистар, содержащиеся в одинаковых оптимальных условиях, поэтому W теста Шапиро – Уилка показал нормальное распределение. Количественные данные представляли в виде средней и стандартной ошибки (М ± m). Сравнение значений уровней метрических показателей в несвязанных выборках проводили с помощью критерия Стьюдента. Вероятность ошибки первого уровня была принята за 5%, а второго уровня – за 20%, соответственно уровень статистической значимости выявлялся при p < 0.05, что соответствует стандартным требованиям.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гистологическое исследование продемонстрировало признаки развития остеодеструктивных процессов через 1 месяц после индукции асептического некроза у всех животных. Так, во всех исследуемых группах визуализировались пустые костные лакуны, активные остеокласты (рис. 1). Наблюдалась стратификация групп хондроцитов в гиалиновом хряще у животных группы сравнения, большая часть находилась в наружном слое, в то время как промежуточный характеризовался более низким соотношением клеток к аморфному веществу. У крыс первой и второй основных групп расположение хондроцитов в гиалиновом хряще было более упорядоченное. При этом статистической разницы по объему костной ткани у животных, получавших терапию генно-инженерными препаратами и группы сравнения получено не было.
Рис. 1. Гистологические препараты через 4 недели после индукции асептического некроза. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 400. Группа 1: стратификация хондроцитов, большая часть находится в наружном слое суставного хряща. Группа 2: равномерное расположение хондроцитов. Группа 3: равномерное расположение хондроцитов.
Спустя 6 недель эксперимента между группами наблюдались следующие различия. Проксимальный эпифиз бедренной кости у крыс группы сравнения терял сферичную форму, приобретал эллипсоидную. Потеря объема костных пластинок прогрессировала, визуализировалось большое количество пустых костных лакун, зон остеорезорбции, активных остеокластов. Часть губчатого вещества замещалась плотной фиброзной тканью. Головки бедренных костей у животных первой основной группы характеризовались большим сохранением объема костных пластинок, чем у крыс группы сравнения. Имелись единичные лакуны костной резорбции, активные остеокласты. Наряду с этим визуализировались активные остеобласты. Гистологические препараты животных второй основной группы отобразили больший объем костных пластинок, чем в группе сравнения. Значительная часть хондроцитов располагалась в промежуточном слое (рис. 2).
Рис. 2. Гистологические препараты через 6 недель после индукции асептического некроза. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 800. Группа 1: стрелочкой указаны активные остеокласты в зоне остеорезорбции. Группа 2: стрелочкой указаны активные остеобласты. Группа 3: стрелочкой указаны активные остеобласты на фоне пустых костных лакун.
Через 2 месяца после манифестации аваскулярного некроза в препаратах головок бедренных костей животных группы сравнения определялись признаки не только остеодеструктивных, но и остеорепаративных процессов. Так, на фоне замещения части губчатого вещества фиброзной тканью определялись активные остеобласты и участки минерализации костной ткани. В препаратах животных первой основной группы визуализировались признаки продолжающейся остеорепарации, фиксировалось большое количество активных остеобластов, полнокровных сосудов, минерализации кости. Остеорезорбтивные процессы имели меньшую интенсивность, чем в группе сравнения, сохранялось большее количество костных пластинок, хондроциты в гиалиновом хряще располагались более равномерно, тем не менее у части хондроцитов визуализировались признаки деструкции ядер. Гистологическая картина в проксимальном эпифизе бедренных костей у крыс второй основной группы была схожа с первой основной группой. На фоне снижения объема костных пластинок определялись активные остеобласты, участки неоостеогенеза (рис. 3).
Рис. 3. Гистологические препараты через 8 недель после индукции асептического некроза. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 800. Группа 1: стрелочкой указан участок замещения костной ткани фиброзной. Группа 2: – стрелочкой указаны активные остеобласты, остеоциты в костных лакунах. Группа 3: стрелочкой указан полнокровный сосуд.
Количественная оценка изменений объема костных пластинок отобразила следующее. В группе сравнения отмечалась прогрессирующая потеря объема костной ткани от 4 к 6 неделям после хирургической индукции асептического некроза головки бедренной кости, с незначительным увеличением на 8-й неделе. Тенденция к потере объема костных пластинок в течение 6 недель эксперимента наблюдалась как в первой, так и второй основных группах. Однако получены значимые отличия между группой сравнения и основными группами на 6-й и 8-й неделях. При этом значимых отличий по показателям объема костной ткани между животными, получавшими терапию моноклональным блокатором IL-6 и ингибитором TNF-α, получено не было (табл. 1).
Таблица 1. Гистологические показатели объема костных пластинок (%)
Недели эксперимента | Группа сравнения | Первая основная группа | Вторая основная группа | p-value |
4 недели | 31.45 ± 1.03 | 33.67 ± 1.43 | 32.77 ± 1.23 | > 0.05 |
6 недель | 23.03 ± 1.23 | 30.78 ± 1.32 | 30.22 ± 1.21 | 0.02* |
8 недель | 24.43 ± 1.29 | 31.66 ± 1.36 | 31.19 ± 1.31 | 0.03* |
* – p < 0.05.
В целом гистологическое исследование выявило наиболее ярко протекающие процессы остеодеструкции у крыс, не получавших биологические агенты. При этом остеорезорбтивные процессы прогрессирующе развивались от 4 к 6 неделям, первые признаки остеорепарации зафиксированы лишь на 8-й неделе. Гистологическая картина у крыс, получавших моноклональный блокатор IL-6 и ингибитор TNF-α, была схожа. Остеодеструктивные процессы характеризовались меньшей интенсивностью, хондроциты гиалинового хряща сохраняли в большей степени нормальное расположение, количество лакун костной резорбции было меньше, чем у крыс группы сравнения. При этом уже с 6-й недели после хирургической индукции аваскулярного некроза в первой и второй основных группах визуализировались признаки остеорепарации.
Изменение мРНК профиля генов, участвующих в регуляции костного гомеостаза, могло определять активность остеодеструктивных и остеорепаративных процессов при развитии асептического некроза головки бедренной кости. Первые четыре недели после индукции аваскулярного некроза у крыс, не получавших лечение (группа сравнения), сопровождались угнетением экспрессии гена щелочной фосфатазы (alpl) на фоне сверхэкспрессии гена секретируемого фосфопротеина 1 (spp1). Белок, кодируемый геном spp1, обладает высокой аффинностью к гидроксиапатиту и мембранным белкам остеокластов, тем самым участвуя в адгезии активных остеокластов к костному матриксу в процессе остеорезорбции. У крыс первой основной группы экспрессия гена alpl, напротив, была повышена. Вместе с тем усиливалась активность генов, участвующих в остеорепаративных процессах, таких как гена трансформирующего фактора роста β (tgfβ), гена остеокальцина (bglap). У крыс второй основной группы фиксировалось увеличение экспрессии гена spp1, а также гена транскрипционного фактора (Sp7) (табл. 2).
Таблица 2. Изменение мРНК профиля проксимального эпифиза бедренных костей через 4 недели после индукции асептического некроза (кратность изменения относительно экспрессии референсных генов)
Ген | Группа сравнения | 1-я основная группа | 2-я основная группа |
bmp2 | 1.097 + 0.219 | 0.831 + 0.137 | 0.704 + 0.208 |
alpl | 0.484 + 0.095 | 2.445 + 0.738* | 1.001 + 0.324 |
hif1α | 1.031 + 0.563 | 0.342 + 0.059* | 0.765 + 0.249 |
rankl | 1.216 + 0.609 | 1.157 + 0.583 | 0.887 + 0.291 |
runx2 | 0.934 + 0.319 | 0.891 + 0.204 | 1.051 + 0.318 |
sp7 | 1.051 + 0.421 | 1.774 + 0.538 | 3.056 + 1.147* |
bglap | 0.684 + 0.137 | 3.637 + 0.926* | 0.622 + 0.237 |
spp1 | 7.691 + 1.823 | 0.624 + 0.137* | 2.828 + 0.957* |
tgfβ | 0.964 + 0.371 | 3.092 + 0.957* | 0.943 + 0.326 |
tnf-α | 1.142 + 0.296 | 0.806 + 0.172 | 1.367 + 0.473 |
il6 | 1.125 + 0.325 | 0.79 + 0.148* | 0.835 + 0.285 |
* – значимое различие с группой сравнения, p < 0.05.
Через 6 недель после индукции асептического некроза у крыс группы сравнения становится очевидна роль неспецифического воспаления в патогенезе асептического некроза головки бедренной кости. Усиливалась экспрессия генов провоспалительных цитокинов (il6, tnf-α). Вместе с этим синергично увеличилась активность гена одной из ключевых молекул остеокластогенеза – лиганда рецептора активатора ядерного фактора κβ (rankl). При этом также увеличилась экспрессия генов runx2, alpl на фоне угнетения spp1. В то же время профиль мРНК спонгиозной кости проксимального эпифиза со стороны асептического некроза у крыс, получавших инъекции моноклонального блокатора IL-6 (первая основная группа), характеризовался увеличением активности генов, направленных на остеорепаративные процессы. Увеличивалась экспрессия генов остеоиндукции, таких как bmp2, alpl, sp7, tgfb. Активность гена il-6 значительно угнеталась. У крыс, получавших инъекции ингибитора TNF-α (вторая основная группа), в головках бедренных костей со стороны асептического некроза увеличивалась экспрессия как генов остеорезорбтивного, так и остеорепаративного действия. Кроме того, произошло избирательное подавление экспрессии tnf-α при значимо неизмененной экспрессии il6. Выявлено снижение экспрессии регуляторной молекулы сигнального пути остеокластогенеза (rankl) при усилении экспрессии генов, кодирующих белки остеокластогенеза (bmp2, runx2, sp7) (табл. 3).
Таблица 3. Изменение профиля мРНК проксимального эпифиза бедренных костей через 6 недель после индукции асептического некроза (кратность изменения относительно экспрессии референсных генов)
Ген | Группа сравнения | 1-я основная группа | 2-я основная группа |
bmp2 | 1.613 + 0.419 | 2.462 + 0.816* | 7.141 + 1.918* |
alpl | 2.394 + 0.751 | 2.936 + 0.973 | 3.005 + 1.018 |
hif1α | 0.768 + 0.143 | 1.287 + 0.419 | 0.928 + 0.316 |
rankl | 11.076 + 3.054 | 1.019 + 0.326* | 7.913 + 2.168* |
runx2 | 3.831 + 0.904 | 0.501 + 0.118* | 9.086 + 3.017* |
sp7 | 1.998 + 0.673 | 3.095 + 1.008* | 8.672 + 2.735* |
bglap | 0.702 + 0.179 | 1.043 + 0.307 | 1.659 + 0.548 |
spp1 | 0.447 + 0.103 | 2.297 + 0.713* | 1.014 + 0.351 |
tgfβ | 0.943 + 0.319 | 2.331 + 0.784* | 1.637 + 0.486 |
tnf-α | 14.471 + 4.107 | 1.918 + 0.607* | 2.321 + 0.769* |
il6 | 3.844 + 0.916 | 0.054 + 0.014* | 3.962 + 1.253 |
* – значимое различие с группой сравнения, p < 0.05.
Через 8 недель после хирургической индукции асептического некроза головки бедренной кости у крыс группы сравнения оставалась повышенной активность генов провоспалительных цитокинов (il6, tnf-α). Также была увеличена экспрессия гена spp1. Наряду с этим увеличилась экспрессия генов индукции остеобластогенеза и усиления метаболизма кости (bmp2, alpl). У крыс первой основной группы наиболее активны были гены остеобластогенеза (bmp2, runx2, sp7). При этом профиль мРНК со стороны асептического некроза наиболее соответствовал условно-здоровой стороне из всех исследуемых групп. У животных из второй основной группы значительно усиливалась экспрессия генов остеоиндукции (bmp2, alpl, sp7, bglap, tgfβ). Однако наряду с этим усиливалась экспрессия гена rankl (табл. 4). Необходимо отметить, что через 2 месяца эксперимента у животных, получавших ингибитор как IL-6, так и TNF-α, значимо снизилась экспрессия генов tnf-a и il6. Тем самым оба лечебных моноклональных антитела в длительном временном промежутке блокируют несколько провоспалительных цитокинов (как IL-6, так и TNF-α), возможно, за счет плейотропного эффекта.
Таблица 4. Изменение профиля мРНК проксимального эпифиза бедренных костей через 8 недель после индукции асептического некроза (кратность изменения относительно экспрессии референсных генов)
Ген | Группа сравнения | 1-я основная группа | 2-я основная группа |
bmp2 | 2.602 + 0.803 | 2.373 + 0.805 | 3.852 + 1.243* |
alpl | 2.087 + 0.657 | 1.457 + 0.432* | 4.206 + 1.917* |
hif1α | 0.549 + 0.153 | 0.989 + 0.328 | 1.551 + 0.527 |
rankl | 1.804 + 0.604 | 1.884 + 0.579 | 3.119 + 1.036* |
runx2 | 1.276 + 0.428 | 2.145 + 0.692* | 1.835 + 0.672 |
sp7 | 1.491 + 0.501 | 2.087 + 0.713* | 4.457 + 1.035 |
bglap | 1.695 + 0.539 | 1.868 + 0.617 | 8.023 + 2.907* |
spp1 | 3.127 + 1.012 | 0.962 + 0.329* | 0.518 + 0.174 |
tgfβ | 1.013 + 0.326 | 1.464 + 0.507 | 8.331 + 2.841* |
tnf-α | 13. 62 + 4.084 | 1.316 + 0.436* | 1.766 + 0.724* |
il6 | 15.927 + 5.247 | 1.458 + 0.519* | 0.218 + 0.086* |
* – значимое различие с группой сравнения, p < 0.05.
Эффективность применения лечебных моноклональных антител у животных можно связать со значительной схожестью генома лабораторных крыс и человека, которая составляет до 90% [22]. Кроме того, рекомбинантные лечебные моноклональные антитела представляют собой легкие и/или тяжелые участки фрагментов, распознающих эпитоп (fragment antibody – Fab) иммуноглобулинов, лишенных всех остальных участков, в том числе связывающих компоненты комплемента. Это снижает их видоспецифичность. Кроме того, многочисленные экспериментальные работы, посвященные исследованию терапевтического влияния ингибирования биологического действия провоспалительных цитокинов, выполненные на лабораторных крысах с использованием лечебных моноклональных антител, подтверждают рациональность использования данной группы препаратов [17, 20, 21].
В целом изменения гистологической картины и профиля мРНК по мере развития асептического некроза головки бедренной кости от 4 к 8 неделям свидетельствуют об активности неспецифического воспаления, прогрессивном усилении остеокластогенеза, остеорезорбтивных процессов у крыс группы сравнения от 4 к 6 неделям. Активация остеобластогенеза, начало остеорепарации зафиксировано лишь на 8-й неделе после индукции аваскулярного некроза, в то время как у животных, получавших инъекции генно-инженерными препаратами блокаторов биологического действия провоспалительных цитокинов, наблюдалось менее значительное развитие воспаления и наряду с этим менее интенсивные процессы остеодеструкции. Остеорепарация на фоне сверхэкспрессии генов остеоиндуктивного действия зафиксирована на 6-й и 8-й неделях патогенеза аваскулярного некроза как у крыс первой, так и второй основной групп. Профиль мРНК наиболее соответствовал условно-здоровой конечности у крыс, получавших инъекции моноклональным блокатором IL-6.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Коррекция нарушений сигналинга регуляции костного гомеостаза при развитии аваскулярного некроза головки бедренной кости занимает ведущую роль в разработке таргетной терапии, направленной на угнетение остеорезорбции и усиление остеорепарации [20, 21, 23]. Разработка биоинженерных стратегий терапии костной деструкции включает в себя применение генно-инженерных препаратов, направленных на нормализацию функционирования сигнальных путей остеогенеза путем ингибирования тех или иных патологических молекулярных паттернов [3].
Изменения профиля мРНК спонгиозной кости проксимального эпифиза бедра по мере развития асептического некроза напрямую влияло на активность остеорезорбции и остеорепарации в представленном исследовании. Течение асептического некроза головки бедренной кости у крыс, не получавших лечение, сопровождалось прогрессирующим развитием остеодеструктивных процессов с усилением экспрессии генов провоспалительных цитокинов, остеокластогенеза от 4 к 8 неделям. При этом признаки остеорепаративных процессов с увеличением активности генов остеогенеза отмечались лишь на 8-й неделе. Терапия генно-инженерными препаратами способствовала ингибированию воспаления, угнетению экспрессии генов провоспалительных цитокинов, остеокластогенеза, усилению остеорепаративных процессов, активности генов остеоиндукции. Однако профили мРНК головок бедренных костей у крыс первой и второй основных групп имели отличия.
Первые 4 недели после индукции асептического некроза сопровождались наименее выраженными изменениями в профиле мРНК. У крыс, не получавших лечение, усиливалась активность гена spp1, кодирующего белок адгезии остеокластов к костному матриксу. Увеличение экспрессии представленного гена может свидетельствовать об усилении активности остеорезорбции. При этом других значительных изменений в профиле мРНК не было обнаружено.
Терапия моноклональным блокатором IL-6 у крыс первой основной группы способствовала ингибированию экспрессии гена il6 на весь период эксперимента. мРНК-профиль головки бедренной кости отличался от группы сравнения в первую очередь большей активацией генов остеоиндукции. Так, уже первые 4 недели эксперимента сопровождались усилением экспрессии генов alpl, bglap, tgfb, кодирующих белки остеогенеза, ангиогенеза, метаболизма костной ткани. При этом стоит отметить ингибирование активности гена hif-1α. Белок HIF-1α рассматривается рядом авторов как один из наиболее важных пусковых факторов каскада развития остеодеструктивных процессов [8, 24]. Так, ранее выполненное исследование отобразило сверхэкспрессию данного гена при манифестации аваскулярного некроза головки бедренной кости у крыс линии Вистар [25].
У крыс, получавших инъекции ингибиторов активности TNF-α, активность гена spp1 была повышена так же, как у животных, не получавших терапии. Однако наряду с этим усиливалась экспрессия гена медиатора остеобластогенеза sp7. Представленные результаты могут свидетельствовать о влиянии ингибирования воспаления не только на интенсивность остеокластогенеза, но и остеоиндуктивные процессы.
Последующие 6 недель наиболее очевидно продемонстрировали значимость неспецифического воспаления в процессах регуляции костного гомеостаза. Сверхэкспрессия генов провоспалительных цитокинов (il6, tnf-α) у крыс группы сравнения сопровождалась значительным повышением активности гена rankl. Известно, что провоспалительные цитокины обладают прорезорбтивным эффектом. При этом биологическое действие таких цитокинов, как IL-6, TNF-α обладает синергизмом. Увеличение концентрации IL-6, TNF-α стимулирует выработку RANKL стромальными клетками и остеокластами, что, в свою очередь, приводит к активации сигнального пути RANK-RANKL-OPG и усилению остекластогенеза. Усиление остеодеструкции подтверждается данными гистологического морфометрического исследования. Наряду с этим усиливалась экспрессия гена runx2, кодирующего один из ключевых медиаторов остеобластогенеза. Однако остеорепаративных процессов по данным гистологии не было зафиксировано, что может говорить о недостаточной активности лишь одного из медиаторов остеоиндукции.
У крыс первой основной группы сохранялась сверхэкспрессия генов, направленных на усиление остеорепарации, так, увеличивалась экспрессия генов основных медиаторов остеобластогенеза bmp2, sp7, гена трансформирующего фактора роста (tgfb), кодирующего протеин ангиогенеза, гена щелочной фосфатазы (alpl), способствующего усилению метаболических процессов в костной ткани. Экспрессия гена il6 была значительно угнетена, хотя отмечалось увеличение экспрессии гена другого провоспалительного цитокина tnf-α. Тем не менее экспрессия гена rankl не отличалась от условно-здоровой конечности. Особенности мРНК-профиля соответствовали гистологической картине в препаратах головок бедренных костей. Остеодеструктивные процессы носили значительно менее выраженный характер, чем у крыс, не получавших терапию, при этом уже на 6-й неделе визуализировались признаки остеорепарации.
Усиление экспрессии генов, направленных на усиление остеогенеза (bmp2, alpl, runx2, sp7), отмечалось также у животных второй основной группы. При этом интенсивность активности представленных генов была выше, чем у животных первой основной группы. Однако наряду с этим экспрессия генов провоспалительных цитокинов (il-6, tnf-α), а также гена rankl была также повышена. Гистологическая картина отличалась от группы сравнения менее выраженными процессами остеодеструкции, в то же время изменения в головках бедренных костей у крыс первой и второй основных групп не имели ярких отличий.
Через 2 месяца после манифестации асептического некроза в препаратах головок бедренных костей у животных группы сравнения визуализировались признаки костной регенерации. При этом мРНК-профиль характеризовался усилением экспрессии гена bmp2, кодирующего ключевой медиатор остеобластогенеза, alpl, увеличение концентрации щелочной фосфатазы может свидетельствовать об усилении интенсивности процессов минерализации кости. Кроме того, незначительно усилилась активность генов sp7, bglap, которые также могут выступать в качестве маркеров остеобластогенеза. Однако сохранение увеличенной экспрессии генов провоспалительных цитокинов (tnf-α, il6) подтверждает пролонгированное влияние воспаления на регуляцию костного гомеостаза.
Профиль мРНК у крыс первой основной группы сохранял признаки преобладания экспрессии генов остеоиндукции. К сохраняющим повышенную активность генам bmp2, sp7 добавилась сверхэкспрессия гена runx2. Так, экспрессия всех из исследуемых генов, кодирующих белки остеобластогенеза, через 2 месяца после индукции асептического некроза головки бедренной кости была повышена на фоне приема моноклонального блокатора IL-6. При этом гистологическая картина характеризовалась большим сохранением объема костных пластин, чем у крыс, не получавших лечение, наличием признаков активной реваскуляризации, остеорепарации.
Сверхэкспрессия генов остеоиндуктивной направленности (bmp2, alpl, runx2, sp7) сохранялась через 8 недель после индукции асептического некроза у животных, получавших терапию ингибитором активности TNF-α. В то же время увеличенная активность гена rankl может свидетельствовать об интенсивном остеокластогенезе. Тем не менее гистологическая картина препаратов головок бедренных костей указывала на активные остеорепаративные процессы на фоне слабо выраженной остеодеструкции. Логично предположить, что на уровне межклеточных взаимодействий более интенсивный остеобластогенез может подавлять активность остеокластогенеза.
Таким образом, разработка таргетной терапии асептического некроза головки бедренной кости позволит значительно улучшить результаты лечения. Применение генно-инженерных препаратов ингибиторов биологического действия провоспалительных цитокинов на ранних стадиях асептического некроза с целью угнетения остеодеструктивных процессов, усиления остеорепарации является перспективным направлением дальнейшего изучения. Экономическая составляющая клинического применение генно-инженерных препаратов сопряжена с высокой стоимостью данной группы лекарственных средств. Тем не менее затраты на хирургическое лечение, реабилитацию пациентов, а в некоторых случаях повторные оперативные вмешательства могут в несколько раз превышать затраты на использование патогенетически обоснованной терапии.
Выполненное исследование отобразило, что наиболее яркая картина остеодеструкции с усилением экспрессии генов провоспалительных цитокинов, остеокластогенеза от 4-й к 8-й неделям эксперимента наблюдалась у животных, не получавших лечения. Большее сохранение костной архитектоники и объема костных пластин зафиксированы у крыс, получавших терапию генно-инженерными препаратами ингибирования биологического действия провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α. мРНК-профиль головок бедренных костей у животных первой и второй основных групп имел тенденцию усиления экспрессии генов остеорепарации по сравнению с группой сравнения. Однако активность генов остеогенеза у животных с применением разных вариантов терапии имела отличия. Наибольшее угнетение экспрессии генов провоспалительных цитокинов, остеокластогенеза получено у крыс, получавших инъекции моноклональным блокатором IL-6. Тем не менее следует учитывать, что особенности регуляции процессов остеорезорбции, остеорепарации на молекулярно-клеточном уровне не определяются изолированными изменениями в экспрессии генов медиаторов сигнальных путей остеокластогенеза, остеобластогенеза. Синтез некоторых регуляторных протеинов кодируется на посттрансляционном уровне с задействованием альтернативного сплайсинга. Так, эффективность применения различных групп генно-инженерных препаратов, особенности взаимодействия цитокинов сетей, способы коррекции нарушений регуляции костного гомеостаза при развитии асептического некроза требуют дальнейшего изучения.
Вывод: Применение генно-инженерных препаратов ингибиторов биологического действия провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α способствовало снижению активности процессов остеодеструкции, усилению остеорепарации при развитии асептического некроза головки бедренной кости. Наиболее эффективно угнетал активность экспрессии генов провоспалительных цитокинов, остеокластогенеза препарат моноклонального блокатора IL-6.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы, хирургические манипуляции, написание статьи – Н. А. Ш., выделение, анализ экспрессии генов – А. В. С., разработка концепции и дизайна, анализ и интерпретация данных – Л. Н. И., подготовка гистологических препаратов, выполнение гистологических исследований, этапное редактирование статьи – Л. А. Б., обработка данных, редактирование статьи – А. В. Ш.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств гранта «Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук», МК-4132.2022.3. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями и были одобрены Комиссией по этике Кемеровского государственного медицинского университет МЗ РФ, протокол №1 от 9.02.2023 г.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
Н. А. Шабалдин
Кемеровский государственный медицинский университет МЗ РФ
Автор, ответственный за переписку.
Email: shabaldin.nk@yandex.ru
Россия, Кемерово
А. В. Синицкая
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Email: shabaldin.nk@yandex.ru
Россия, Кемерово
Л. Н. Игишева
Кемеровский государственный медицинский университет МЗ РФ; НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Email: shabaldin.nk@yandex.ru
Россия, Кемерово; Кемерово
Л. А. Богданов
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Email: shabaldin.nk@yandex.ru
Россия, Кемерово
А. В. Шабалдин
Кемеровский государственный медицинский университет МЗ РФ; НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Email: shabaldin.nk@yandex.ru
Россия, Кемерово; Кемерово
Список литературы
- Смирнов АВ, Румянцев АШ (2014) Строение и функции костной ткани в норме и при патологии. Сообщение I. Нефрология 18(6): 9–25. [Smirnov AB, Rumyantsev ASH (2014) The structure and functions of bone tissue in normal and pathological conditions. Message I. Nephrology 18(6): 9–25. (In Russ)].
- Мироманов АМ, Гусев КА (2021). Гормональная регуляция остеогенеза: обзор литературы. Травматол и ортопед России 27 (4): 120–130. [Miromanov AM, GusevKA (2021). Hormonal regulation of osteogenesis: a literature review. Traumatol and Orthoped of Russia 27 (4): 120–130. (In Russ)]. https://doi.org/10.21823/2311-2905-1609
- Murab S, Hawk T, Snyder A, Herold S, Totapally M, Whitlock PW (2021) Tissue Engineering Strategies for Treating Avascular Necrosis of the Femoral Head. Bioengineering 8(12): 200. https://doi.org/10.3390/bioengineering8120200
- Камилов ФХ, Фаршатова ЕР, Еникеев ДА (2014) Клеточно-молекулярные механизмы ремоделирования костной ткани и ее регуляция. Фундамент исследов 7 (4): 836–842. [Kamilov FH, Farshatova ER, Enikeev DA (2014) Cellular-molecular mechanisms of bone tissue remodeling and its regulation. Fundamenе Res 7(4): 836–842. (In Russ)].
- Batoon L, Millard SM, Raggatt LJ, Pettit AR (2017) Osteomacs and bone regeneration. Current Osteopor Rep 15: 385–395. https://doi.org/10.1007/s11914-017-0384-x
- Иванюк ЕЭ, Надеждин СВ, Покровская ЛА, Шуплецова ВВ, Хазиахматова ОГ, Юрова КА, Малащенко ВВ, Литвинова ЛС, Хлусов ИА (2018) Субпопуляции макрофагов и мезенхимные стволовые клетки в регуляции ремоделирования костной ткани. Цитология 60(4): 252–261. [Ivanyuk EE, Nadezhdin SV, Pokrovskaya LA, Shupletsova VV, Haziakhmetova OG, Ogyurova KA, Malashchenko VV, Litvinova LS, Khlusov AA (2018) Macrophage subpopulations and mesenchymal stem cells in the regulation of bone remodeling. Cytology 60(4): 252–261. (In Russ)].]
- Adapala NS, Yamaguchi R, Phipps M, Aruwajoye O, Kim HKW (2016) Necrotic bone stimulates proinflammatory responses in macrophages through the activation of toll-like receptor 4. Am J Pathol 186(11): 2987–2999. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajpath.2016.06.024
- Yellowley CE, Genetos DC (2019) Hypoxia signaling in the skeleton: implications for bone health. Current Osteopor Rep 17: 26–35. https://doi.org/10.1007/s11914-019-00500-6
- Ren Y, Deng Z, Gokani V, Kutschke M, Mitchell TW, Aruwajoye O, Kim HK (2021) Anti-Interleukin-6 Therapy Decreases Hip Synovitis and Bone Resorption and Increases Bone Formation Following Ischemic Osteonecrosis of the Femoral Head. J Bone Mineral Res 36(2): 357–368. https://doi.org/10.1002/jbmr.4191
- Shah KN, Racine J, Jones LC, Aaron RK (2015) Pathophysiology and risk factors for osteonecrosis. Current Rev Musculoskel Med 8: 201–209. https://doi.org/10.1007/s12178-015-9277-8
- Udagawa N, Koide M, Nakamura M, Nakamichi Y, Yamashita T, Uehara S, Tsuda E (2021) Osteoclast differentiation by RANKL and OPG signaling pathways. J Bone Mineral Metabol 39: 19–26. https://doi.org/10.1007/s00774-020-01162-6
- Amarasekara DS, Yun H, Kim S, Lee N, Kim H, Rho J (2018) Regulation of osteoclast differentiation by cytokine networks. Immune Netw 18(1). https://doi.org/10.4110/in.2018.18.e8
- Zhu J, Tang Y, Wu Q, Ji YC, Feng ZF, Kang FW (2019) HIF-1α facilitates osteocyte-mediated osteoclastogenesis by activating JAK2/STAT3 pathway in vitro. J Cell Physiol 234(11): 21182–21192. https://doi.org/10.1002/jcp.28721
- Sun M, Yang J, Wang J, Hao T, Jiang D, Bao G, Liu G (2016) TNF-α is upregulated in T2DM patients with fracture and promotes the apoptosis of osteoblast cells in vitro in the presence of high glucose. Cytokine 80: 35–42. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2016.01.011
- Zheng LW, Wang WC, Mao XZ, Luo YH, Tong ZY, Li D (2020) TNF-α regulates the early development of avascular necrosis of the femoral head by mediating osteoblast autophagy and apoptosis via the p38 MAPK/NF-κB signaling pathway. Cell Biol Int 44(9): 1881–1889. https://doi.org/10.1002/cbin.11394
- Amarasekara DS, Kim S, Rho J (2021) Regulation of Osteoblast Differentiation by Cytokine Networks. Int J Mol Sci 22(6): 2851. https://doi.org/10.3390/ijms22062851
- Zuo C, Zhao X, Shi Y, Wu W, Zhang N, Xu J, Wang C, Hu G, Zhang X (2017) TNF-α inhibits SATB2 expression and osteoblast differentiation through NF-κB and MAPK pathways. Oncotarget 9: 4833–4850. https:/doi.org/10.18632/oncotarget.23373
- Guo C, Yang XG, Wang F, Ma XY (2016) IL-1α induces apoptosis and inhibits the osteoblast differentiation of MC3T3-E1 cells through the JNK and p38 MAPK pathways. Int J Mol Med 38: 319–327. https://doi.org/10.3892/ijmm.2016.2606
- Gu Q, Yang H, Shi Q (2017) Activation of macrophages in response to biomaterials. JOT 10: 86–93.
- Ibrahim YF, Moussa RA, Bayoumi AM, Ahmed ASF (2020) Tocilizumab attenuates acute lung and kidney injuries and improves survival in a rat model of sepsis via down-regulation of NF-κB/JNK: a possible role of P-glycoprotein. Inflammopharmacology 28: 215–230. https://doi.org/10.1007/s10787-019-00628-y
- Leo A, Nesci V, Tallarico M, Amodio N, Gallo Cantafio EM, De Sarro G, Citraro R (2020) IL-6 receptor blockade by tocilizumab has anti-absence and anti-epileptogenic effects in the WAG/Rij rat model of absence epilepsy. Neurotherapeutics 17: 2004–2014. https://doi.org/10.1007/s13311-020-00893-8
- Gibbs RA, Weinstock GM, Metzker ML, Muzny DM, Sodergren EJ, Scherer S, Scott G, Steffen D, Worley KC, Burch PE, Okwuonu G, Hines S, Lewis L, DeRamo C, Delgado O, Dugan-Rocha S, Miner G, Morgan M, Hawes A, Gill R, Celera, Holt RA, Adams MD, Amanatides PG, Baden-Tillson H, Barnstead M, Chin S, Evans CA, Ferriera S, Fosler C, Glodek A, Gu Z, Jennings D, Kraft CL, Nguyen T, Pfannkoch CM, Sitter C, Sutton GG, Venter JC, Woodage T, Smith D, Lee HM, Gustafson E, Cahill P, Kana A, Doucette-Stamm L, Weinstock K, Fechtel K, Weiss RB, Dunn DM, Green ED, Blakesley RW, Bouffard GG, De Jong PJ, Osoegawa K, Zhu B, Marra M, Schein J, Bosdet I, Fjell C, Jones S, Krzywinski M, Mathewson C, Siddiqui A, Wye N, McPherson J, Zhao S, Fraser CM, Shetty J, Shatsman S, Geer K, Chen Y, Abramzon S, Nierman WC, Havlak PH, Chen R, Durbin KJ, Egan A, Ren Y, Song XZ, Li B, Liu Y, Qin X, Cawley S, Worley KC, Cooney AJ, D’Souza LM, Martin K, Wu JQ, Gonzalez-Garay ML, Jackson AR, Kalafus KJ, McLeod MP, Milosavljevic A, Virk D, Volkov A, Wheeler DA, Zhang Z, Bailey JA, Eichler EE, Tuzun E, Birney E, Mongin E, Ureta-Vidal A, Woodwark C, Zdobnov E, Bork P, Suyama M, Torrents D, Alexandersson M, Trask BJ, Young JM, Huang H, Wang H, Xing H, Daniels S, Gietzen D, Schmidt J, Stevens K, Vitt U, Wingrove J, Camara F, Mar Albà M, Abril JF, Guigo R, Smit A, Dubchak I, Rubin EM, Couronne O, Poliakov A, Hübner N, Ganten D, Goesele C, Hummel O, Kreitler T, Lee YA, Monti J, Schulz H, Zimdahl H, Himmelbauer H, Lehrach H, Jacob HJ, Bromberg S, Gullings-Handley J, Jensen-Seaman MI, Kwitek AE, Lazar J, Pasko D, Tonellato PJ, Twigger S, Ponting CP, Duarte JM, Rice S, Goodstadt L, Beatson SA, Emes RD, Winter EE, Webber C, Brandt P, Nyakatura G, Adetobi M, Chiaromonte F, Elnitski L, Eswara P, Hardison RC, Hou M, Kolbe D, Makova K, Miller W, Nekrutenko A, Riemer C, Schwartz S, Taylor J, Yang S, Zhang Y, Lindpaintner K, Andrews TD, Caccamo M, Clamp M, Clarke L, Curwen V, Durbin R, Eyras E, Searle SM, Cooper GM, Batzoglou S, Brudno M, Sidow A, Stone EA, Venter JC, Payseur BA, Bourque G, López-Otín C, Puente XS, Chakrabarti K, Chatterji S, Dewey C, Pachter L, Bray N, Yap VB, Caspi A, Tesler G, Pevzner PA, Haussler D, Roskin KM, Baertsch R, Clawson H, Furey TS, Hinrichs AS, Karolchik D, Kent WJ, Rosenbloom KR, Trumbower H, Weirauch M, Cooper DN, Stenson PD, Ma B, Brent M, Arumugam M, Shteynberg D, Copley RR, Taylor MS, Riethman H, Mudunuri U, Peterson J, Guyer M, Felsenfeld A, Old S, Mockrin S, Collins F (2004) Rat Genome Sequencing Project Consortium. Genome sequence of the Brown Norway rat yields insights into mammalian evolution. Nature 428(6982): 493–521. https:/doi.org/10.1038/nature02426
- Adapala NS, Kim HKW (2016) Comprehensive genome-wide transcriptomic analysis of immature articular cartilage following ischemic osteonecrosis of the femoral head in piglets. PLoS One 11(4): e0153174. https:/doi.org/10.1371/journal.pone.0153174
- Yamaguchi R, Kamiya N, Adapala NS, Drissi H, Kim HKW (2016) HIF-1-dependent IL-6 activation in articular chondrocytes initiating synovitis in femoral head ischemic osteonecrosis. J Bone Joint Surgery 98: 1122–1131. https:/doi.org/10.2106/JBJS.15.01209
- Шабалдин НА, Синицкая АВ, Шабалдин АВ, Мухамадияров РА (2023) Динамика экспрессии генов костного гомеостаза при развитии асептического некроза головки бедренной кости в эксперименте. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 109(1): 94–108. [Shabaldin NA, Sinitskaya AV, Shabaldin AV, Mukhamadiyarov RA (2023) Dynamics of expression of bone homeostasis genes in the development of aseptic necrosis of the femoral head in an experiment. Russ J Physiol 109(1): 94–108. (In Russ)]. https:/doi.org/10.31857/S0869813923010107
Дополнительные файлы