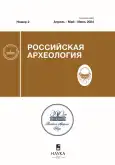Bone and antler products from the Toretskoye urban settlement of the 15th century ad
- Autores: Valiulina S.I.1
-
Afiliações:
- Kazan Federal University
- Edição: Nº 2 (2024)
- Páginas: 131-148
- Seção: ARTICLES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-6063/article/view/267976
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324020096
- EDN: https://elibrary.ru/WOJXQD
- ID: 267976
Citar
Texto integral
Resumo
Products made of bone and antler complement the characteristics of the material culture of the Toretskoye urban settlement, a major centre of crafts and international trade in the Kazan Khanate. In accordance with the general dating of the single-layer site, all items made of bone and antler have a reliable period of existence within the 15th century AD. Based on frequent numismatic material and other related context, the products receive the status of a chronological and, in some cases, ethnocultural reference point, and in terms of inventory and manufacturing techniques they represent products of urban production. No specialized bone-carving workshops have been found at the site; however, the presence of blanks and faulty products in the coppersmith and blacksmith workshops makes it possible to conclude that bone and antler processing was a related craft of complex production.
Texto integral
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АКУ – Археологические коллекции университета – Археологический музей Казанского университета
ГМТР (НМРТ) – Государственный музей Татарской Республики
НМФ/NMF – Национальный музей Финляндии
ИЯЛИ – институт языка, литературы и истории
КФАН СССР – Казанский филиал Академии наук СССР
Торецкое городское поселение расположено в Алексеевском районе Республики Татарстан (РТ), в центральной части Западного Закамья, в 3.5 км северо-западнее домонгольского Билярского городища. Памятник как городской центр открыт и исследуется экспедицией Казанского университета с 1998 г., в настоящее время общая площадь раскопов составляет более 5000 м2. Исследованиями установлены площадь (более 40 га), топография, характер полиэтничного и поликонфессионального города XV в. (Валиулина, 2017а; б; Valiulina, 2015a; 2018) – крупного центра ремесла и международной торговли в позднесредневековом Поволжье (Валиулина, 2010; 2020; Valiulina, 2015b; Коваль, 2017). Город, не имевший укреплений и не сохранивший монументальных сооружений, представляет удивительно высокий уровень ремесленного производства, богатую и яркую материальную культуру (Валиулина, 2011а; б; Valiulina, 2021), одной из ее составляющих являются изделия из кости и рога.
В процессе изучения материалов автор опирается прежде всего на обобщающие исследования костяных изделий главных булгарских памятников – Булгара (Закирова, 1988) и Билярского городища (Культура..., 1985), недавнее диссертационное исследование костяных изделий Волжской Булгарии (Пальцева, 2020), публикации материалов центрального базара Болгара и его окружения (Бадеев, Яворская, 2022). Обращаясь к старым “именным” коллекциям музеев (Археологического музея Казанского университета (АКУ), Государственного музея Татарской Республики (ГМТР), Национального музея Финляндии (НМФ/NMF) др.), нужно иметь в виду, что большая часть вещей в собраниях А.Ф. Лихачева, А.Н. Островского, В.В. Егерева, Н.Ф. Высоцкого, В.И. Заусайлова и других коллекционеров – любителей древностей – являются беспаспортными находками фактически без строгой привязки к памятнику, даже если он указан в названии коллекции.
Рис. 1. Схема расположения памятников в северо-западной округе Билярского городища: 1 – Билярское городище, XI – первая треть XIII в.; 2 – Биляр золотоордынский (Билярское III селище), вторая половина XIII – начало XIV в.; 3 – Билярское II селище, рубеж X/XI – первая половина XI в.; 4 – Торецкое городское поселение, XV в.; 5 – современное с. Билярск.
Fig. 1. The location of sites in the northwestern district of the Bilyar fortified settlement: 1 – the Bilyar fortified settlement, the 11th – first third of the 13th century AD; 2 – Bilyar of the Golden Horde (Bilyar III settlement), the second half of the 13th – early 14th century AD; 3 – Bilyar II settlement, turn of the 10th/11th century – first half of the 11th century AD; 4 – Toretskoye urban settlement, the 15th century AD; 5 – the modern village of Bilyarsk
Материалы этих собраний могут существенно отличаться от коллекций, полученных раскопками. Самый показательный пример в этом отношении – домонгольское Билярское городище, где в его ближайшей северо-западной округе известны памятники от конца Х до XV вв. (рис. 1). Вещи, полученные сборами с этой площади, не дифференцированы по хронологии, но в самой полной на настоящий момент публикации билярских древностей они все получили домонгольскую датировку (Культура…, 1985). В этой связи особую актуальность приобретает публикация новых материалов, полученных раскопками за пределами городища.
Коллекцию костяных предметов поселения составляют три основные функциональные группы: бытовые изделия и инструменты, предметы вооружения и охоты, игральные кости и амулеты (рис. 2–6).
Бытовые изделия и инструменты
Рукояти ножей (5 экз.), как и в Болгаре, представлены одно- и двусоставными типами (Закирова, 1988; Яворская, Бадеев, 2022. С. 81). Односоставная рукоять из полой кости (рис. 2, 11) имеет овальное сечение, длину 8.9 см, диаметр отверстия – 0.5 см. Максимальная ширина составляет 1.7 см в верхней части, чуть сужаясь к лезвию, верхний край срезан дугой с легким уступом, подобные известны в Болгаре (Закирова, 1988. Рис. 96, 2) и в Биляре (Культура…, 1985, таб. XXXI: 15, 16), обе хранятся в коллекции ГМТР. Найдено четыре двусоставные рукояти, во всех случаях сохранилось по одной пластине и на них от двух до пяти сквозных крепежных отверстий. Три пластины вырезаны из плотного рога, одна – из моржового бивня (рис. 2, 12). Использование такого “экзотического” сырья известно в золотоордынских городах, в том числе в Болгаре (Яворская, Бадеев, 2022. С.78). У восьмигранной рукояти в одном из отверстий остался железный гвоздик длиной 1.4 см (рис. 2, 14), две другие сохранившиеся на полную длину рукояти – 10 и 8 см – предполагают наличие затыльника и муфты (рис. 2, 12).
Рис. 2. Изделия из кости и рога Торецкого городского поселения: 1, 2 – рукояти; 3, 4 – осколки рукоятей разных инструментов; 5–12, 14 – рукояти ножей, детали и заготовки к ним; 13 – кочедык; 15 – фрагмент рога со следами обработки.
Fig. 2. Items made of bone and antler from the Toretskoye urban settlement: 1, 2 – handles; 3, 4 – fragments of handles of various tools; 5–12, 14 – knife handles, parts and blanks for them; 13 – kochedyk (bent awl); 15 – a bone fragment with traces of processing
В торецкой коллекции присутствуют всего одна муфта (рис. 2, 5) и два затыльника, один из них – с не точно просверленным центральным отверстием, потребовавшим дополнительного бокового крепления (рис. 2, 7). Девять предметов, очевидно, являются заготовками муфт и затыльников (рис. 2, 6, 8 –10). Ни рассматриваемые изделия, ни их заготовки не имеют насечек и штриховки, необходимых для лучшего крепления деталей наборных рукоятей. Пять из шести заготовок происходят из ямы № 3 в медницкой и кузнечной мастерской № 3 раскопа XIII (Валиулина, 2012. Рис. 50, 1, 4, 5, 9, 10).
Очевидно, к другим инструментам – шильям, резцам, возможно, металлическим печатям – по аналогии с более поздними образцами деревянных изделий (Чекунина, 2015. Рис. 1), принадлежали три рукояти более сложных форм, выточенные на токарном станке из рога лося или оленя и украшенные циркульным орнаментом (рис. 2, 1, 2; рис. 3). На рукояти грибовидной формы длиной 5.5 см декор располагался вертикальными рядами вдоль длинной втулки (рис. 2, 1), при этом он почти стерт от долгого использования предмета, на других – циркульный орнамент расположен в один горизонтальный ряд в сочетании с резными линиями и рельефом.
Массивная рукоять резца, стамески или иного инструмента, выполненная из рога лося или оленя, отличается тщательной обработкой и полировкой поверхности. Изделие (рис. 4, 7) найдено в составе клада № 2 в предпечной зольной яме на раскопе I-1999 г. в центральной части памятника (Валиулина, 2002. Рис. 69, 3). Рукоять имеет форму конуса, сужающегося к шаровидному основанию диаметром 3 см, с отверстием для черенка диаметром 0.9 см, и широкий конец с линзовидным завершением диаметром 4.9 см. Общая длина изделия – 12 см.
Две рукояти с короткими втулками и шаровидными головками близкой формы отличались размерами (рис. 2, 2; рис. 3). Полностью сохранилась рукоять из вещевого клада № 9 (АКУ КП-364/20), обнаруженного на западной окраине города в 2017 г. (Валиулина, 2017в. С. 242). Изделие в виде втулки с округлым завершением имеет высоту 3.5 см, диаметр головки – 4, диаметр втулки – 3.2, высота втулки – 1.2, диаметр сквозного отверстия составляет 1,2 см (рис. 3).
Рис. 3. Костяная рукоять скорняжного ножа.
Fig. 3. Bone handle of a furrier’s knife
По мастерству исполнения, пропорциям и декору рукоять, безусловно, является художественным произведением. В верхней ее части с одной стороны фиксируется потертость – заглаженность концентрического рельефа. С нижней стороны на горизонтальной поверхности втулки четко видны следы ротации вокруг отверстия, т.е. инструмент, которому принадлежала рукоять, имел муфту или ступенчатый черенок, и эта ступень, диаметром примерно 1.7 см, опиралась на втулку (Валиулина, 2017в. Рис. 7). Рукояти с округлыми головками-набалдашниками не известны в булгарских памятниках.
Самой близкой аналогией и подсказкой варианта назначения нашего изделия является костяная рукоять скорняжного ножа в составе знаменитой коллекции исламского искусства Н.Д. Халили (Stanley, 1997. Сat. 376). Стальной с золотой насечкой резец имеет короткое и широкое дугообразное лезвие, один из концов которого круто поднимается вверх относительно рукояти, создавая на спинке удобный упор для большого пальца, черенок ножа конической формы расширяется к рукояти с широкой короткой втулкой и округлой головкой. Изделие середины XVII в. подписное: легенда сообщает, что изящный инструмент выполнен мастером Али Риза Нараком для правителя Сефевидского Ирана шаха Аббаса XI и должен был служить для благородного занятия вельможи – обрезки кожи при подготовке переплетов книг и для других изделий (Stanli, 1997. Р. 400). Т. Стэнли при публикации этого произведения ссылается на картину, выполненную примерно в 1600–1610 гг. для Альбома Джахангира, где изображен подобный нож, лежащий рядом с шилом на верстаке переплетчика (Stanli, 1997. Сat. 361). На центральном XII раскопе Торецкого городского поселения найден такой формы нож без рукояти (АКУ304/2990).
Рис. 4. Изделия из кости и рога Торецкого городского поселения: 1 – изделие; 2 – фрагмент седельного канта (накладки); 3 – трубочка; 4 – пряслице; 5 – деталь весов для взвешивания монет; 6 – гребень; 7 – рукоять; 8, 9 – заготовки изделий.
Fig. 4. Items made of bone and antler from the Toretskoye urban settlement: 1 – a product; 2 – a fragment of the saddle edge (mounts); 3 – a tube; 4 – a spindle whorl; 5 – a detail of coin scales; 6 – a comb; 7 – a handle; 8, 9 – product blanks
Деталь рамки рычажных весов для взвешивания монет (рис. 4, 5) украшена двумя рядами циркульного орнамента. Такие изделия широко представлены на золотоордынских памятниках (Федоров-Давыдов и др., 1970. Табл. II, 2, 3, 6), первоначально они именовались “щипчиками” или просто “предметами”, верная атрибуция, подтвержденная экспериментом, принадлежит И.В. Волкову (1991. Рис. 8, 9). В XIV–XV вв. такие находки известны в Прикамье (Макаров, 2001. Рис. 61, 13, 14) и в русских городах (Седова, 1997. Рис.70, 10, 11; Судаков и др. 1997. Рис. 2, 11), в Смоленске стратиграфически датируются 30-ми – серединой 70-х годов XV в. (Асташова, 1993. Рис. 5, 3). Бронзовые весы подобной конструкции в составе коллекции А.Ф. Лихачева “Биляр и его окрестности” хранятся в Национальном музее РТ (ГМТР, № 5427) и, очевидно, происходят с одного из золотоордынских памятников вблизи домонгольского городища или из Торецкого. Такое изделие обнаружено на Важнангерском (Мало-Сундырском) городище XIV–XV вв. в Марий Эл (Никитина, Михеева, 2006. Рис. 58), XV в. датируются два экземпляра бронзовых весов из Твери, представленные на выставке “За три моря. Странствия Афанасия Никитина” (7 декабря 2023 – 11 февраля 2024, Москва, Государственный музей Востока).
Примечательно, что на Торецком фрагмент рычажных весов найден в медницкой и ювелирной мастерской № 2 (Р.XI-2006, я.1; АКУ-304/4024), где мастера работали и с серебром – на раскопе обнаружены кусочки серебра, серебряный амулет, 20 серебряных монет и 1 заготовка монеты.
Кочедык для плетения из лыка найден один (рис. 2, 13), общая длина составляет 12.6, ширина – 2.5, диаметр отверстия 0.5 см. Аналогичный инструмент происходит из III ханского слоя Казани (Ситдиков, 2006. Рис. 16, 5; 17, 23; 161, 33). В Болгаре один экземпляр найден на XII раскопе в слое второй половины XIV в. (Закирова, 1988. Рис. 98, 5), в настоящее время известно уже несколько находок. Два костяных и один железный кочедыки опубликованы как билярские, в собрании Национального музея Финляндии (Культура…, 1985. С. 81, таб. XXX, 3,4), при этом раскопки на домонгольском Билярском городище не дали таких находок. Такие инструменты встречаются на русских памятниках (Захаров, 2004. Рис. 236, 1–6; Табл. 353), но самым большим числом представлены в Прикамье: на Котельничском и Хлыновском городищах (Макаров, 2001. Рис. 48, 4), в Афкуле (Белавин, Крыласова, 2008. Рис. 154 – 157) и др. В Иднакаре их учтено 447 экз. (Иванова, 1998. Рис. 62–64).
На памятнике обнаружено несколько десятков глиняных пряслиц, два – шиферных и одно цилиндрическое пряслице (половинка) диаметром 2.6 см, диаметр отверстия 0.5 см, выполненное из рога лося (рис. 4, 4). Возможно, игольникам принадлежат фрагменты двух костяных трубочек с гладкой поверхностью (рис. 2, 3) и с резным циркульным орнаментом (рис. 2, 4).
Один полностью сохранившийся предмет внешне похож на ткацкий челнок (рис. 4, 1), но имеет меньшие размеры – 8.8 × 1.6 × 0.7 см, а диаметр отверстия в центре – всего 0.5 см, аналогии изделию не найдены и его назначение не установлено.
Гребень двусторонний, цельный, прямоугольной формы, плохой сохранности выполнен из плотного рога лося, в центральной части украшен циркульным орнаментом в обрамлении горизонтальных резных линий (рис. 4, 6). Гребень найден в гончарной мастерской (р. VI, яма 2) на северной окраине памятника (Nuretdinova, Valiulina, 2015) и, возможно, при почти полном отсутствии других бытовых вещей, использовался как инструмент для орнаментации керамических сосудов. Обломки обычных двусторонних костяных гребней найдены на Билярском городище в составе инструментария в гончарной слободе на юго-западной окраине внешнего города (Кокорина, 1986. С. 71, рис. 2, 1), где также, при высокой концентрации теплотехнических сооружений, не обнаружены жилые объекты и соответствующий вещевой материал.
Предметы вооружения и охоты
Памятник обладает довольно богатой коллекцией широкой номенклатуры предметов вооружения и конской упряжи (Валиулина, 2015), малым числом в ее составе присутствуют и костяные изделия.
Кистени – оружие ближнего боя (рис. 5, 4, 7) – в материалах памятника представлены двумя экземплярами – целым и половинкой. Полную сохранность имеет кистень из клада № 2 в предпечной зольной яме жилой постройки на сырцовом цоколе раскопа I-1999 г. (Валиулина, 2002. Рис. 69, 4). В состав клада входили как статусные, так и обыденные, бытовые предметы и инструменты: железные – замок, топор, ножи, ложкарь; фрагменты хорезмийского сероглиняного сосуда со штампованным орнаментом; каменные точильные бруски; медная чашечка весов; поясной гарнитур с фигурными бронзовыми накладками; набор костяных предметов – три рукояти и кистень. Кроме поясного гарнитура (Valiulina, 2016b), безусловно, статусной вещью в кладе являлся кистень яйцевидной формы (максимальный диаметр – 8 см, высота – 11 см). Торецкий кистень точно соответствует характеристике этого вида оружия (тип 2 по: Кирпичников, 1966. С. 59) – выполнен из рога лося с продольным отверстием по вертикальной оси, в которое вставлен железный стержень, завершающийся с одной стороны петлей, служившей для соединения его с ремнем, надевавшимся на кисть руки, с другой – закреплен заклепкой – “усиками”, отогнутыми на две стороны. На полированной поверхности резьбой были нанесены короткие горизонтальные полоски в столбик на всю высоту изделия. Фрагмент второго кистеня происходит из медницкой мастерской № 2 (Р.XI-2006, я. 2; АКУ-304/3938). Кистень мог быть расколот в момент использования, такие примеры известны (Каинов, 2018. С. 51). Тем более исходя из картины стремительной гибели города. Однако образец, вероятно, являлся браком, поскольку осевой канал кистеня не имеет ржавчины и других следов присутствия металлического стержня, т.е. можно предположить, что изделие раскололось в процессе изготовления (рис. 5, 7).
Рис. 5. Изделия из кости и рога Торецкого городского поселения: 1–3 – наконечники стрел; 4, 7 – кистени; 5 – фрагмент накладки (?); 6 – фрагмент изделия.
Fig. 5. Items made of bone and antler from the Toretskoye urban settlement: 1–3 – arrowheads; 4, 7 – chain maces; 5 – a fragment of the mount (?); 6 – a product fragment
Как и булавы, кистени были широко распространены в Восточной Европе с IX по XIII в. (Кирпичников, Медведев, 1985. Табл. 131, 1–6) в салтово-маяцких (Крыганов, 1987. Рис.1, 8; Флёрова, 2001. Рис. 18, 18), а затем в древнерусских памятниках (Асташова, 1993. Рис. 6, 1). Наибольшее количество находок происходит из Новгорода (Артемьев, 1990. Рис. 9, 2). Высокий статус роговых кистеней в комплексе древнерусского оружия определяется княжескими знаками на серии таких изделий из Саркела-Белой Вежи и Новгорода, а также их находками в усадьбах богатых новгородцев (Каинов, 2018. Рис. 1). По мнению главных оружиеведов страны, “появились кистени на Руси в X в., как и булавы, из областей кочевого Востока и в снаряжении войска удерживались вплоть до конца XVI в.”, из русских земель вывозились костяные гири и в Волжскую Булгарию (Кирпичников, Медведев, 1985. С. 311). Что касается верхней даты бытования кистеней, то нужно вспомнить упоминание их С. Герберштейном в воинской экипировке русской знати (1988. С. 114).
Впервые кистени булгарских памятников были исследованы и в 1929 г. опубликованы Б.Н. Зайковским, причем уже в этой ранней работе автор предполагал их поступление к булгарам из северной и северо-западной Руси (1929. С. 117).
В памятниках Волжской Булгарии в настоящее время известно только два костяных кистеня, один получен в результате раскопок на городище Хулаш (Смирнов, Каховский, 1972. Рис. 19), место находки второго в публикациях указано – Билярское городище (Культура Биляра, 1985. Таб. LXII, 6; Измайлов, 1997. Рис. 71, 1), но принадлежит роговая гиря все той же коллекции А.Ф. Лихачева “Биляр и его окрестности” НМРТ № 5427-38.
За все годы полевых исследований в Болгаре и на Билярском городище не найдено ни одного костяного кистеня. Единичные находки на золотоордынских памятниках позволили Г.А. Федорову-Давыдову сделать вывод, что это оружие было мало распространено у кочевников (1966. С. 32). Кистень с золотоордынского Водянского городища авторы публикации (Лапшин, Мыськов, 2013. Рис. 112, 2) связывают с русским населением, опираясь на аналогии и стратиграфические условия находки.
Кистени на позднесредневековых городищах Прикамья (Макаров, 2001, Рис. 55, 26; 81, 7), в том числе на Верх-Саинском I городище, в археологическом контексте XV в. (Белавин, 2000. Рис. 157, 7) рассматриваются в составе древнерусских материалов, которые свидетельствуют не только о торгово-обменных контактах края с русскими землями, но и о проникновении во второй половине XIII – XV в. в бассейн Камы русского населения (Оборин, Мельничук, 1989. С. 79, 80; Макаров, Пастушенко, Салангин, 1995).
Более 60 наконечников стрел, а кроме железных и 3 костяных трехгранных с плоским черешком, присутствуют в составе торецкой коллекции вооружения. Первый наконечник (происходит из ямы № 17 центрального раскопа I 2001 г.) представляет тип 7, по А.Ф. Медведеву, килевидной формы черешковый с широким плоским пером треугольного сечения, общая длина – 67, длина пера – 45, ширина пера – 18 мм (рис. 5, 1). Такие наконечники особенно часто встречаются в памятниках Прикамья X–XIV вв. (Медведев, 1966. С. 88). Тип близок железным наконечникам новгородского типа 46, известным в Прикамье с раннего железного века и широко использовавшимся в северной полосе Восточной Европы до конца XIII в. (Медведев,1966. С. 87). Один костяной наконечник типа 7 найден в Болгаре. Торецкая находка и аналогичный наконечник из ханского слоя Казани (Ситдиков, 2006. Рис. 79, 8; 161, 7–9) позволяют продлить время бытования этих изделий по меньшей мере до второй половины XV в. (Валиулина, 2015).
Еще два торецких наконечника (рис. 5, 2, 3) длиной 9.7 и 11.3 см, шириной 1.7 и 2.3 см соответственно найдены вместе в медницкой мастерской № 3 (раскоп XIII, яма 3), относятся к одному архаичному типу и, так же как предыдущий образец, демонстрируют длительный период бытования типа и подтверждают консервативный характер костяных наконечников в целом. Четыре подобных наконечника происходят из III ханского слоя казанского кремля (Ситдиков, 2006. С. 183, рис. 163, 4). Черешковые наконечники стрел, в том числе близкие торецким, найдены в Болгаре (Яворская, Бадеев, 2022. Рис. 121, А–Г).
Возможно, деталью седельного канта (накладки) является фрагмент изделия с просверленным отверстием и тщательно отшлифованной поверхностью (рис. 4, 2). В Болгаре в районе центрального базара получена серия подобных изделий (Яворская, Бадеев, 2022. Рис 122, А–В), на Билярском городище находки определены как накладки на колчан типа 2 (Культура…, 1985. Таб. XLVII, 2, 6).
Основным сырьем для изготовления рассмотренных групп предметов служил плотный рог диких копытных: лосей и оленей, включая северного. При анализе археозоологических коллекций ежегодно обнаруживаются остатки этих животных.
Игральные кости и амулеты
Из слоя и объектов происходят астрагалы или альчики – таранные кости мелкого – 32 экз. (рис.6, 1–23) и крупного рогатого скота – 2 экз. (рис. 6, 24, 25).
Рис. 6. Изделия из кости Торецкого городского поселения: астрагалы мелкого (1–23) и крупного (24, 25) рогатого скота.
Fig. 6. Bone items from the Toretskoye urban settlement: astragalus of small (1–23) and large (24, 25) cattle
В настоящее время, опираясь на данные этнографии, установлено несколько функций астрагалов, которые могли использоваться в качестве амулетов, застежек, предметов для гаданий и игр (Петерс, 1986. С. 79, 80; Флёрова, 2001. С. 108; Захаров, 2004. Рис. 245, 1–3; Яворская, Бадеев, 2022. Рис. 120). В материалах булгарских памятников астрагалы традиционно определяются как игральные кости (Закирова, 1988. С. 233; Казаков, 1991. Рис. 50, 11, 14, 15, 17; Пальцева, 2020; Яворская, Бадеев, 2022). Игра в бабки получила широкое распространение в древности и в средневековье, ее и сейчас можно наблюдать на Востоке.
Для придания веса, сверленые отверстия в игральных костях заливались свинцом, такие предметы – биты, как и целиком металлические (свинцовые) копии костяных, известны на Билярском городище и на других булгарских памятниках (Культура Биляра, 1985). Свинцовые биты получали литьем в глиняные “формы”-оттиски костяных астрагалов. В торецкой коллекции имеются два таких свинцовых астрагала.
В игровой набор входили не только обработанные и тем более залитые свинцом биты, но и астрагалы без шлифования и сверления – “фишки”-кости. Во время раскопок одиночные необработанные астрагалы обычно не попадают в число индивидуальных находок и учитываются в составе археозоологического материала (Флёрова, 2001; Яворская, Бадеев, 2022. С. 80, 81). Другое дело, если они составляют комплекс. Так, на центральном XII раскопе 2008 г. в слое разрушения города на одном участке (кв. 88) обнаружены фрагменты мужского костяка (определение Газимзянова И.Р.), кости коня, обрывки кольчуги и рядом лежали кучкой девять астрагалов барана без следов обработки. Комплекс не является погребением, на что указывает глубина залегания – всего 30 см от современной поверхности, практически под дерном. Вероятно, игровой набор сопровождал воина при жизни и остался при нем в момент смерти. На Царевском городище известны отдельные находки астрагалов со следами обработки, потертостью и с отверстиями для заливки свинцом, кроме того, в жилой постройке (яма 4) на V раскопе 1964 г. среди других находок был обнаружен комплекс из 15 экземпляров (Федоров-Давыдов и др., 1970. С. 150, 153, табл. I, 4). Игральный набор из 25 астрагалов, подтесаных, шлифованных и сверленых, обнаружен исследованиями Е.П. Казакова в 2001 г. на булгарском Татарском Булякском селище в разведочном шурфе № 1 на одной глубине 110 см (Тс-01/ш-20-44).
Наиболее раннее присутствие астрагалов в погребениях отмечено еще в античных некрополях Северного Причерноморья (Петерс, 1986. С. 80, таб. XIX, 6). В.Е. Флёровой на материалах Саркела установлено, что в наборах для игр и других целей необработанные астрагалы обычно составляют 60–80%, а в двух наборах обработанных астрагалов не отмечено вовсе, по мнению автора, в этом случае очевиден их сакральный характер (2001. С. 110). Видимо, в таком качестве присутствовали 12 астрагалов без знаков и подтески в погребении 371 Танкеевского могильника (ГМТР 14830/442) и в 4 погребении могильника “Мартышкина Балка” предмонгольского времени на Дону (Масловский, 1997. С. 145, рис.1, 3).
Сакральную функцию должен был выполнить и набор из 27 астрагалов барана (11 из них просверлены), сопровождая клад химической посуды в мастерской билярского алхимика конца XII – начала XIII в. (Valiulina, 2016. Р. 258, fig. 15, 4).
Из 32 астрагалов Торецкого городского поселения 12 были обработаны подтеской или шлифовкой, иногда значительно (рис. 6, 2, 12, 15, 16, 18, 20, 23), 6 предметов имели сверление на одной из широких граней, не всегда сквозное, на двух присутствуют 5 и 10 мелких несквозных сверлин диаметром до 0.2 см (рис. 6, 17, 20). Обычно диаметр центрального “большого” отверстия варьирует от 0.4 до 0.8 см, при этом со сквозным отверстием найдено только три астрагала, один из них просверлен в боковой проекции (рис. 6, 1, 19, 22). На одном образце гравировкой нанесен косой крест (рис. 6, 12). В коллекции нет астрагалов со свинцовой заливкой или со следами от нее.
Два астрагала крупного рогатого скота со спиленными и слегка зашлифованными неровностями всех четырех длинных сторон (рис. 6, 24, 25) и, возможно, заготовка грубой обработки еще одного (рис. 4, 8) могли использоваться как инструменты для выделки кож, подтверждением наличия кожевенного ремесла в городе служит находка специального скорняжного стального ножа (см. выше).
К оберегам и предметам для гаданий нужно отнести 10 экземпляров просверленных пяточных костей бобров, обнаруженных на дне котлована жилой постройки 1 раскопа VII.
Кроме очевидных изделий в материалах памятника есть кости с явными следами обработки, но в каждом случае определить, какое именно изделие не состоялось, невозможно (рис. 2, 15; рис. 4, 9).
Рассмотренный материал представляет немногочисленную коллекцию предметов – около 70 изделий, что не позволяет выполнить статистическую обработку основных функциональных групп, вряд ли она будет корректной. Но даже в таком количестве их общее соотношение в номенклатуре собрания соответствует статистическим выкладкам материалов памятников с богатыми коллекциями, в которых преобладают рукояти и игральные кости (Пальцева, 2020; Яворская, Бадеев, 2022).
В соответствии с общей датировкой однослойного памятника все изделия из кости и рога имеют надежный период бытования в пределах XV в. Опираясь на массовый нумизматический материал и другой сопутствующий контекст, продукция косторезов, которая обычно повсеместно признается как традиционная, консервативная и в то же время универсальная, получает статус хронологического и в ряде случаев этнокультурного ориентира.
Такие возможности источника открываются благодаря характеру изделий, которые и по номенклатуре, и по технике исполнения выходят за рамки простых, сугубо утилитарных хозяйственных предметов. В целом самобытная коллекция характеризует продукцию городского производства.
На памятнике, где известны все основные ремесла, а некоторые из них представлены несколькими мастерскими, как, например, медницкие и ювелирные (Valiulina, 2021), нет оснований для локализации работы косторезов. На Торецком городском поселении не обнаружено скопления отходов производства, хотя этот факт в настоящее время справедливо не рассматривается как безусловное свидетельство присутствия мастерской (Яворская, Бадеев, 2022. С. 79), не зафиксирована и концентрация вещей и заготовок, за исключением ямы № 3 на раскопе XIII. Объект первоначально был одним из трех горнов в медницкой мастерской № 3, затем стал мусорной ямой. В яме, богатой разными находками, в том числе монетами XV в., найдено 10 костяных изделий: 2 наконечника стрел, 3 астрагала со сверлением и 5 заготовок муфт и затыльников для рукоятей.
В целом объекты и условия костяных находок на памятнике достаточно красноречивы: будь то игровой набор при погибшем и не погребенном воине в верхнем горизонте культурного слоя, весы для взвешивания монет в ювелирной мастерской или статусные и художественные изделия в составе кладов. Но для определения места производства важны заготовки изделий – деталей составных рукоятей и, очевидно, сломавшегося в момент изготовления кистеня, эти предметы обнаружены в медницких и кузнечных мастерских, т.е. можно предположить, что обработка кости и рога являлась сопутствующим ремеслом комплексных мастерских.
Выражаю благодарности за оказанные консультации кандидату ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараевой и кандидату биологических наук И.В. Аськееву.
Sobre autores
Svetlana Valiulina
Kazan Federal University
Autor responsável pela correspondência
Email: svaliulina@inbox.ru
Rússia, Kazan
Bibliografia
- Artem’ev A.R., 1990. Flails and maces from the excavations in Veliky Novgorod. Materialy po arkheologii Novgoroda [Materials on the archaeology of Novgorod], 1988. Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 5–15. (In Russ.)
- Astashova N.I., 1993. Bone artifacts of medieval Smolensk. Srednevekovye drevnosti Vostochnoy Evropy [Medieval antiquities of Eastern Europe]. Moscow: Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey, pp. 69–78. (Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya, 82). (In Russ.)
- Badeev D.Yu., Yavorskaya L.V., 2022. Hunting as a traditional occupation of the Bolgar city dwellers in the Golden Horde period. Aleshinskaya A.S. i dr. Materialy i issledovaniya po arkheologii Bolgarskogo istoriko-arkhitekturnogo kompleksa [Materials and research on the archaeology of the Bolgar historical and architectural complex], IV. Tsentral’nyy bazar Bolgara i ego okruzhenie (mezhdistsiplinarnye issledovaniya po materialam raskopok 2011–2019 gg.): kollektivnaya monografiya [Central Bolgar bazaar and its surroundings (interdisciplinary research based on materials from 2011–2019 excavations): Joint monograph]. Moscow; St. Petersburg: Nestor-Istoriya, pp. 216–219. (In Russ.)
- Belavin A.M., 2000. Kamskiy torgovyy put’. Srednevekovoe Predural’e v ego ekonomicheskikh i etnokul’turnykh svyazyakh [The Kama trade route. Medieval Cis-Urals in its economic and ethnocultural relations]. Perm’: Permskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet. 200 p.
- Belavin A.M., Krylasova N.B., 2008. Drevnyaya Afkula: arkheologicheskiy kompleks u s. Rozhdestvensk [Ancient Afkula: the archaeological complex near the village of Rozhdestvensk]. Perm’: Permskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet. 603 p.
- Chekunina N.V., 2015. Seals of the Russian Orthodox Church highest ranks of the 19th century: composition and attribution. Tver’, tverskaya zemlya i sopredel’nye territorii v epokhu srednevekov’ya [Tver, the Tver land and adjacent territories in the Middle Ages], 8. A.N. Khokhlov, ed. Tver’: Staryy gorod, pp. 370–376. (In Russ.)
- Fedorov-Davydov G.A., 1966. Kochevniki Vostochnoy Evropy pod vlast’yu zolotoordynskikh khanov. Arkheologicheskie pamyatniki [Nomads of Eastern Europe under the rule of the Golden Horde Khans. Archaeological sites of urban development in Armenia]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. 276 p.
- Fedorov-Davydov G.A., Vayner I.S., Mukhamadiev A.G., 1970. Archaeological research of the Tsarev fortified settlement (New Saray) in 1959–1966. Povolzh’e v srednie veka [The Volga River region in the Middle Ages]. Moscow: Nauka, pp. 68–171. (In Russ.)
- Flerova V.E., 2001. Reznaya kost’ Yugo-Vostoka Evropy IX–XII vv.: iskusstvo i remeslo. Po materialam Sarkela – Beloy Vezhi iz kollektsii Gosudarstvennogo Ermitazha [Carved bone of South-Eastern Europe of the 9th–12th centuries AD: Art and craft. Based on materials from Sarkel – Belaya Vezha in the collection of the State Hermitage Museum]. St. Petersburg: Aleteyya. 352 p.
- Gerbershteyn S., 1988. Zapiski o Moskovii [Rerum Moscoviticarum commentarii]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. 430 p.
- Gribov N.N., Sviridov A.N., Sidorenko A.E., 2023. The assemblage with coin scales from Nizhny Novgorod. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 270, pp. 306–319. (In Russ.)
- Ivanova M.G., 1998. Idnakar: Drevneudmurtskoe gorodishche IX–XIII vv. [Idnakar: an ancient Udmurt fortified settlement of the 9th–13th centuries AD]. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. 294 p.
- Izmaylov I.L., 1997. Vooruzhenie i voennoe delo naseleniya Volzhskoy Bulgarii X – nachala XIII v. [Armament and military art of the Volga Bulgaria population in the 10th – early 13th century AD]. Kazan’; Magadan: Severo-Vostochnyy nauchnyy tsentr Dal’nevostochnogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. 214 p.
- Kainov S.Yu., 2018. Chain maces or weights? To the assessment of one reattribution. Voennaya arkheologiya: sbornik materialov nauchnogo seminara [Military archaeology: Proceedings of the Scientific seminar], 4. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 51–57. (In Russ.)
- Kazakov E.P., 1991. Bulgarskoe selo X–XIII vekov nizoviy Kamy [Bulgar village of the 10th–13th centuries AD in the lower Kama River region]. Kazan’: Tatarskoe knizhnoe izdatel’stvo. 176 p.
- Kirpichnikov A.N., 1976. Voennoe delo na Rusi v XIII–XV vv. [Military art in Rus in the 13th–15th centuries AD]. Moscow: Nauka. 104 p.
- Kirpichnikov A.N., Medvedev A.F., 1985. Armament. Drevnyaya Rus’. Gorod, zamok, selo [Rus. Town, castle, village]. Moscow: Nauka, pp. 298–363. (Arkheologiya SSSR). (In Russ.)
- Kokorina N.A., 1986. On the technique of Bilyar pottery making. Posuda Bilyara [Bilyar ware]. Kazan’: Institut yazyka, literatury i istorii imeni G. Ibragimova, pp. 61–72. (In Russ.)
- Koval’ V.Yu., 2017. Imported glazed ceramics from the Toretskoye settlement. Ot Rusi do Kitaya: iz novykh arkheologicheskikh issledovaniy: sbornik statey k yubileyu Yu.Yu. Morgunova [Rus through to China: From new archaeological research: Collected articles for the anniversary of Yu.Yu. Morgunov]. V.Yu. Koval’, ed. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 42–73. (In Russ.)
- Kryganov A.V., 1987. Bludgeons of the Saltov-Mayak culture in the Don Basin. Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology], 2, pp. 63–68. (In Russ.)
- Kul’tura Bilyara. Bulgarskie orudiya truda i oruzhie X–XIII vv. [The Bilyar culture. Bulgarian tools and weapons of the 10th–13th centuries AD]. A.Kh. Khalikov, ed. Moscow: Nauka, 1985. 216 p.
- Lapshin A.S., Mys’kov E.P., 2013. Issledovaniya na Vodyanskom gorodishche v 2011–2012 gg. [Research at the Vodyanskoye fortified settlement in 2011–2012]. Moscow: Pero. 216 p.
- Makarov L.D., 2001. Drevnerusskoe naselenie Prikam’ya v X–XV vv. [Rus population of the Kama River region in the 10th–15th centuries AD]. Izhevsk: Udmurtskiy universitet. 140 p.
- Makarov L.D., Pastushenko I.Yu., Salangin D.A., 1995. On the arrival of Russians in the Middle Sylva basin. Istoriko-kul’turnoe nasledie gorodov i zavodskikh poseleniy Urala [Historical and cultural heritage of towns and factory settlements of the Urals]. Perm’: Permskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 5–18. (In Russ.)
- Makarov N.A., 1997. Kolonizatsiya severnykh okrain Drevney Rusi v XI–XIII vv.: po materialam arkheologicheskikh pamyatnikov na volokakh Belozer’ya i Poonezh’ya [Colonization of the northern outskirts of Rus in the 11th–13th centuries AD: based on materials from archaeological sites along the portage trails of Beloye Lake and Onega Lake]. Moscow: Skriptoriy. 386 p.
- Maslovskiy A.N., 1997. The burial ground of “Martyshkina Balka” and its place among the pre-Mongol sites in the Lower Don region (to the formulation of the problem). Istoriko-arkheologicheskie issledovaniya v Azake i na Nizhnem Donu v 1994 g. [Historical and archaeological research in Azak and the Lower Don region in 1994], 14. V.Ya. Kiyashko, ed. Azov: Izdatel’stvo Azovskogo muzeya-zapovednika, pp. 143–152. (In Russ.)
- Medvedev A.F., 1966. Ruchnoe metatel’noe oruzhie (luk i strely, samostrel) VIII–XIV vv. [Hand throwing weapons (bow and arrows, crossbow) of the 8th–14th centuries AD]. Moscow: Nauka. 182 p. (Arkheologiya SSSR. Svod arkheologicheskikh istochnikov, E1-36).
- Nikitina T.B., Mikheeva A.I., 2006. Alamner: mif i real’nost’: Vazhnangerskoe (Malo-Sundyrskoe) gorodishche i ego okruga [Alamner: myth and reality: the Vazhnanger (Maly Sundyr) fortified settlement and its surroundings]. Yoshkar-Ola: Mariyskiy nauchno-issledovatel’skiy institut yazyka, literatury i istorii. 196 p.
- Nuretdinova A.R., Valiulina S.I., 2015. VI Toretsky settlement excavation study. Social Sciences, vol. 10, iss. 6, pp. 1037–1042.
- Oborin V.A., Mel’nichuk A.F., 1989. Relations of the Finno-Ugric tribes of the Kama River region with the Slavs in the 11th–15th centuries AD. Materialy VI Mezhdunarodnogo kongressa finno-ugrovedov [Proceedings of the VI International Congress of Finno-Ugric Studies], 1. Moscow: Nauka, pp. 79–81. (In Russ.)
- Pal’tseva D.U., 2020. Kostyanye izdeliya gorodov Volzhskoy Bulgarii i Bolgarskogo ulusa Zolotoy Ordy X–XIV vv.: dissertatsiya … kandidata istoricheskikh nauk [Bone products of the cities of Volga Bulgaria and the Bulgar ulus of the Golden Horde of the 10th–14th centuries AD: a thesis for the Doctoral degree in History]. Kazan’. 402 p.
- Peters B.G., 1986. Kostoreznoe delo v antichnykh gosudarstvakh Severnogo Prichernomor’ya [Bone carving in the ancient states of the Northern Pontic]. Moscow: Nauka. 91 p.
- Sedova M.V., 1997. Suzdal’ v X–XV vekakh [Suzdal in the 10th–15th centuries AD]. Moscow: Nauka. 235 p.
- Sitdikov A.G., 2006. Kazanskiy kreml’: istoriko-arkheologicheskoe issledovanie [The Kazan Kremlin: historical and archaeological research]. Kazan’: Foliant”. 288 p.
- Smirnov A.P., Kakhovskiy V.F., 1972. Khulash. Gorodishche Khulash i pamyatniki srednevekov’ya Chuvashskogo Povolzh’ya [The fortified settlement of Khulash and medieval sites of the Chuvash area in the Volga region]. Cheboksary: Nauchno-issledovatel’skiy institut pri Sovete Ministrov Chuvashskoy ASSR, pp. 3–73. (In Russ.)
- Stanley T., 1997. Locks, padlocks and tools. The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, vol. XII, part 2. J. Raby, ed. London: The Nour Foundation: Azimuth Editions: Oxford University Press, pp. 338–405.
- Sudakov V.V., Chelyapov V.P., Bulankin V.M., 1997. Pereyaslavl Ryazansky (results of archaeological research in 1979–1995). Trudy VI Mezhdunarodnogo Kongressa slavyanskoy arkheologii [Works of the VI International congress of Slavic archaeology], 2. Slavyanskiy srednevekovyy gorod. Moscow: Nauka, pp. 371–382. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2002. Otchet o raskopkakh na Balynguzskom (Toretskom) III selishche v Alekseevskom rayone Respubliki Tatarstan v 1998–1999 g. [Report on excavations at the Balynguz (Toretskoye) III settlement, Alekseevskoye district, the Republic of Tatarstan in 1998–1999]. Arkhiv Arkheologicheskogo muzeya Kazanskogo federal’nogo universiteta [Archive of the Archaeological Museum of the Kazan Federal University], F. 3, № 24. 85 l.
- Valiulina S.I., 2010. International relations of the early Kazan Khanate based on materials from the Toretsk settlement. Rus’ i Vostok v IX–XVI vekakh. Novye arkheologicheskie issledovaniya [Rus and the Orient in the 9th–16th centuries AD. New archaeological research]. N.A. Makarov, V.Yu. Koval’, eds. Moscow: Nauka, pp. 183–191. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2011а. Material culture of the early Kazan Khanate based on materials from the Toretskoye settlement. Trudy II (XVIII) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s”ezda v Suzdale [Works of the II (XVIII) All-Russian Archaeological Congress in Suzdal], IV. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 118–123. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2011б. Artefacts of non-ferrous metal found at Toretskoye settlement, 15th century. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 4, pp. 119–129. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2012. Otchet o raskopkakh na Toretskom poselenii v Alekseevskom rayone Respubliki Tatarstan v 2010–2011 gg. [Report on excavations at the Toretskoye settlement, Alekseevskoye District, the Republic of Tatarstan in 2010–2011]. Arkhiv Arkheologicheskogo muzeya Kazanskogo federal’nogo universiteta [Archive of the Archaeological Museum of the Kazan Federal University], F. 3, № 45. 112 l.
- Valiulina S.I., 2015. Weaponry and riding horse gear from the Toretskoye urban settlement. Tver’, tverskaya zemlya i sopredel’nye territorii v epokhu srednevekov’ya [Tver, the Tver land and adjacent territories in the Middle Ages], 8. A.N. Khokhlov, ed. Tver’: Staryy gorod, pp. 71–98. (In Russ.)
- Valiulina S., 2015а. Finnish component in the material culture of Toretskoe Settlement (Town Bulumer) of the early Kazan Khanate. Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum: Book of Abstracts. Harri Mantila, ed. Oulu: University of Oulu, pp. 180–181.
- Valiulina S.I., 2015b. Some evidence of South European contacts of the Middle Volga and Kama in the material culture of Toretskoe urban settlement. Journal of Sustainable Development, vol. 8, no. 4, pp. 292–301.
- Valiulina S., 2016. Medieval Workshop of an Alchemist, Jeweller and Glassmaker in Bilyar (Middle Volga Region, Russian Federation). Památky archeologické, 107, pp. 237–278.
- Valiulina S.I., 2017а. Russians in a Tatar town of the 15th century and Nogais at its walls: the problem of intercultural interaction based on materials from excavations in the town of Toretskoye. Rus and the World of the Nomads (the second half of the 9th–16th c.): Publication from the 7th International Scientific Conference (2016). V. Nagirnyy, ed. Krakow, pp. 352–368. (Colloquia Russica. Series I, vol. 7). (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2017б. Toretskoye: chronology and ethnic composition of the town’s population. Trudy V (XXI) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s”ezda [Works of the V (XXI) All-Russian Archaeological Congress]. Barnaul: Altayskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 172–173. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2017в. The 2017 hoard of metal utensils and household items from the Toretskoye urban settlement. Pamyatniki srednevekovoy arkheologii Vostochnoy Evropy [Medieval archaeology sites of Eastern Europe]. A.V. Chernetsov, ed. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 235–246. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2020. Some ornaments and costume details of the Toretskoye urban settlement. “Na odno krylo – serebryanaya, Na drugoe – zolotaya…”: sbornik statey pamyati Svetlany Ryabtsevoy [“One wing is silver, the other is golden...”: Collected articles in memory of Svetlana Ryabtseva]. Kishinev, pp. 207–218. (In Russ.)
- Valiulina S., 2021. Copper Incense Burner and Bronze Mirrors of the Toretsky Urban Settlement (Bolumer) in Tatarstan. Proceedings of the 5th International Conference Archaeometallurgy in Europe. B. Torok, A. Giumila-Main, eds. Dremil-Lafaqe: Mergoil, pp. 369–390. (Monographies Instrumentum, 73).
- Valiulina S.I., Pyataev A.V., Ivanova A.G., Manapov R.A., Voronina E.V., 2018. Mossbauer Studies of Moulded Kama – Cis-Urals ceramics. Archaeometry, vol. 60, no. 6, pp. 1237–1250.
- Volkov I.V., 1991. Attribution of several items from the Golden Horde Azak. Drevnosti Severnogo Kavkaza i Prichernomor’ya [Antiquities of the North Caucasus and the Pontic]. A.P. Abramov, ed. Moscow: Gosudarstvennyy muzey iskusstva narodov Vostoka, pp. 174–181. (In Russ.)
- Yavorskaya L.V., Badeev D.Yu., 2022. Bone-carving workshops and the problem of identifying them. Aleshinskaya A.S. i dr. Materialy i issledovaniya po arkheologii Bolgarskogo istoriko-arkhitekturnogo kompleksa [Materials and research on the archaeology of the Bolgar historical and architectural complex], IV. Tsentral’nyy bazar Bolgara i ego okruzhenie (mezhdistsiplinarnye issledovaniya po materialam raskopok 2011–2019 gg.): kollektivnaya monografiya [Central Bolgar bazaar and its surroundings (interdisciplinary research based on materials from 2011–2019 excavations): Joint monograph]. Moscow; St.Petersburg: Nestor-Istoriya, pp. 76–83. (In Russ.)
- Zakharov S.D., 2004. Drevnerusskiy gorod Beloozero [The Rus town of Beloozero]. Moscow: Indrik. 592 p.
- Zakirova I.A., 1988. Bone carving art of Bolgar. Gorod Bolgar: ocherki remeslennoy deyatel’nosti [The city of Bolgar: Studies in craft activities]. G.A. Fedorov-Davydov, ed. Moscow: Nauka, pp. 220–243. (In Russ.)
- Zaykovskiy B.K., 1929. On the origin of “chain mace”. Izvestiya obshchestva arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom gosudarstvennom universitete [Transactions of the Society of Archaeology, History and Ethnography at Kazan State University], vol. XXXIV, iss. 4, pp. 113–119. (In Russ.)
Arquivos suplementares