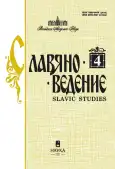Мотив (не)дома в боснийской литературе о беженцах
- Авторы: Шатько Е.В.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2025)
- Страницы: 101-108
- Раздел: * * *
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350855
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040085
- EDN: https://elibrary.ru/VABWLW
- ID: 350855
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается реализация мотива дома в современной боснийской литературе беженцев, т.е. в произведениях, написанных беженцами или о них. Материалом для исследования стали сборники рассказов «Дневник переселения» Дж. Карахасана, «Сараевское Мальборо» М. Ерговича и романы «Три одиночества, или Место незавершенных дел» В. Капор и «Поймать зайца» Л. Басташич. Для Карахасана и Ерговича дом становится пространством разрушающимся – буквально и метафорически, для Капор – это пространство памяти, символ давно утраченного, но необходимого для целостности личности. В романе Басташич утраченный дом отнюдь не идеализуется, он резко противопоставлен цивилизованному home. В осажденной литературе дом теряет свою защитную функцию, поскольку, понимаемый как конкретное здание или же как город в осаде, сам становится источником опасности. Дом перестает быть местом действия, убежищем, он переносится в пространство памяти, становится призрачным, иллюзорным и недостижимым. Большинство персонажей литературы беженцев (безуспешно) стремится (вос)создать дом или же вернуть утраченный. Травма утраты дома в большинстве произведений оказывается непреодолимой (кроме романа «Три одиночества…»).
Ключевые слова
Полный текст
Мир, как и его художественное воплощение, в своем разнообразии и многомерности характеризуется пространством. Т.В. Топорова, исследовательница древнеисландской модели мира, писала, что категории пространства и времени в силу своей универсальности и всеобьемлющего характера «формируют пределы, в которых развертывается человеческая жизнь», тем самым они определяют все остальные категории, связанные с антропоцентрической сферой: судьбу, право, социальное устройство [Топорова 1994, 75]. Согласно мифологической модели мира границы своего рода пространственных кругов концентрически расходятся от человека: ближний круг – сам человек, следующий – дом [Маслова 2004, 82]. Мотив дома является значимым в бесчисленном количестве литературных произведений с древних времен до современности, Ю.М. Лотман писал об универсальности этого мотива, возводя его появление к фольклору, для которого характерно также противопоставление дома как пространства «своего, безопасного, культурного, охраняемого покровительственными богами пространства» «антидому» – «чужому, дьявольскому пространству, месту временной смерти, попадание в которое равносильно путешествию в загробный мир» [Лотман 2000, 315]. В книге «Метафоры, которыми мы живем» пространство дома также рассматривается как метафора вместилища [Лакофф, Джонсон 2004, 54], т.е. это внутреннее ограниченное «помещение», замкнутость которого может быть проницаемой. Домом может быть как собственно жилище, так и город или страна, воспринимаемые как пространство, имеющее границу и подразумевающее возможность нахождения внутри. В современных работах, посвященных образу дома, применяются разные подходы: от исследования мифологемы дома с опорой на труды Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, В.Н. Топорова, Дж. Кэмпбелла, К.Г. Юнга и других до концепции П. Нора дома как «места памяти». Эти же методы применимы и к литературе эмиграции.
Далее будет рассмотрено, как в современной боснийской литературе беженцев (refugee literature, Flüchtlingsliteratur), т.е. в произведениях, написанных беженцами или о них, реализуется мотив дома: 1. Что именно понимается под домом (жилище, родной город, страна); 2. Описывается ли (и как) процесс утраты дома; 3. Возможно ли обретение нового дома; 4. Возможно ли возвращение или восстановление утраченного дома. Материалом для исследования стали сборники рассказов «Дневник переселения» (1993) Дж. Карахасана, «Сараевское Мальборо» (1994) М. Ерговича, относящиеся к «осажденной» литературе», и романы «Три одиночества, или Место незавершенных дел» В. Капор (2010) и «Поймать зайца» Л. Басташич (2018), написанные значительно позже.
Для выбранных произведений характерно восприятие дома как расширенного топоса, не ограниченного собственно жилищем, напротив, разрастающегося до масштабов города (Ергович, Карахасан), города и его ближайших окрестностей (Капор) или даже страны (Басташич). Если для Карахасана и Ерговича дом становится пространством разрушающимся – буквально (рушащиеся стены) и метафорически (переход в состояние бездомности, влекущее за собой частичную утрату идентичности), то для Капор это пространство памяти, символ давно утраченного, но необходимого для целостности личности: «Так бывает в родных краях. Он привязывает тебя к себе крепчайшими и тончайшими нитями, если ты настоящий человек. И только здесь ты бываешь сам собой». В романе Басташич утраченный дом отнюдь не идеализуется, он резко противопоставлен цивилизованному новому home: «Home была наша квартира, наши книги, наша кровать с анатомическими подушками, наш испорченный душ, уточка на плитке в ванной, царапины на паркете. И даже голый мужчина в нашем окне. Home – это не Босния. Босния – это нечто другое. Ржавый якорь в зассанном море. До сих пор нужно делать прививку от столбняка, хотя прошло столько лет».
Очевидно, что дом в осажденной литературе теряет свою защитную функцию, поскольку, понимаемый как конкретное здание или же как город в осаде, сам становится источником опасности. Однако для героини романа «Три одиночества…», вернувшейся в родной Городок, он сохраняет эту функцию, более того, безопасность «своего» пространства начинает распространяться и на ее дочерей, как будто конкретный дом «закреплен» не только за его жильцами, но и за их потомками: «Внизу, на дне долины, две девочки входят в дом и выбегают из него. Им интересно в новом пространстве. Она оставила их в сердце своего детства. Одних. В любом другом месте побоялась бы это сделать. Здесь они в безопасности, думает она. И здесь они дома». Метафора сердца представляется чрезвычайно удачной и для данного исследования: в анализуемых произведениях дом в широком понимании может сужаться до конкретного строения, сердца, сердцевины, центра.
Для Карахасана, однако, таким центром становится город Сараево: «Все, что в мире возможно, есть в Сараеве, уменьшенное, сведенное до своей сути, но есть, потому что Сараево – центр мира (внешнее всегда содержится во внутреннем)?». Он сравнивает город-дом с Иерусалимом: «Я бы вынес, что нет воды и электричества, что нечего есть и что холодно, но как вынести, что я остаюсь в своем городе один?! Как будто я верю в единство всего мира, тогда как оно подтверждается только в Иерусалиме? Как мне жить, если мы с Иерусалимом одни, одни, запертые в своих монологах?». В «Дневнике переселения» Сараево описан как мультикультурный и мультирелигиозный котел, неумолимо этот образ разбивается о реальность войны: разрушаются не только здания, хранители семейных историй и воспоминаний, но и город, открытый и закрытый одновременно. Город-дом Карахасана, таким образом, нарушает восприятие дома как пространства закрытого [Топорков 1995, 168].
Дом разрушается и, в связи с этим, утрачивает еще одну свою основополагающую характеристику – безопасность. Поэтому зачастую, даже если физическое воплощение дома сохранено, он становится утраченным навсегда. Герой Ерговича говорит: «Я верил, что это чудо, что у меня дом и машина после этого сумасшедшего дня и еще более сумасшедшей ночи остались целыми. Но с течением времени я понял, что ничто не спасено, просто еще не пришло время расставания. Оно должно прийти постепенно, чтобы я ощутил его каждой своей клеткой, до тех пор пока не пойму, что в этом городе, кроме убитых и разорванных на куски людей, разрушенных зданий и позабытого детства, мне не принадлежит ничего…». Восприятие пространства как «своего» связано в том числе с безопасностью, ее отсутствие может превратить дом не просто в «чужое» пространство (не-дом), но даже и во враждебное («Лет на сто старше, чем был еще месяц назад, он вышел из дома…», «сараевский ад»), в антидом.
Процесс утраты дома наиболее подробно и ярко представлен в сборнике «Сараевское Мальборо», многие герои рассказов покидают город, как будто понимая, что это нечто гораздо большее, нежели просто перемещение в пространстве: «От одной страны, мечтаний и планов ее людей и бесчисленных боснийских миров осталось настолько мало, что и самые упрямые захотели спасти головы, хотя и не знали, что с ней потом делать», «Город остался где-то за спиной, ужасающе недосягаемый, а перед Юришичами открылся неосажденный мир», «Сараево там же, где был, но нас больше нет». Если Ергович показывает процесс утраты дома через образы обычных людей, вынужденных бежать из осажденного города, то Карахасан описывает собственный опыт такого переживания и его более позднюю рефлексию: «Тогда я об этом не думал […], потому что нужно было убирать битое стекло из оконных рам, но теперь, когда я записываю некоторые образы, отягощающие мою память, я готов поклясться, что именно тогда, когда я впервые осознал, как красиво мое здание в Мариндворе [район в Сараеве], осознание того, что я прощаюсь со своим домом, проникло в меня и буквально причинило мне боль. Раньше я его узнавал, теперь вижу; раньше я жил в нем, и теперь я его чувствую и люблю, это значит, что я с ним прощаюсь, это значит, что он становится памятью, потому что мы обретаем полную ценность всего, с чем сталкиваемся, только когда то, с чем мы столкнулись, переходит из этого мира в память». Дом, таким образом, перестает быть местом действия, убежищем, перестает быть противопоставленным окружающему миру, исчезает из реального пространства, оставаясь пространством памяти, более того – переносится в пространство памяти, становится призрачным, иллюзорным и недостижимым.
Интересно, что в выбранных произведениях, относящихся к литературе беженцев, встречаются и персонажи, не покинувшие дом, и соответственно, как будто не пережившие его утрату. В рассказе «Могила» («Сараевское Мальборо») герой в разговоре с американским журналистом на вопрос, почему он остался в Сараеве, отвечает: «я тут не остался, я тут родился». Однако осада города не проходит для него бесследно: в планах боснийца нет жизни, он все же именно остался здесь, чтобы быть похороненным на одном из сараевских кладбищ, откуда открывается вид на весь город, а не в Америке, где «мертвецы выстраиваются, как военные, – строем». В романе «Три одиночества…» герой «испугался пустоты наступающих лет. Тишина, соткавшая из минувшего убежище от беспокойного мира, вдруг показалась ему клеткой, стеклянной (он видел мир, но не участвовал в его жизни), из которой надо выбраться хоть на мгновение, но не получалось. Навалилось на него собственное сознание, и был он уже мертв, ибо понял, что играть и не играть суть одно и то же». В обоих приведенных примерах дом трансформируется, навсегда теряя витальность, застывая во времени и заставляя героя перестать жить и начать ждать смерти в, по сути, уже отмершем пространстве – пространстве не-дома, ложного дома, сохраняющего лишь внешние признаки утраченного.
Если, оставаясь в искорeженном войной пространстве, герои оказываются зажатыми в ложном доме, то покинувшие это пространство персонажи стремятся (вос)создать новый дом. Ергович в рассказе «Боснийский котел» прямо заявляет, что «в Загребе было невозможно реконструировать утраченный мир мечтаний. Планы в местных кофейнях казались пустыми и натянутыми и становились ложью еще до того, как их произнесут». Яркой метафорой невозможности обретения дома становятся безуспешные поиски боснийского котла, особой формы посуды для приготовления одноименного блюда: такой глиняный котел не купить в Загребе, да и в Сараеве он не продается, он просто есть в каждом доме. В романе «Три одиночества…» героиня также признается, что за долгие годы в эмиграции так и не обрела новый дом: «Карл раздергивал шторы и позволял свету орошать все части их дома. Дома – думала она. “Дом бывает только один. Дом – это Городок”, – говорила она ему». По ее мнению, беженцы делятся на тех, «кто со стеснением и неохотно признается в обществе, откуда ты родом», и тех, кто сообщает о своей родине «с гордостью». Первые «заглатывают малую родину, как змея жабу, и выдумывают себе новую!». Вторых всю жизнь терзает желание вернуться («лихорадка, которая время от времени охватывала ее и очень часто делавшей ее безумной. Несчастной. Незавершенной»). И те, и другие оказываются в пространстве не-дома, вымышленного или же раздираемого тоской по утраченному исконному дому. Басташич в романе «Поймать зайца» вкладывает в уста главной героини неутешительная мысль: «люди, которые слишком часто переселяются, теряют чувство дома», лишая ее возможности обрести даже иллюзию «своего» пространства.
Если же обрести новый дом представляется невозможным, то есть ли шанс вернуться? Для осажденной литературы ответ однозначный – нет. Город-дом разрушен, изменен до неузнаваемости, покинут, безвозвратно утрачен [Шатько 2023, 202–222]. Капор же дает на этот вопрос несколько ответов: выше приведен пример трансформации дома в не-дом для не покинувшего разрушающийся Городок героя, другой вариант, предлагаемый автором, – возвращение героини спустя много лет («Некуда мне больше вернуться. Надо вернуться»). Она возвращается дважды: первый раз, когда «война уже накапливалась под небосводом, и она должна была пережить все беды здесь», «первый раз она вернулась, чтобы запереть дом». После войны ее долго не было в Городке, который, однако, «парил у нее перед глазами как фата-моргана, как обетованная вечность и как проклятая долина. Она никогда не говорила о нем. И только непрестанно мечтала о нем». Спустя много лет она снова возвращается, поддавшись этому внутреннему зову. Сперва пространство прежнего дома не кажется ей своим: отвечая дочерям на вопрос «чье это все?», она говорит «ничье», а затем поправляет себя и присваивает пространство: «Общее. Наше». Теперь она уже отпирает дом, и он снова становится частью ее самой: «Она носится по дому по всем направлениям. Распахивает заколоченные окна. В сердце дома, в ее сердце врывается прохлада позднего вечера». Возвращение возможно, однако в заново обретенном доме царит особое время: «Ее разрывает между городской вечностью Городка и действительностью, она на мгновение застревает в часах, в которых вечно пересыпается все тот же песок. Как будто кто-то переворачивает их, и она окончательно теряет представление о времени, в котором находится»; иной характер времени ощущают и ее дочери («Судя по скорости, с которой они носятся, они увлечены новым временем»). Для героини Капор возвращение домой оказывается не только возможным, но и целительным: «Это тот миг, о котором я мечтала, думает она. Это тот миг…». Обретенное (наконец-то!) спокойствие и умиротворение становится финальным аккордом романа, что позволяет предположить, что для героини возвращение становится преодолением травмы. В пользу этого предположения говорит и то, что остается неизвестным, надолго ли героиня вернулась, вероятно, это неважно. Важнее исцеление от многолетней лихорадки.
В центре романа «Поймать зайца» – возвращение героини домой. Ею движет та же лихорадочная тоска, что и героиней «Трех одиночеств…», несмотря на не самые лестные описания родины, приведенные выше. «“Зачем тебе ехать домой?” Home. У меня были готовы ответы. Я представила ему [парню] абсолютно убедительный рассказ о великолепной возможности повидаться с матерью, привести в порядок кое-какие документы, забрать оставшиеся пластинки, рассказ о школьной подруге и ее брате, который, похоже, в Вене, […], рассказ о дешевых авиабилетах и о том, как мне всегда хотелось увидеть Мостар, какой это отличный тайминг, рассказ обо всем и ни о чем. Мне показалось на мгновение, что он поймет, в чем дело, увидит дыры в моем неуклюжем коде, что он мне скажет, что об этом не может быть и речи». Путешествие оказывается сложным, наполненным болезненными столкновениями с осуждением, непринятием ее теми, кто, как ей казалось, имеет схожий с ней опыт, однако годы ее отсутствия создали непреодолимый разлом. Возвращение оказывается возможным лишь географически, «мигрант не может вернуться домой» [Иглтон 2012, 95], то, чего жаждала героиня, недостижимо, как и посещение дома, в котором когда-то жила ее семья: «то, что я обнаружила, оказалось лишь памятником моему дому, обросшему травой, облупленному и забытому».
В проанализированных художественных текстах, относящихся к литературе беженцев, дом понимается широко (как город, регион или страна, лишь изредка сужаясь до собственно жилища. Образы города-дома или страны-дома характеризуются большей открытостью, нежели то предполагает традиционное восприятие пространства такого типа. Военные действия (описанные в тексте или же оставшиеся за его пределами) лишают пространство дома функций защиты и обеспечения безопасности, превращая его в пространство не-дома и реже – в антидом. Пространство утрачиваемого или уже утраченного дома переносится (или трансформируется) в пространство памяти. Утрата дома переживается героями как травма, выраженная словесно или же описываемая как зияющая пустота, восполнить которую невозможно. Из представленных произведений только в романе «Три одиночества…» травма преодолевается – возвращение домой оказывается терапевтичным.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Басташич Л. Поймать зайца. М.: Эксмо. 2021. URL: https://www.litres.ru/book/lana-bastasic/poymat-zayca-65714182/chitat-onlayn/ (дата обращения: 01.03.2025).
Капор В. Три одиночества, или Место незавершенных дел. СПб.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2017. 144 с.
Karahasan Dž. Dnevnik selidbe. Sarajevo: Connectum, 2010. 102 s.
Jergović M. Sarajevski Marlboro. Podgorica: Nova knjiga, 2016. 144 s.
Об авторах
Е. В. Шатько
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: eshatko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9467-8987
Москва, Российская Федерация
Список литературы
- Иглтон Т. Идея культуры. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 192 с.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПБ, 2000. 704 с.
- Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск: ТетраСистемс, 2004. 256 с.
- Топорков А.Л. Дом // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. 416 с.
- Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. М.: Радикс, 1994. 192 с.
- Шатько Е.В. Топос Сараева в «осажденной» литературе: Дж. Карахасан, М. Ергович, К. Заимович // Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма Центральной и Юго-Восточной Европы. Коллективная монография / отв. ред. Н.Н. Старикова. (Серия «Литература ХХ века»). М.: Институт славяноведения РАН, 2023. С. 198–228.