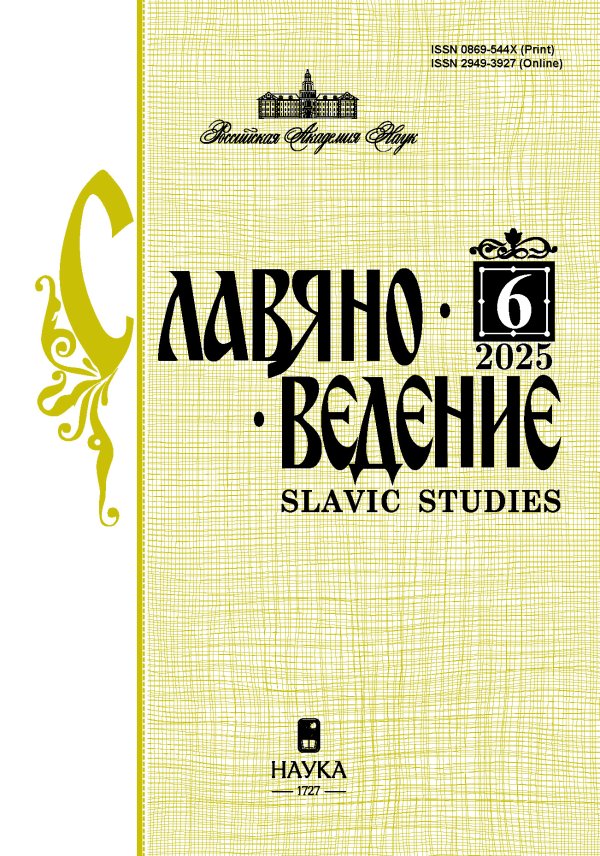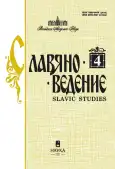(Un)reconciliation with History in O.S. Zabuzhko's Novel The Museum of Abandoned Secrets
- Authors: Baydalova E.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2025)
- Pages: 93-100
- Section: * * *
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350854
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040071
- EDN: https://elibrary.ru/UZZPMM
- ID: 350854
Full Text
Abstract
The article deals with the construction of narratives about tragic historical events of the twentieth century on the territory of Ukraine in O. Zabuzhko's novel “Museum of Abandoned Secrets” (2009). Such narratives, being a part of contemporary Ukrainian culture, also become a part of commemorative culture, collective memory. The writer uses mnemonic narrative, works not only with the consciousness, but also with the subconsciousness of the characters, thus actualizing the previously silenced events of common and family history, as well as personal – all of them turn out to be connected with each other by invisible strings. The traumatic experience of the past, transmitted through personal and post-memory, can deform memories, not reconstructing but deconstructing them. Through the prism of such deconstruction, the novel depicts the famines of 1932-1933 and 1947, the activities of the UIA during and after World War II, the Volyn Massacre, and others – some of the most silenced events in official Soviet history. It is concluded that the traumatized consciousness transforms the memory of the significant past in the novel in such a way that memories of it become a trigger for a new round of struggle for national identity.
Full Text
Создание нарративов об исторических событиях, особенно если речь идет о художественной литературе, получившей широкое распространение и активный читательский отклик, становится частью коммеморативной культуры, общей коллективной памяти. Известная украинская писательница, поэтесса, философ, культуролог, публицист Оксана Стефановна Забужко (род. 1960, Луцк) осознанно создает определенный нарратив об историческом прошлом Украины, понимая, что «бремя неартикулированного опыта […] приравнивается к небытию». Это мнемонический нарратив, в котором автор «работает» не только с сознанием, но и подсознанием персонажей, актуализируя при этом замалчиваемые события как личной, семейной, так и национальной истории. В соответствии с концепцией А. Ассман, культурная память формируется в результате осмысления индивидуального коммеморативного опыта [Ассман 2014]. Травматический опыт также вносит свой вклад в формирование общей культурной памяти, однако он может быть вытеснен или выражен в виде разнообразных аномалий. Таким образом, литературное произведение не только репрезентирует личную либо культурную память, но и формирует коллективную национальную память. Анализ эссеистики Забужко позволяет сделать вывод, что «конструирование» коллективной национальной памяти – ее сознательная писательская стратегия. В эссе «Комплекс Итаки», где поднята тема кризиса национальной идентичности, обозначена главная задача украинских интеллектуалов: овладевание национальной культурой и историей, создание «нового образа Итаки», который станет для «украинского Одиссея» новым «образом себя». В этом конструировании новой национальной идентичности важнейшую роль играет литература, поскольку, по мысли автора, украинская нация «существует благодаря литературе», как и другие колонизированные ранее народы.
«Музей заброшенных секретов» («Музей покинутих секретiв», 2009, русский перевод 2013) – второй роман Забужко. В 2013 г. он был награжден премией «Ангелус», которая вручается лучшему произведению Центральной Европы. События романа охватывают период украинской истории с начала 1940-х по начало 2000-х годов, канун «Оранжевой революции». Повествование выстроено не линейно, действие происходит и в современности, где главная героиня – журналистка Дарья Гощинская – собирает материал для документального фильма о деятельнице УПА Олене Довган, погибшей при невыясненных обстоятельствах в лесах Западной Украины в 1947 г., и в 1940-е
годы, где влюбленный в Олену Адриан Ортынский по прозвищу «Зверь» сражается в составе УПА. Прошлое в романе становится известно героям из документов, старинных фотографий, мистических телефонных звонков и паранормальных снов, в которых Адриан Ватаманюк (внучатый племянник Олены Довган, с ним у главной героини завязываются серьезные отношения) видит себя Адрианом Ортынским. В этом «Музее заброшенных секретов» читатель перемещается от зала к залу (так названы главы романа), в каждом из которых открываются сокрытые ранее тайны. «История страны и каждого отдельного рода и память о ней представляется в романе музеем заброшенных секретов, затерянных в пространстве и во времени обрывков человеческих историй, не явленных миру, но связанных с ним невидимыми нитями, историй, спрятанных и забытых, которые необходимо найти для того, чтобы наконец самоидентифицироваться, соединить воедино национальную историю, расколотую, разделенную на множество отдельных индивидуальных деяний» [Байдалова 2019b, 342].
Детская игра в «секретики» становится метафорой спрятанной под спудом истории, которую замалчивали, тех исторических событий, правда о которых скрывалась в советское время: «Несостоявшаяся любовь, нерожденные дети, необличенное предательство – все те секреты, которые были похоронены под глубоким слоем культурно-исторической почвы, частично или полностью открываются и меняют жизнь потомков тех, кому было что скрывать» [Байдалова 2019a, 63]. Таким образом восстанавливается генетическая (или родовая) память, преодолевается разрыв родственных связей, артикулируется единство индивидуальной и коллективной истории. «Музей заброшенных секретов»
«…интересен прежде всего своей необычной интерпретацией идеи о том, что все в этом мире взаимосвязано и пронизано некими общими волнами, струнами: тронь одну – отзовутся другие. И только так – внимательно вслушиваясь в “радиомузыку жизни” (выражение Германа Гессе) – можно осознать прошлое, настоящее и будущее, обрести утраченную память истории, попытаться понять себя в бесконечном времени» [Мариничева 2010].
Прошлое в романе Забужко – это и личная память, и «постпамять» [Хирш 2020] – память, сформированная предыдущими поколениями, пережившими травмирующие события. Связь постпамяти с прошлым осуществляется «за счет привлечения воображения, проективных и творческих механизмов» [Там же, 8]: «…для таких раскопок нужна историческая передышка, тот же перекур – перевести дух, сделать крюк длиной в одно поколение. Детям это не дано, а вот для внуков – как раз два поколения – именно такая дистанция: систола-диастола, ритмическое дыхание, пульс прогресса…». Однако оказывается, что память в полном объеме непознаваема, часть «секретиков» так и остается забытыми, похороненными под толщей земли, как и люди, кого в годы тоталитарного прошлого «лишили возможности крикнуть “Я есть!”: заткнули рот, перерезали горло, сожгли рукопись… Мы не умеем слышать их молчание, живем так, словно их просто не было. А они были. И наши жизни слеплены и из их молчания тоже». В одном интервью Забужко так говорит об этом: «Основная идея “Музея заброшенных секретов” заключается в том, что мы никогда не узнаем, как было на самом деле. […] Но нужно как можно больше показать, объяснить, узнать (ведь это часть человеческой потребности – быть хозяином собственной жизни), как постичь свое “духовное тело”, которое мы влечем за собой размытым во времени».
Метафорой сущности человеческого бытия в романе является безразмерный чемодан, набитый «совершенно бессмысленными для посторонних безделицами, – чемодан, который, покидая этот мир, человек навсегда забирает с собой. По дороге, правда, из него, не застегнутого, высыпается еще горсть-другая хлама на память живым […] – и остается надолго перетлевать в памяти свидетелей и хранителей». Такие случайно уцелевшие осколки представляются утерянным тайным кодом «к каким-то глубинным, подземным смыслам чужой жизни». Именно по этим уцелевшим осколкам и восстанавливаются (частично) замалчиваемые исторические события и происходящие на их фоне события личной жизни, а не по информации, которую могут предоставить официальные институты памяти (архивы, музеи, учебники истории и т.п.), поскольку в условиях тоталитарного государства они предлагают заведомо искаженные факты. Однако и постпамять по-своему деформирует события личной и национальной истории.
Центральной в романе является тема УПА. Именно с деятельностью повстанцев – этой до последнего времени одной из самых остро дискуссионных тем украинской истории – связана большая часть исторического пласта повествования. Случайно увидев фотографию бойцов одного подпольного подразделения, главная героиня романа, Дарина, словно услышала призыв от запечатленной на ней Олены Довган, – и стала расследовать обстоятельства ее жизни и смерти. «Секретики» в романе – это не только детская игра, но и «подземные убежища бойцов УПА (схроны, крыивки), в которых спрятанными оказываются главные сокровища народа – национальные герои» [Байдалова 2019a, 68]. В литературе социалистического реализма были сформированы типичные образы советского солдата-героя и врага-бандеровца – в современной украинской литературе наблюдается их инверсия: враг и герой поменялись местами. Забужко в «Музее заброшенных секретов» придерживается той же стратегии. В рецензии на этот роман в «Новой газете» В. Геросин с иронией отмечает, что «воины УПА, как когда-то советские солдаты, обладают не одной, а сразу всеми добродетелями: богатым внутренним миром, хорошим образованием, любовью к Богу и Родине, ненавистью к врагу. При этом если влюбляются в кого-то – краснеют и бледнеют и чуть ли не в обморок падают». Советские же воины («большевики») представлены как жестокие захватчики, не щадящие жизни ни чужих, ни своих воинов, и мелкие воришки, которые только и делают, что хлещут самогон и сметают «как саранча все, что попадалось под руку, – у вдовы […] забрали единственную ценную вещь в доме – хром на сапоги», в то время как «во всякой порядочной армии, как и в УПА, за мародерство положен расстрел». В романе также происходит инверсия некоторых идеологических советских клише. Так, среди повстанцев плечом к плечу сражаются западные и восточные украинцы, русские и евреи. Все они объединены общей целью – борьбой против тоталитаризма. Типичный пример перевоспитания негативного персонажа можно увидеть в эпизоде с русским майором НКВД, который после шести месяцев в плену у повстанцев загорелся их идеями и безропотно отправился на расстрел, потому что стремился искупить свою вину перед ними. Те же, кому пришлось по приказу командира его расстрелять, так переживали, что сами потом искали смерти в бою. Крайне чувствительная тема, касающаяся зверств повстанческой войны и так называемых ритуальных жестокостей, имевших место с обеих сторон, освещается в романе ожидаемо односторонне. Все ужасы: убийства на месте без суда и следствия, насилие над девушками на глазах их матерей, распоротые животы беременных женщин, прибитые к доскам языки связных и изувеченные тела мертвых младенцев – приписываются исключительно одной из сторон, сотрудникам НКВД. Таким образом, замалчиваемое ранее прошлое, о котором невозможно было вспоминать при тоталитарном режиме, мифологизируется, не реконструируется, а деконструируется, деформируется. Травмированное сознание оказывается не способно к объективному изображению исторических событий, оно неизбежно включает «защитные механизмы», когда речь идет о вине за совершенное насилие.
Поэтому закономерно «фигурой умолчания» в романе является болезненная для украино-польских отношений тема Волынской резни – одна из центральных «для польской памяти про преступления Второй мировой войны» [Байдалова 2019a, 69–70]. Способность к насилию представлена в «Музее заброшенных секретов» как «наследие Польши»: «…это она, двадцать лет орудуя нами с высокомерной, сквозь зубы цедимой уверенностью, что “русины” – это не люди, а “кабане”, закалила нас, как крепкий топор, отвечать симметрично – тем же самым…». Волынская резня упоминается словно мимоходом в одном не лишенном пафоса лирическом отступлении от имени повстанца Адриана Ордынского и выглядит, с одной стороны, как закономерный ответ на насилие с польской стороны, с другой стороны, как то, что было быстро сознательно остановлено греко-католическими священниками во главе с митрополитом Андреем Шептицким и общим решением УПА: «И когда наша военная сила, как река, что выходит из берегов, ринулась было в мстительное русло, и на Волыни и Подолье запылали усадьбы польских колонистов, у нас нашлась другая сила, остановившая движение по траектории слепого возмездия, – первосвященный из Святого Юра, а за ним и мученики-стигматы из подполья раскинули предостерегающе руки, взывая к людям не пятнать перед Богом святое оружие невинной кровью, и Провод на своем Третьем собрании велел нам переродиться для дальнейшей борьбы, – потому что наша сила призвана служить не возмездию, а освобождению, а кто совершает насилие над безоружным, тот сам себе узник». Таким образом, и это событие национальной истории мифологизируется, поляки же представлены в романе несущими насилие и уничтожение украинскому народу.
Еще одной болевой точкой исторического прошлого выступает в романе голод – 1932–1933 гг. и послевоенный. Травма пережитого голода – одного из страшнейших в биологическом отношении пограничных состояний – оказывается важным фактом реальности персонажей романа, той скрытой травмой, которая продолжает все время влиять на последующие поколения как в каждой отдельной семье, так и в целом в украинском обществе. Именно голод связывает воедино семейные древа Адриана Ватаманюка и Дарины, восстанавливает утраченные связи между поколениями. В мистическом сне, который эти герои видят одновременно и будто вместе, они узнают не только историю гибели Олены и Адрина Ортынского, но и то, как Олена помогла девушке с Полтавщины, которая приехала раздобыть хоть какую-то еду для погибающей от голода родни, несмотря на то, что последняя догадалась о том, что Олена – член УПА. Эта девушка оказалась тетей Дарины, она привезла с Запада на Восток мешок муки и тем самым спасла семью, в том числе мать Дарины, которая в те годы была ребенком. Не всем приехавшим с восточной части Украины голодающим так повезло: многие, выбравшись из вагонов, «падали тут же, на месте, передохнуть, не в силах двигаться дальше, а неподалеку стоял крытый грузовик, и солдаты сносили и бросали в кузов, как дрова, тех, кто уже не встанет». Эти картины напоминают Адриану Отрынскому во сне рассказы о голоде 1933-го г., когда еще живых людей бросали в ямы вместе с мертвыми, поскольку им все равно «один день остался». Не похороненные и не оплаканные должным образом мертвецы не дают окончательно забыть о себе: мистическим образом они влияют на живых. Подруга Дарины – талантливая художница Влада Матусевич – гибнет в аварии на «нехорошей трассе», где постоянно разбиваются машины: «Там через дорогу могильник был в голодовку […] где неглубоко, земля проседала, так иногда людские кости выносило… здоровенный, говорили, был могильник! Это уже потом через него асфальт проложили…».
Адриан и Дарина, потомки тех, кто выжил в голод, войну и послевоенные годы, в своей любовной связи соединяют две семьи, чьи истории постепенно восстанавливаются в романе, заполняя лакуны замалчивания и недосказанности. Таким образом происходит встраивание себя в семью, род, и одновременно семья, род встраиваются в «свое сознание, происходит реконструкция, своего рода регенерация ветвей генеалогического древа» [Адельгейм 2018, 558]. Однако наиболее релевантной для всего романа является все же оппозиция «свой/чужой», в которую встраивается даже еще не рожденный, а только зачатый ребенок главных героев – будущий боец национального фронта. Две красные черточки на тест-полоске Дарина воспринимает как «мобилизационную повестку»: «…война продолжается, война никогда не прекращается, – теперь это наша война, и мы ее еще не проиграли». Таким образом, жизненное пространство для героев романа представляет собой бесконечный фронт, на котором в каждую историческую эпоху идет свое сражение, связанное со всеми предыдущими, со всем предшествующим историческим опытом. Травмированное сознание трансформирует память о значимых исторических событиях так, что воспоминания о них становятся триггером для нового витка борьбы за национальную идентичность.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
УПА – Украинская повстанческая армия
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Геросин В. Националистический реализм. Возмутитель литературного спокойствия Оксана Забужко написала роман-поучение и предупреждение. – «Новая газета», 2011, № 102, 14 сентября <http//www.novayagazeta.ru>. Периодика (составители) // Новый мир. 2011. № 12. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2011/12/periodika-191.html (дата обращения: 01.03.2025).
Друге польско-українське Комюнiке // Україна Модерна. 12.12.2024. URL: https://uamoderna.com/blogy/ii-polsko-ukrayinske-komyunike/. (дата обращения: 04.03.2025).
Забужко О. Хронiки вiд Фортiнбраса. Вибрана есеїстика 90-х. Київ: Факт, 2001. 340 с.
Забужко О. Музей заброшенных секретов / пер. с укр. Е. Мариничевой. М.: АСТ, 2013. 697, [2] с.
Хруслинкая И. Оксана Забужко: Музей покинутой идентичности // Театръ. 31 декабря 2014. URL: https://oteatre.info/oksana-zabuzhko/ (дата обращения: 07.03.2025).
About the authors
E. V. Baydalova
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: e.baydalova@inslav.ru
ORCID iD: 0000-0001-6263-8358
Moscow, Russian Federation
References
- Adel’geim I.A. Psikhologiia poetiki: Autopsikhoterapevticheskije funktsii khudozhestvennogo teksta (na materiale pol’skoi prozy 1990–2010-kh gg.). Moscow, Indrik, 2018, 648 p. (In Russ,)
- Assman A. Dlinnaia ten’ proshlogo. Memorial’naia kul’tura i istoricheskaia politika. Moscow, Novoje literaturnoje obozrenije, 2014, 328 p. (In Russ.)
- Baidalova E.V. Problema natsional’noi pamiati v ukrainskoi zhenskoi postkolonial’noi proze: roman
- O. Zabuzhko «Muzei zabroshennykh sekretov». PAMIAT’ VS ISTORIIA. Obrazy proshlogo v khudozhestvennoi praktike sovremennykh literatur Tsentral’noi i Iugo-Vostochnoi Jevropy (po materialam II Khorevskikh chtenii), otv. red. I.Je. Adel’geim. Moscow, Institut slavianovedeniia RAN, 2019a. Seriia «Sovremennyje literatury stran Tsentral’noi i Iugo-Vostochnoi Jevropy», 56–74 pp. (In Russ.)
- Baidalova E.V. Ukrainskaia postkolonial’naia proza: problemy natsional’noi i gendernoi identichnosti v romanakh O. Zabuzhko. Slavianskii sbornik: iazyk, literatura, kul’tura, otv. red. N.Je. Anan’jeva, O.A. Ostapchuk, Je.I. Iakushkina. Moskow, MAKS Press, 2019b, 337–344 pp. (In Russ.)
- Baidalova E.V. Preodolenije travmaticheskogo opyta v debiutnom romane O. Zabuzhko. Vestnik slavianskikh kul’tur. 2024, t. 74, 196–208 pp. (In Russ.)
- Marinicheva Je. Razminirovannaia pamiat’. Druzhba narodov. 2010, no. 9. URL: https://magazines.gorky.media/druzhba/2010/9/razminirovannaya-pamyat.html. (accessed: 20.03.2025). (In Russ.)
- Rutar Kh. Mistsia pam’iati u romani Oksany Zabuzhko «Muzeĭ pokynutykh sekretiv». Spheres of Culture, ed. by Ihor Nabytovich. Lublin, 2017, vol. 16, 345–353 pp. (In Ukr.)
- Khyrsh M. Pokolenye postpamiaty. Pys’mo y vyzual’naia lyteratura posle Kholokosta. Moscow, Novoe yzdatel’stvo Publ., 2020, 428 p. (In Russ.)