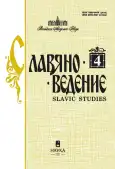"О себе не говорил!": поздние свидетельства о Холокосте Михала Гловиньского
- Авторы: Адельгейм И.Е.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2025)
- Страницы: 81-92
- Раздел: * * *
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350853
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040064
- EDN: https://elibrary.ru/UZYMNS
- ID: 350853
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена автобиографической прозе крупнейшего польского литературоведа Михала Гловиньского, одного из представителей «поздних свидетельств» о Холокосте (1998–2016). Впервые об опыте жизни в варшавском гетто и на «арийской стороне» Гловиньский решился рассказать лишь спустя полвека молчания (1998). Рассматриваются причины, препятствовавшие необходимой для преодоления травмы систематической, последовательной ее вербализации в период ПНР (отсутствие безопасной среды), анализируются особенности повествования Гловиньского и их художественно-психологические предпосылки и задачи (в том числе характерные отличия текстов, знаменующих разные стадии работы над травмой). Исследуются фрагментарность наррации и ее связь со спецификой травмированной детской памяти, отделенной от момента артикуляции временной дистанцией. Кроме того, мозаичность повествования оказывается свидетельством ограниченной выразимости Холокоста и нарушенной им преемственности. Подчеркивается аутопсихотерапевтическая значимость реконструкции не только фактов, но и эмоций. Анализируются задачи введения метатекста как инструмента диалога с собой-ребенком, объединения биографии, обретения власти над ее смыслами. Автобиографическое повествование Гловиньского – реконструирующее и концептуализирующее события прошлого – направлено в конечном счете на интегрирование фрагментов текста жизни в единый текст судьбы. Проработка травмы при помощи автобиографического повествования позволяет также (терапевтически) трансформировать смысл трагедии.
Полный текст
Начатый «Черными временами» (1998) ряд автобиографических текстов Михала Гловиньского (1934–2023), связанных с опытом Холокоста, относится к так называемым поздним свидетельствам. Лишь спустя полвека молчания крупнейший польский литературовед, представитель польской школы теории литературной коммуникации, автор множества ставших классическими трудов, решился рассказать о своем пребывании в варшавском гетто, а затем в укрытиях на «арийской стороне».
Травматическая память – «особый блок долговременной автобиографической памяти» [Фаустова 2024, 195]. Травматическое воспоминание оказывается «разломом в психике, болезненным стержнем, препятствующим гармонии (с собой и миром), обретению внутренней цельности и внутреннего равновесия» [Bojarska 2012, 271]. Оно «не становится элементом обычной мнестической системы» (цит. по: [Łysak 2010, 20]) и носит, по сути, вневременной характер, не превращаясь автоматически «в локализованное во времени повествование, обладающее началом, серединой и концом» [Kolk, Hart 2015, 170]. Именно поэтому так важна для реабилитации возможность систематической, последовательной вербализации травматического опыта [Pennebaker 2000]. Артикуляция травмы ослабляет ее последствия [LaCapra 2009, 502], поскольку способствует переходу от неконтролируемого «оживания» травматических событий к их рефлексивной проработке и осознанию дистанции между прошлым и настоящим [LaCapra 2015, 86]. В процессе нарративизации память о травме обретает стабилизирующую ее форму [Assmann 2013, 42]: структурированное воспроизведение воспоминаний позволяет языку рефлексии одержать верх над первоначальным неконтролируемым «языком повторов» [Gilmore 2015, 367]. Если же «требование секретности оказывается сильнее, [...] история о травмирующем событии всплывает на поверхность не как выраженный словами нарратив, а как симптом» [Герман 2024, 20]. В этом случае травма неизбежно будет возвращаться в виде продолжающих разрушать психику и жизнь навязчивых «вспышек» памяти, диссоциативной амнезии, различных аберраций восприятия, кошмаров и пр.
«Я был уверен, что пишу в ящик стола [...]. […] я отдавал себе отчет, что на протяжении многих лет даже в той среде интеллектуальной элиты, в которой я вращался, все это оказалось бы для большинства не очень понятно, поскольку о Холокосте почти не говорили. А если и говорили, то скорее в общих словах [...]. Я боялся неприятия, непонимания», – вспоминал Гловиньский в 2006 г.
«Делиться травматическим опытом с другими – начальное и обязательное условие для возвращения ощущения осмысленности мира. В этом процессе выжившие ищут помощи не только у ближайшего окружения, но и у более широкого сообщества. Реакция общества оказывает мощное влияние на итоговые последствия травмы» [Герман 2024, 150], – утверждает американская исследовательница травмы, психиатр Дж. Герман. По словам Б. Цирюльника – французского нейропсихолога и психотерапевта еврейского происхождения, пережившего Холокост, – психологическое состояние выживших «зависело от дискурса окружающего жертву социума» [Cyrulnik 2014, 170], т.е. от иерархии ценностей в обществе, от позиции большинства, от возможности вербализации травмы не только в узком кругу, возможности сохранять национальные традиции и преемственность.
Другими словами, для артикуляции и реконструкции травмы, лежащих в основе процесса восстановления, необходима «безопасная среда» [Герман 2024, 24], которой как раз и были лишены в ПНР уцелевшие евреи. «Великое молчание» последних [Matuszewski 1998, 207] объяснялось не столько защитной реакцией на травму, т.е. потребностью в диссоциации, дистанцировании от воспоминаний, сколько факторами, связанными с социологией, макропсихологией, государственной политикой, заставившими выжившее меньшинство вновь испытывать страх или стыд и продолжать скрывать свое происхождение. Это повседневное молчание стало (противо)естественным продолжением молчания времен Холокоста, когда маленький еврейский мальчик твердо знал: «…нельзя говорить ни о чем, что случилось в моей жизни прежде».
В результате память о Холокосте оказывалась травмирующей двояко, массовая травма парадоксальным образом переживалась как индивидуальная, что, вместе с невозможностью вербализации, еще более нарушало связи с социумом и усугубляло страдания. По словам Гловиньского, потребность воплотить свой опыт в слове он испытывал с юности, однако его сдерживал страх, значительно усилившийся после антисемитской кампании 1968 г.: «Этот страх, вне всяких сомнений, был подкреплен 1968 годом. Лично я никак не пострадал. Я не вращался в еврейских кругах, никогда не состоял в партии, никогда не занимался политикой. Подумаешь – скромный литературовед из Института литературных исследований... Тем не менее события марта 1968 года я воспринял как нечто чудовищное».
Интерес к автобиографиям и воспоминаниям переживших Холокост возник в Польше еще в 1980-е годы, а сама тема Холокоста, хоть и с умолчаниями и аберрациями, постепенно выявляемыми и с трудом преодолеваемыми лишь в последние десятилетия (подробнее см.: [Адельгейм 2021]), в польской литературе так или иначе присутствовала. Однако лишь ощущение свободы, наступившее после 1989 г. (а также возникновение различных инициатив, например, создание в 1991 г. Общества детей Холокоста) породило чувство относительной безопасности и позволило «выйти из подвала» и обрести голос. Начали издаваться свидетельства «детей Холокоста»: «Зима утром» Янины Бауман (1989), «Счастливец» Адама Сикоры (1994), «Олух царя небесного» Вильгельма Дихтера (1996), «Девочка из списка Шиндлера» Стеллы Мадей-Мюллер (1998), «Девочка в красном пальтишке» Ромы Лигоцкой (2001), «Я была тогда ребенком» Илоны Флютштейн-Груды (2004), «Сухие слезы» Нехамы Тец (2005), «Выжить… И что дальше?» Марии Орвид (2006), «Никогда не забывай лгать!» Фелиции Брин (2006) и др. В 2000-е годы появились – также поздние – свидетельства второго поколения (проза Эвы Курылюк, Агаты Тушиньской, Божены Кефф, Магдалены Тулли и др.), детей Выживших, чье детство оказалось омрачено не пережитым ими прошлым (подробнее см.: [Адельгейм 2018, 98–103, 322–447]).
«Думаю, что если бы ПНР продолжил свое существование, я бы эту книгу все равно написал. Но печатать бы не стал. И не из-за цензуры – эти тексты в конце восьмидесятых были уже вполне проходными. Причина другая. У меня не было ощущения свободы», – анализировал ситуацию и свое самоощущение Гловиньский. Утверждая, что является «бенефициаром перемен» в постсоциалистической Польше, он тем не менее признавался, что и в 1998 г. публикация воспоминаний потребовала преодоления в себе страха. В последующие полтора десятилетия Гловиньский издал еще несколько текстов разной степени художественности, свидетельствующих о потребности в вербализации опыта Холокоста: «Ржаной хлеб и утраченное время» (2001), «История одного тополя и другие рассказы» (2003), «Мост через время. Картинки из местечка» (2006), «Круги чуждости. Автобиографическая повесть» (2010), частично «Царская чашка. Шестнадцать рассказов» (2016).
Первая книга автобиографического цикла Гловиньского – «Черные времена» – представляет собой цикл небольших текстов, обозначающих вехи судьбы и важнейшие краски психологического и психического состояния ребенка, «приговоренного к уничтожению» и на протяжении нескольких лет ощущавшего себя «загнанным зверем». Прерывистость, неоднородность, «мозаичность» [Sokołowska 2010, 303] наррации характерны для большинства подобных произведений: по словам самого Гловиньского, «в сущности, нет такого повествования о Холокосте, которое не являлось бы набором фрагментов». Это отличительная черта «травматического письма» [Szczepan 2012, 228], осознанно и неосознанно стремящегося при помощи отрывочности, нарушений хронологии, повторов, использования настоящего времени и коротких предложений воплотить особенности травматических воспоминаний, которые, в отличие от обычных, не сохраняются в виде «вербального, линейного нарратива, встроенного в непрерывно разворачивающуюся жизненную историю» [Герман 2024, 87].
Это подтверждает и рефлексия самого автора, характеризующего «Черные времена» как «вспышки памяти, не способной охватить целое»: «…в моей памяти от того убитого мира остались лишь фрагменты, обрезки, осколки». Метафорическое определение Гловиньского практически совпадает с понятиями, предлагаемыми психологами и психиатрами – «вспышка камеры» (цит. по: [Грачева 2019]) и «горячие точки» (цит. по: [Фаустова 2024, 201]).
Называя эти «осколки, крохи событий» [Matuszewski 1998, 207] «осколками в буквальном смысле (курсив мой. – И.А.), ранящими человеческую психику и не позволяющими о себе забыть», К.К. Пилихевич обращает внимание на то, что оставленные ими «шрамы» [Pilichiewicz 2021, 180] заметны также в тех текстах Гловиньского, которые описывают послевоенные сны-кошмары с их навязчивыми мотивами блуждания, бегства, ловушки, ужаса («Видения и фигуры. Заметки 1977–1977», 1998; «Прерванные сюжеты. Заметки 1998–2007», 2008). Другим последствием травмы стала клаустрофобия. В «Истории одного тополя…» Гловиньский рассказывает, как будучи школьником, пережил ужас в ситуации, когда товарищи в шутку попытались запереть его в старом вагоне: «… в мгновение ока во мне воскресли прежние переживания [...]. [...] я отлично помнил эти запломбированные вагоны, направлявшиеся прямиком в смерть, я отдавал себе отчет, что не попал в один из них только благодаря небывалому стечению обстоятельств, которое спустя годы без преувеличения следует назвать подлинным чудом. Этот образ вспыхнул во мне – не только, впрочем, в своей отсылающей к Треблинке “вагонной” версии. Я был не в силах заключить в скобки забвения многочисленные замкнутые пространства, в которых мне довелось скрываться. Подвал, картофельная яма, узкое пространство за шкафом [...] – все это внезапно пронеслось через мое сознание».
Запечатлеваемые автором «кадры» связаны со значимыми для детской памяти впечатлениями. Это сценки, происшествия (в том числе случайности, которые могли обернуться спасением или гибелью), фигуры, предметы, звуки, цвета (прежде всего следует отметить важнейший лейтмотив повествования – попытки определить «неповторимый» цвет гетто), свет, тактильные ощущения, слова («словарь гетто»). Они неразрывно связаны с эмоциональной жизнью травмированного ребенка (страхом, надеждой, отчаянием, моментами иллюзорного покоя, инстинктивной волей к жизни, специфической апатией), «мощными активаторами» [Герман 2024, 101] которой нередко служат травмирующие события. Т.е. в своем первом тексте, реконструирующем травму, Гловиньский стремится воспроизвести не только факты, но и эмоции, необходимость чего подчеркивает психиатр: «Изложение голых фактов без сопровождающих их эмоций – стерильное упражнение, не дающее терапевтического эффекта» [Там же, 355].
Фрагментарность текста Гловиньского (М. Кравель говорит о «цитатах, извлеченных из целостной картины войны» [Krawiel 2017, 210]) воплощает тройную аберрацию памяти: детской, травмированной (которую роднит с детской «преобладание образов и телесных ощущений»: при травме «лингвистическое кодирование памяти неактивно, и центральная нервная система вновь прибегает к сенсорным и образным формам памяти, преобладающим в начале жизни» [Герман 2024, 89–90]), наконец, памяти, отделенной от момента артикуляции огромной временной дистанцией и накопленным багажом знаний. Гловиньский «дает [...] понять, что старается быть честным по отношению к прошлому, которое помнит урывками» [Krupa 2013, 283], словно бы отсылая к словам В. Беньямина, что единственная честная повествовательная стратегия при разговоре о прошлом – это цитаты из него: «…артикулировать минувшее не значит познать его таким, “каким оно было на самом деле”. Задача в том, чтобы овладеть воспоминанием, как оно вспыхивает в момент опасности» [Беньямин 2000, 85]. Кроме того, это свидетельство невыразимости / ограниченной выразимости Холокоста [Tomczok 2015, 77; Wolski 2015, 65; Głowiński 2002, 206] и нарушенной им преемственности [Krawczyńska 2005, 71] на всех уровнях бытия (по мнению самого Гловиньского, целостные нарративные формы «больше подходят для разговора о том, что длится, чем о том, что прервано» [Kurkiewicz 2003]).
Реконструируя сознание ребенка, переживающего Холокост, вынужденно осознающего свою инаковость, осваивающего искусство мимикрии, слишком рано взрослеющего, но сохраняющего отдельные приметы возраста, Гловиньский настолько насыщает повествование метатекстом, что Я. Валигура именует последний «повествовательным фильтром, который отдаляет, тормозит и замедляет повествование» [Waligóra 2009, 159]. Однако этот прием имеет свои причины и служит определенным задачам.
Во-первых, метатекст у Гловиньского в своей традиционной функции (рефлексия повествователя относительно самого повествования и его связи с внетекстовой реальностью) дает читателю необходимую для более точного восприятия текста информацию. Это прежде всего опосредованное объяснение причин полувекового молчания («…пребывание в подвале продолжается для меня по сей день…») и авторской стратегии относительно взаимодействия еще не артикулированной личной памяти и памяти, уже ставшей достоянием коллективного сознания («Я пишу о том, что запомнил, а если в чем-то не уверен, открыто об этом говорю»; «В некоторых случаях я не могу отделить то, что запомнил о гетто, будучи ребенком, от того, что позже услышал и прочел»; «Ограничиваясь тем, что пережито на собственной шкуре [...], я хотел бы надеяться, что не повторяю того, что уже было сказано, […] хотя одновременно надеюсь также, что не лишаю эти записи некоторых обобщающих смыслов»). При помощи метатекста Гловиньский оговаривает также введение в текст мотивов, хорошо известных ему как литературоведу. Ярким примером является здесь сцена игры в шахматы с шантажистом, требующим с укрывающихся «на арийской стороне» евреев деньги за молчание: «Я много раз рассказывал эту историю разным людям и давно хотел запечатлеть ее на бумаге как свидетельство тех времен, но меня постоянно что-то удерживало […]. [...] я боялся невольно подчинить этот аутентичный рассказ определенной модели, поскольку существует давний топос […] игры человека со смертью».
Но прежде всего метатекстуальные комментарии неразрывно связаны с ауто-психотерапевтической сверхзадачей повествования, объектом которого являются личная память и личная рефлексия о ней. Наррация постоянно колеблется между «вспышками памяти» и их анализом, реконструкция детской оптики то и дело перебивается взрослым осмыслением. Взрослый комментирует традиционные моменты инициации, совершающиеся в контексте исключительных обстоятельств, естественный процесс взросления в утратившей нормальность реальности, делает выводы относительно формирования мировоззрения и мировосприятия ребенка под воздействием тех или иных событий: «Я уже хорошо знал, в чем тут дело, чего мы хотим избежать…»; «Я не отдавал себе отчет, что это путешествие станет для нас последним…»; «Нравственная рефлексия ребенка, которому не исполнилось и восьми лет, не в состоянии…»; «Мне исполнилось восемь лет и я осознавал положение, в котором нахожусь. Страх […] не только быстро отучает от детских фантазий и мечтаний, но и не позволяет сформироваться детским интересам». В других случаях взрослый, напротив, обрывает себя, давая голос ребенку: «Но это, конечно, мои сегодняшние рассуждения, а тогда – в тот солнечный день – я не раздумывал о том, как…».
Утратившая нормальность реальность, запечатленная глазами ребенка, описана словами выросшего из него взрослого, детское восприятие пропущено через фильтр взрослой рефлексии. При помощи метатекстуальных комментариев взрослый повествователь прибавляет свое взрослое знание к детскому, осмысляя личную травму также как историческую. Литературный текст представляет собой попытку связать воедино текст жизни, ощущение целостности которого нарушено травматическим опытом войны и необходимостью его замалчивания после. Использование диалога с собой-ребенком (каковым, в сущности, является повествование Гловиньского) позволяет перекинуть мостик между травматическим прошлым и безопасным настоящим, способствует восстановлению контроля над смыслами собственной биографии: это начало возвращения к себе, обретения всей полноты себя.
Следующие тексты – «Ржаной хлеб и утраченное время», «История одного тополя и другие рассказы», «Мост через время. Картинки из местечка», также использующие фрагментарность повествования, включают, однако, в себя долю художественного вымысла и отличаются бóльшей степенью художественной (в том числе конструктивной) свободы. Гловиньский возвращается к детским воспоминаниям, продолжает уточнять и дополнять их (мучимый ощущением, что он «не в силах охватить» пространство гетто в силу его «иррациональности»). Знаменательно, что в этих последующих текстах автор обращается не только к опыту войны, но и к довоенному и послевоенному периодам. С одной стороны, рассказ о жизни «до» и «после» является необходимой частью процесса реконструирования травмы [Герман 2024, 353]: это способ восстановления ощущения непрерывности временного потока и художественной концептуализации исторической катастрофы (говорящее название последней из перечисленных книг, а также аллюзия ее на «Картинки с выставки»: текст становится – по аналогии с музыкальной эпитафией М. Мусоргского – эпитафией литературной). С другой, Гловиньский продолжает таким образом процесс восполнения утраченных во время Холокоста связей между поколениями (в том числе при помощи использования многоголосия и элементов не столько вымысла, сколько «потенциально возможной действительности»). Автор-повествователь встраивает себя в семью и род, а их – в свое сознание: происходит символическое восстановление и воссоединение ветвей генеалогического древа. Это также имеет огромное аутопсихотерапевтическое значение, поскольку, по утверждению Л. Лангера, именно разрыв родственных связей явился одним из важнейших в смысле своих отдаленных последствий «преступлений, совершенных гитлеровской Германией по отношению к своим жертвам» [Langer 2004, 127].
Наконец, в 2010 г. выходят «Круги чуждости. Автобиографическая повесть» (2010) – текст, в котором Гловиньский решается представить полную свою биографию, раскрыв и другие, более личные темы, связанные со страхом, стыдом и ощущением инаковости (которое «в определенном смысле сохранилось на всю жизнь») – темы, также десятилетиями замалчивавшиеся автором (и продолженные затем в «Царской чашке…», которая включает в себя еще и ауто-психотерапевтическое осмысление опыта старости). Знаменательно, что это повествование уже не отличается фрагментарностью и содержит меньшее количество метатекста. Это детальное описание с датами, фамилиями, топонимами – та самая история жизни, в которую посредством предшествующих текстов автору удалось интегрировать историю травмы.
Автобиографическая память, в своем стремлении к воспроизведению событий прошлого неизменно реконструирующая и концептуализирующая их, направлена в конечном счете на интегрирование звеньев цепи в единый связный процесс (судьбу). Работа с ней дает человеку возможность не только самопознания, но и трансформации себя: «В создании автобиографии заключено чудо воссоздания себя заново…» [Нуркова 2000, 17]. Проработка травмы при помощи автобиографического повествования позволяет также трансформировать смысл трагедии, достичь «баланса между травматическими и поддерживающими позитивными содержаниями […] памяти» [Там же, 23]: «Быть ребенком, выжившим во время Холокоста, – определенный жизненный капитал, который в моем случае определяет ряд позиций и влияет на мировосприятие и мировоззрение, – утверждает Гловиньский. – […] я считаю, что получил жизнь в дар […]. Ведь я должен был погибнуть, подобно трем миллионам польских евреев. […] из этой травмы проистекает также и восхищение жизнью, поскольку в данном случае жизнь есть привилегия, плод усилий многих людей, которые, спасая эту мою жизнь, трудились, рисковали…». Будучи «высшей психической функцией», автобиографическая память не только «задает временную организацию самосознания» человека, но и «является фактором самодетерминации личности» [Фаустова 2024, 196].
Автобиографическая память является деятельностью прежде всего коммуникативной и воплощается в повествовании, в процессе которого осуществляется процесс (само)познания и (само)понимания личности: «…сгусткам памяти необходимо родиться в форме речи и раскрыться в разговоре» [Нуркова 2000, 189]. Неслучайно, говоря о своем страхе, десятилетиями препятствовавшем повествованию, Гловиньский подчеркивает два момента: противоестественность самой невозможности говорить о себе («…я никогда об этом не говорил – ничего не скрывал, просто об этом не говорил. О себе не говорил!») и невозможности выработать язык для повествования о своей травме («Во мне сидел страх, а я не знал языка, которым мог бы его выразить»).
Феномен Холокоста, очевидно, обречен и даже должен остаться непостижимым, но каждый конкретный опыт и его последствия могут быть выражены и восприняты в границах языка, которым человек располагает. Тексты Гловиньского подтверждают как ценность артикуляции травмы, так и индивидуальность, уникальность каждой памяти, вне зависимости от того, сколько раз предпринималась попытка воплотить сценарий коллективной судьбы. Неслучайно Теодор Адорно полагал, что страдание такого масштаба, как Холокост, может быть артикулировано лишь при помощи искусства – при всей ущербности и неполноте этого способа (цит. по: [Pietrych 2010, 206]). К этому выводу приходит спустя десятилетия и польская исследовательница Х. Кирхнер: «Еврейская память тяжела от деталей, она вынуждена вмещать в себя индивидуальную частичку Холокоста – и коллективную, чудесное спасение – и гибель вокруг. Она также вынуждена вместить в себя жизнь, предшествовавшую гибели: в прежней отчизне, на еврейской улице в польском городе [...]. В кристалле столько граней, столько цветов способен зажечь в нем свет. Что это за кристалл? Литература» [Kirchner 2006, 68].
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Głowiński M. Czarne sezony. Warszawa: Open, 1998. 182 s.
Głowiński M. Historia jednej topoli i inne opowieści. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. 252 s.
Głowiński M. Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010. 536 s.
Głowiński M. Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i plebana. Rozmowa-rzeka. Warszawa: Wielka Litera, 2018. 496 s.
Jestem beneficjentem zmian. Michał Głowiński w rozmowie z Anną Bikont i Joanną Szczęsną // Gazeta Wyborcza. 1999. Dod. Gazeta Świąteczna. № 195. S. 12.
«Pisanie jest ze swej natury niemoralne». O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolski // Narracje o Zagładzie. 2015. № 1. S. 141–160.
Polskie gadanie. Z Michałem Głowińskim rozmawia Teresa Torańska // Gazeta Wyborcza. 23 maja 2005. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,2721121.html
Rozmowa z Michałem Głowińskim. «Moja kładka wznoszona nad czasem różne ma wymiary...» // Tekstualia. 2006. Z. 7. S. 55–62.
Rozmowa z prof. Michałem Głowińskim // Trzy rozmowy Teresy Toranskiej. Śmierć spóźnia się o minutę. Warszawa: Agora, 2010. S. 120–123.
Zapisywanie Zagłady. Z Michałem Głowińskim rozmawia Anka Grupińska // Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego. 2001. № 1–2. S. 14–15.
Об авторах
И. Е. Адельгейм
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: adelgejm@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5208-0848
Москва
Список литературы
- Адельгейм И.Е. Психология поэтики: аутопсихотерапевтические функции художественного текста (на материале польской прозы 1990–2000-х гг.). М.: Индрик, 2018. 648 с.
- Адельгейм И.Е. «Поэтизированная индульгенция». Феномен успеха романа Анджея Щипёрского «Начало» // Славянский альманах. 2021. № 1–2. С. 346–364.
- Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 81–90.
- Герман Дж. Травма и исцеление. Последствия насилия – от абьюза до политического террора. М.: Бомбора, 2024. 640 с.
- Грачева Л.В. Аффективная память по К.С. Станиславскому и упражнения Н.В. Демидова // Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 2019. № 2 (61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/affektivnaya-pamyat-po-k-s-stanislavskomu-i-uprazhneniya-n-v-demidova (дата обращения: 25.01.2025).
- Нуркова В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. М.: УРАО, 2000. 320 с.
- Фаустова А.Г. «Трудно вспомнить и невозможно забыть»: механизмы функционирования травматической памяти // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2024. Т. 12. № 3 (46). С. 193–206.
- Assmann A. Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2013. 323 s.
- Bojarska К. Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman. Warszawa: IBL PAN, 2012. 364 s.
- Cyrulnik B. Ratuj się, życie wzywa. Warszawa: Czarna Owca, 2014. 256 s.
- Gilmore L. Przypadki graniczne: trauma, autoreprezentacja i prawne formy tożsamości // Antologia studiów nad traumą. Kraków: Universitas, 2015. S. 359–376.
- Głowiński M. Wielkie zderzenie // Teksty Drugie. 2002. No. 3. S. 199–211.
- Grynberg H. Pokolenie Szoa // Odra. 2002. No. 4. S. 37–49.
- Kirchner H. Ścianki kryształu. Kilka myśli o literaturze świadectwa // Poetyka. Polityka. Retoryka. Pod red. Wł. Boleckiego i R.Nycza. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2006. S. 61–70.
- Kolk van der Bessel A., Hart van der Onno. Natrętna przeszłość: elastyczność pamięci i piętno traumy // Antologia studiów nad traumą. Kraków: Universitas, 2015. S. 139–174.
- Kowalska-Leder J. Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego. Wrocław: IBL PAN, 2009. 366 s.
- Krawczyńska D. Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga. Warszawa: IBL PAN, 2005. 231 s.
- Krawiel M. Michał Głowiński: literaturoznawca i pisarz Zagłady // Białostockie Studia Literaturoznawcze. 2017. No. 10. S. 209–221.
- Krupa B. Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003). Kraków: Universitas, 2013. 568 s.
- Kurkiewicz J. Punkty pamięci // Tygodnik Powszechny. 2003. № 24. http://www2.tygodnik.com.pl/ksiazki/24/ksiazki03.php (дата обращения: 03.01.2025).
- LaCapra D. Pisanie historii, pisanie traumy // Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Red. Majewski T., Zeidler-Janiszewska A., Wójcik M. Łódź: Officyna, 2009. 1008 s.
- LaCapra D. Trauma, nieobecność, utrata // Antologia studiów nad traumą. Kraków: Universitas, 2015. S. 59–107.
- Langer L. Scena pamięci. Rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holokaustu // Literatura na Świecie. 2004. No. 1–2. S. 125–139.
- Leociak J. Grynberg niebanalnie o Głowińskim // Odra. 2002. No. 6. S. 64–66.
- Łysak T. Trauma – od genealogii pojęcia do studiów nad traumą // Antologia studiów nad traumą Kraków: Universitas, 2015. S. 5–30.
- Matuszewski R. Czarne sezony // Więź. 1998. No. 8. S. 207–211.
- Pennebaker J. Telling Stories: The Health Benefits of Narrative // Literature and Medicine. 2000. No. 19. P. 3–18.
- Pietrych K. (Post)Pamięć Holocaustu – (meta)tekst a etyka. «Fabryka muchołapek» Andrzeja Barta a «Byłam sekretarką Rumkowskiego» Elżbiety Cherezińskiej // Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009. Red. Andres Z., Pasterski J. Tom I. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwerstytetu Rzeszowskiego, 2010. S. 203–225.
- Pilichiewicz K.K. «Widziałem ezgekucję». Gettowe błyski pamięci Michała Głowińskiego // Żydzi wschodniej Polski. Seria IX: Dziecko żydowskie. Białystok: Wydawnictwo Prymat Źródło, 2021. S. 279–289.
- Sokołowska K. Dokumentalność a figuratywność w pamiętnikach dzieci Holokaustu. Uwag kilka // Ślady obecności. Red. Sł. Buryła, A. Molisak. Kraków: Universitas, 2010. S. 293–315.
- Szczepan A. Realizm i trauma – rekonesans // Teksty Drugie. 2012. No. 4. S. 219–230.
- Tomczok M. «Opowiadanie jest stałym bytu cieniem». Kilka uwag o kanonie Zagłady w literaturze najnowszej // Narracje o Zagładzie. 2015. No. 1. S. 75–95.
- Waligóra J. Pamięć i tekst. Wypowiadanie Zagłady w «Czarnych sezonach» Michała Głowińskiego // Annales Universitatis Paedagogicae Carcowiensis. Studia Historicolitteraria. 2009. No. IX. S. 156–165.
- Wolski P. Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady) // Narracje o Zagładzie. 2015. No. 1. S. 62–74.