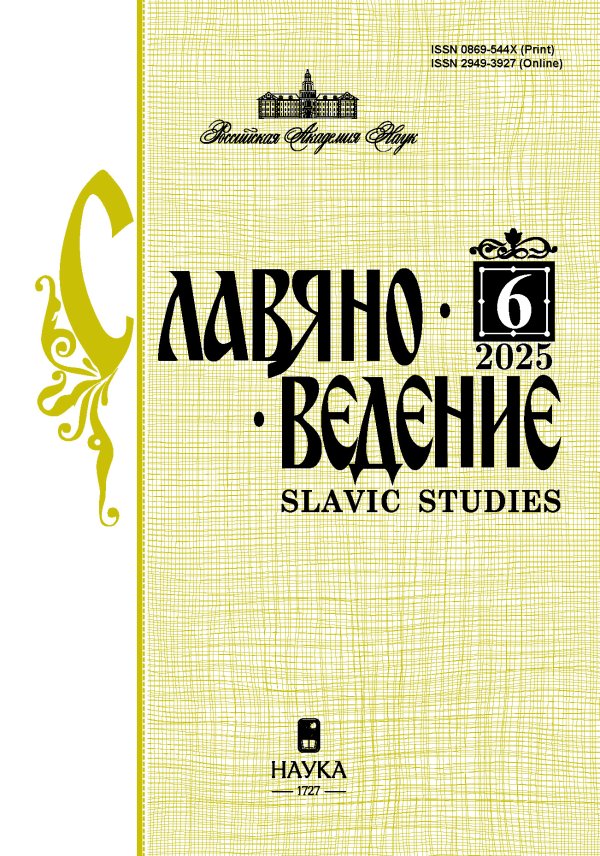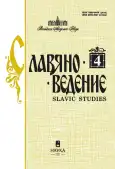Folklore Articulation of Different Shades of Loneliness in the Belarusian Tradition
- Authors: Shved I.A.1,2
-
Affiliations:
- Anhui University
- Brest State A.S. Pushkin University
- Issue: No 4 (2025)
- Pages: 64-80
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350852
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040054
- EDN: https://elibrary.ru/UZWOKQ
- ID: 350852
Full Text
Abstract
The article is devoted to semantic and pragmatic parameters of solitude articulation (as an element of the opposition «loneliness-unity») and related ideas and feelings in different kinds and genres of Belarusian folklore. Loneliness is considered in interpersonal, socio-cultural and metaphysical dimensions. The given material demonstrates that folklore texts describing these dimensions of loneliness differ in genre, thematically, by the set of plots and the scale of the described events (from everyday incidents, more serious family misfortunes and traditionally prescribed rituals of «transition» of one of the collective members to emergency situations of local character and even cataclysms of ecumenical scale). But all of them, painting the possible experience of loneliness in certain tones and modeling it as an unnatural, forced modus of human existence under certain conditions or in the course of events that arose independently of the will of the person (destiny), in one way or another serve not only as an interpretative prism, but also as a «moral regulator» and a way to objectify the value attitude, codify, present and argue for moral and ethical norms that are significant for the stability of the rural (basically patriarchal) community and its culture. In this we see the main functional and pragmatic modus of the texts under consideration.
Full Text
Одиночество в различных контекстах, рассматриваемое сквозь призму тех либо иных методологических подходов, может быть обозначено как состояние, чувство, феномен самосознания, социально-культурное явление, концепт, идея-понятие и др. С ним связан целый комплекс проблем культурного, социального, гендерного, возрастного, медицинского и некоторых иных планов, и в текстах белорусской культуры эта тема широко представлена. Однако артикуляция одиночества и изоляции в видах и жанрах белорусского фольклора и выяснение особенностей ее семантико-прагматических параметров пока не стали предметом специального исследования. Если тема одиночества упоминается, то в связи с решением иных исследовательских задач.
Между тем различные виды и жанры белорусского фольклора, в частности, паремии, несказочная проза, семейно-обрядовый фольклор и особо эмоционально нагруженные формы необрядовой поэзии, духовные стихи и др., предоставляют богатый материал для исследования одиночества и изоляции. Такие фольклорные тексты в семиотическом плане могут интерпретироваться как своеобразный язык, иногда единственно легитимный, для артикуляции состояния одиночества и связанных с ним социально-психологических проблем (тоски, уныния, обездоленности, опустошенности, безысходности, страдания, страха и под.), а также как социосимволический медиум, способный переформатировать этот негативный опыт.
Гипотетически можно предположить, что одиночество и сопутствующие ему чувства различно представлены не только в этнокультурах, но и в субкультурах, и в тех либо иных видах и жанрах одной и той же культуры, особенно при ее исследовании в диахроническом аспекте. Поэтому, чтобы избежать редукционизма, в статье предпринята попытка рассмотреть артикуляцию одиночества в определенных видах и жанрах фольклора одной этнокультуры – белорусской.
Объектом исследования послужили во-первых, вербальные тексты, зафиксированные автором и студентами БрГУ им. А.С. Пушкина в ходе полевой работы в Брестской области в 2000-е годы (абсолютное большинство исполнительниц – женщины старшего возраста, жительницы села), во-вторых, архивные и опубликованные белорусские фольклорные тексты (устная народная проза, песенный фольклор, малые формы) и другие виды устных высказываний (описания обрядов, толкования событий, оценочные суждения), этнографические описания локальных представлений и практик конца ХХ – начала ХХІ в. (исключение составляют малые жанры, фиксация которых могла производиться в более ранний период). Полевые исследования современного бытования белорусского фольклора, в частности, материалы Брестчины, показывают, что тексты, так либо иначе эксплицирующие проблематику одиночества, сохраняют актуальность по сей день.
Цель исследования состоит в определении семантико-прагматических параметров артикуляции стереотипных ситуаций одиночества (в широком понимании) и связанных с ним представлений и чувств в различных видах и жанрах белорусского фольклора. Исходя из эмпирического материала, одиночество эффективнее рассматривать как элемент оппозиции «одиночество–неодиночество (единство)». В текстах ряда фольклорных жанров на первый план выходит осмысление таких в некотором смысле коррелирующих с одиночеством и (само)изоляцией феноменов, как отшельничество, уединение, избранность, маргинальность, уникальность, единичность. «Отделенность-отдельность» в белорусской лингвокультуре включена в основные понятийные семы слова «одиночество», о чем будет сказано ниже. В статье также рассмотрены некоторые примеры, связанные с перечисленными идеями-понятиями.
Методы исследования. В полевом исследовании использовались методы включенного наблюдения и неформализованного интервью-беседы, реже интервью с использованием опросника по различным видам и жанрам белорусского фольклора; фиксация производилась с помощью аудио- и видеозаписи, а также рукописных записей в дневнике.
Анализ материалов производится, главным образом, с позиций структурно-функционального подхода, разработанного Б.К. Малиновским и А.Р. Рэдклифф-Брауном и направленного на раскрытие социокультурных функций явлений культуры и законов их развития, и прагматического подхода, позволяющего исследовать функционирование знаковых систем фольклора.
В методологическом плане важна идея тесной взаимосвязи социального и «мифопоэтического» – восприятие и интерпретация одиночества не только в известной степени обусловлены фольклорной традицией, она их в определенном смысле порождает. Такие фольклорные тексты (в семиотическом значении) могут быть рассмотрены, во-первых, как своеобразный язык (иногда единственно легитимный), посредством которого в реальной коммуникации актуализируются представления об одиночестве и связанные с ним чувства, эмоции; во-вторых, как модели, которые одновременно представляют социально-психологическую реальность, используются для конструирования этой реальности, а также эксплицитно или имплицитно содержат «коллективное знание» о факторах одиночества и стратегиях недопущения и преодоления его негативных проявлений.
Разнообразие и уникальность опыта одиночества, его смыслов и оттенков, т.е. своеобразный «оригинал» его «фольклорного моделирования», несмотря на известную стереотипность, формульность самого фольклора, делает эту модель многогранной и довольно сложно устроенной, одновременно «социальной» и «социализирующей». Различные аспекты переживания одиночества носителем традиции детерминируются, организуются, формализуются и в определенной коммуникативной ситуации предъявляются аудитории с помощью реализации соответствующей «фольклорной модели одиночества», причем жанрово специфичной. Каковы эти аспекты (или измерения, типы) одиночества? Чем обусловлено (не)одиночество существования фольклорных персонажей? «Общий взгляд» на интерпретацию и означивание одиночества в фольклоре позволяет говорить о том, что основными его факторами выступают «разрывы» и трансгрессии в трех основных видах взаимодействия: «человек – мир», «я – другой», «индивид – его социокультурная среда».
Опираясь на известную концепцию одиночества и его измерений, предложенную У.А. Садлером и Т.Б. Джонсоном [Садлер, Джонсон 1989], одиночество существования, обусловленное взаимодействием «человек – мир», можно квалифицировать как космическое или метафизическое, как отделенность человека от некой всеобъемлющей сущности – Бог, высший разум, природа, космос. Взаимодействие «я – другой» квалифицируется как межличностное, то есть переживание человеком отсутствия или недостатка духовной связи со значимой для него личностью, «индивид – его социокультурная среда» – как социокультурное. У.А. Садлер и Т.Б. Джонсон культурный и социальный аспекты одиночества считают разными измерениями: культурное одиночество – переживания человека, связанные с тем, что его ценности, идеалы, представления, сформировавшиеся в определенной культурной среде, не находят отклика и понимания у окружающих людей; социальное же одиночество связанно с переживанием ограниченности контактов и общения. Однако для анализа фольклора, сложившегося в обществе традиционного типа с его «стандартным статусным набором», предписанностью социальных ролей соответственно определенной идентичности и растворенностью личностного в коллективном, подобное разделение нерелевантно. Ведь в таком обществе жизнь человека определенного статуса в идеале вписана в довольно жесткую социокультурную структуру и не отделена от многопоколенного рода, семьи, соседской общины. Члены малых групп объединены «общими фоновыми» знаниями, ценностями и практиками, а также более-менее гармонично сосуществуют с природным окружением, по сей день в определенных аспектах сакрализируемым. Конечно, в живой среде, где важна репутация конкретного человека и его рода и не исключены трансгрессии, не все соответствует идеалу. Вообще о культурном измерении одиночества в крестьянской среде имеет смысл говорить только тогда, когда разрушается традиционный уклад жизни и его основа – патриархальность с соответствующими ценностями и социально-коммуникативно-поведенческими стратегиями, когда теряется былое уважение к старшим рода вместе с утратой ими материального и символического капитала и, соответственно, власти.
Концептуализация одиночества в белорусской лингвокультуре.
Прежде чем перейти к рассмотрению артикуляции различных оттенков одиночества в тех либо иных видах и жанрах белорусского традиционного фольклора, определим основные понятийные семы слова «одиночество» в белорусской лингвокультуре с особым вниманием к ее паремийному фонду, который в наиболее концентрированном виде представляет нормативные ситуации, описываемые семиотической оппозицией «одиночество–единство» и соответствующие социально-культурные установки, целеориентированные оценки и предписания.
По «Тлумачальнаму слоўніку беларускай літаратурнай мовы», одиночество – это «1. Отделенность в результате потери родных, близких и желание побыть отдельно от других. Жыць на адзіноце. 2. Безлюдность, сиротство. Адзінотай веяла з палёў. 3. Состояние одинокого человека, одиночество. Пачуццё адзіноты». То есть одиночество может быть как вынужденным, так и добровольным, как физическим, так и психоэмоциональным. При этом доминирует негативный внешний тип одиночества, причины которого – «отсутствие людей», причем не вообще людей, а подчеркнуто «близких по родству или духу», «отсутствие контактов», «отдельное проживание». В случае такого вынужденного одиночества это состояние обычно связано с отсутствием личных отношений со значимыми другими, непринадлежностью к сети определенных связей. Одиночество и сиротливость часто выступают синонимами, причем сиротой называется не только ребенок, но и взрослый человек, например, вдова и даже «солдатка». Вдова и сирота в определенном смысле воплощают одиночество, тоску, недолю. Типичным для рассказов сирот можно назвать коду повествования уроженки д. Богдановка 1934 г.р.: «Нэяк нэ було добрэ, матэры нэ було змалку, а зарэ тожэ нэ вэльмы добрэ, сэдю во...» (ФА; Лунинецкий р-н). Одиночество также может атрибутироваться окружающей среде, природным объектам, локусам.
В белорусских пословицах, поговорках и клишированных выражениях ярко выражено положительное отношение к единству (в первую очередь в малых группах) и отрицательное – к одиночеству человека в любых его проявлениях. В связи со сказанным показательно определение коллектива («грамады») – как «вялікага чалавека», т.е. как изначально единого, цельного. Даже самый никчемный индивид среди людей становится человеком: «Прамеж людзей і ён чалавек».
Аксиологический постулат многочисленных белорусских пословиц и поговорок – с любыми затруднительными ситуациями как повседневной, бытовой, так и социальной жизни одному человеку справиться тяжелее, чем «дружна» («хаўрусна»), т.е. коллективом («гуртом», «грамадой»). Нередко вообще в одиночку это сделать невозможно: «Адзін у полі не воін», «Адзін дасуж, да не дуж», «Адзін дуб у полі – то не лес» , «Адным калом плота не падапрэш», «Адна пчала мёду не наносіць», «Аднаму не разадрацца на колькі часці», «Адна галавешка не гарыць, а толькі тлее», «На адзін цвік усяго не павесіш», «Адно вока бачыць далёка, а два – яшчэ далей». Даже «по определению одинокая» смерть, если она происходит «на миру», согласно известной пословице, легче, чем в одиночестве.
В основе большинства паремий об отрицательных сторонах потенциально возможного одиночества и о ценности первичного единства группы, включенности в нее человека находятся пресуппозиции конкретных бытовых ситуаций, например сельскохозяйственные работы («Ёсць аб чым тужыць, як няма з кім жыта малаціць»), потребление пищи («Адзін і ў кашы прападзеш»), коротание времени в дороге («Аднаму дарожка торна, да дарожка не спорна») и более примитивные: «Адным пальцам і штаны не падцягнеш», «Адным пальцам вузла не завяжаш». Вместе с тем, чтобы избежать дискомфортного психоэмоционального состояния одиночества, белорусские паремии акцентируют важность личных отношений со значимыми другими, апеллируя к зоологическому коду: «І воўк дружыны кліча», «І птусі адной нудна». Единичны высказывания с романтическим модусом восприятия одиночества как миссии, для реализации которой, как и любого социально значимого поступка, необходимы единомышленники: «Адным сэрцам свету не запаліш».
В оценке одиночества паремиями факторы гендера и возраста нельзя назвать определяющими – одинаково отрицательно осмысляется одиночество как мужчины, так и женщины. Например, об одиноком мужчине говорят: «Ні сена, ні аброку, ні бабы пры боку», а о вдове, впрочем, не без иронии, замечают: «Ляжэш ні клята, устанеш ні мнята». Вместе с тем единичность (единственность, уникальность) в языке традиционной культуры – не синоним одиночества и имеет собственную, зависимую от контекста, точку на аксиологической шкале. Так, единственный ребенок в семье оценивается однозначно негативно («У каго адзін – той нелюдзін»), хотя в детских колядках, наоборот, часто подчеркивается, что исполнитель ритуала – единственный ребенок в семье, например: «Коля-Коля-Колядын, / Я ў батька одын. / Коротэнькы кожушок, / Вынэсь нам пятачок. / Нэ дасы пятачка – знэсу хату із вэршка» (ФА; Богдановка Лунинецкого р-на).
В пословицах, отнесенных составителями академического сборника БНТ в разряд «Семья и внутрисемейные отношения», позитивно осмысляется пара (пусть даже «худая»): «Добра ойкаць і стагнаць, калі ёсць з кім загадаць», «Удваіх добра і жабраваць пайсці», «Хоць худое, да ўдвое». Таким образом, даже в ситуации выбора из двух зол рекомендуется ориентироваться на неодиночество, ведь «Што два, то не адзін».
В белорусских паремиях для акцентуации негатива одиночества (с семами ‘отсутствие связи с другими’, ‘никчемность’, ‘отдельность’) используются такие стереотипные образы, как ворота в поле, кол (в поле, у дороги, в плоту), куст на пасеке, месяц на небе, пень, тополь (былинка) среди поля, глаз во лбу, палец (перст), маков цвет, воробей, кукушка и под.. Межжанровый символ одиночества – камень в окружении непроходимой стихии (моря или болота). И обобщая, одинокий человек – вообще не жилец, как горох у дороги: «хто ідзець, шчыпнець». Кстати, согласно народной Библии, Адаму было плохо и одному (вообще «сам чоловик – это ж нэ чоловік. Трэба до ёго даты жэншчыну»), и после создания «женской пары» и рождения детей. Поскольку жена и дети оставались дома, мужчине было психоэмоционально не комфортно, «скушно-скушно» одному работать в поле («На сьвеце адзін ён, адзін чалавек на сьвеце – Адам»), и Бог сделал Адама-земледельца «природно-космически» не одиноким – из подброшенной вверх жмени земли полетели птички, которые скрасили его одиночество. «І вот стаў яму жаваранак, і яму стала весялей. Ён сеяў гэто жыто, і сталі так жыць, і гэто як былі ў іх дзеці і ўсё на сьвеці… І што дзе Адам ні рабіў, ён за ім ўсё лятаў во так павярху…».
В провербиальных выражениях выделенность-«единственность» имеет позитивную оценку, только если подчеркиваются исключительные положительные качества человека, например: «Адзін, да ладзен».
Вместе с декларируемой ценностью общности и «подталкиванием» к выбору единения, белорусским паремиологическим фондом из виду не упускается выделенность человека или его семьи как особого элемента сообщества. «Коллективная мысль» сообщества фиксирует если не диалектические противоречия, возникшие в нем самом, то различия между интересами общества и индивида (его нуклеарной семьи). В таких паремиях выделенность духовно-сознательной деятельности члена сообщества в связи с его утилитарными интересами скорее констатируется и если не приветствуется, то и крайне отрицательно не оценивается. Ряд таких паремий, как «Кожны жыве па свайму закону», «Кажнаму свая бяда ў галаве», «Кожны святы да сябе горне» (ФА; Плотница Столинского р-на) можно продолжить.
Одиночество в ритуально-магических и прогностических текстах
Страх перед одиночеством и стремление его избежать присутствуют в различных ритуально-магических и прогностических текстах, многие из которых зафиксированы нами в живом бытовании. Так, информацию, полученную при интерпретации прогностических примет (включая снотолкования), при исполнении мантических ритуалов для предсказания будущего с помощью потусторонних сил, как приуроченных к сакрально выделенным датам, так и окказиональных (в рамках семейных обрядов, хозяйственных занятий и др.), можно поместить в рамки семиотической оппозиции «единение – одиночество». В первую очередь это касается мантических текстов матримониальной направленности, совершаемых как девушками, так и парнями, а также объяснений вещих снов (производимых обычно старшими женщинами семьи или локального сообщества) и примет, связанных с родильной и свадебной обрядностью. Они направлены на выяснение различных аспектов (без)брачной жизни человека, причем интерпретационная модель фактов его одиночества или неодиночества (создание стабильной семьи) вписана в систему представлений о судьбе, предначертанности жизненного пути. Причем предопределенными считаются не только глобальные вехи этого пути, т.е. непосредственно «брак – безбрачие» (второе в обществе традиционного типа может соответствовать хроническому межличностному одиночеству) либо «долгая жизнь с супругом – вдовство (или развод)», но и аспекты, касающиеся возможного межличностного одиночества в браке. Например, гадая на святки, девушка стремится получить ответы на вопросы, как она будет чувствовать себя в семье мужа, т.е. как сложатся (и сложатся ли вообще) ее отношения с мужем, свекрами, кто будет иметь в семье первенство, а также кто из супругов раньше умрет, т.е. останется вдовым, одиноким.
В контексте самих переходных обрядов, в частности свадебного, не просто старались определить дальнейшую судьбу брачующихся, но и предотвратить возможные ее вывихи и обеспечить цельность, благополучие семьи. Например, не только судили (по неудавшемуся караваю, загоревшейся фате, погасшей или выпавшей из руки свече во время венчания и др.) о грядущем одиночестве кого-то из брачующихся в результате вдовства или развода [Швед 2016], но и старались не допустить таких фатальных промахов – на языке традиции «остерегались»: «Встэрэгалыся, бо еслі чы пугаснэ [свечка], дыхнэ чы шо там, то встэрэгалысь, шо ны будуть жыты, шось то кепсько, шось то кепсько вжэ». Между тем эта же жительница д. Большие Радваничи – известная на всю округу каравайница, рассказывая о целой серии случаев неудавшихся свадебных караваев, подчеркивает, что все они без исключения верно указывали на распад брака, бездетность, т.е. на предначертанное судьбой одиночество. Один из отрывков рассказа гласит: «Про каравай… от точно дае правду. Я мысыла о тут о у сісідствэ, в іх трое [детей] було. І в тых було добрэ, а в последнего тры разы робылы, всё ўпадав [каравай]. І зара він не жывэ з жінкэю. Жынылісь, з одного і с того сэла взяв, ну з того, в конці, і сын одён е. І послі з другою, і зара халастый» (ФА; Брестский р-н). Т.е. три раза перепеченный-повторенный и все равно с упавшим тестом каравай свидетельствовал о неудачных попытках-повторениях создать семью и финальном одиночестве мужчины, на свадьбу которого выпекался каравай. В связи со сказанным важны произведенные на болгарском материале наблюдения И.А. Седаковой, касающиеся связи второго, повторенного с «ущербностью, обездоленностью, болезнью, аномалиями, загробным миром и демоническими свойствами. Оно служит метафорическим обозначением смерти и того, что за ней последует. Второе ассоциируется с сиротством и вдовством» [Седакова 2002, 222]. Причем признак «второй» предполагает трагическое развитие событий и связывается со смертью не только мужа (жены), но и родителей, т.е. с сиротством [Седакова 2002, 214]. Поскольку «любой повтор, по народным представлениям, нежелателен, а возвращение опасно» [Там же, 221], одиночество должно «не лечиться», а предупреждаться всеми возможными средствами, в том числе превентивной магией. Ее рефлексы известны и в современной повседневной практике, например 18-летняя жительница Бреста говорит: «Когда два друга (две подружки) идут, и между ними будет стоять дерево или столб, и они обойдут его с разных сторон, обязательно нужно положить руку на плечо и сказать: “Привет на сто лет”» (ФА).
Такие ритуально-магические тексты как заговоры, заклинания, благопожелания, обрядовые песни (например, свадебные, крестильные, волочебные, колядные) служат магическим средством упреждения либо нейтрализации одиночества человека, обеспечения желаемой включенности в семейную группу и широкую социальную сеть, «салучэння ў вадно места», т.е. реализации правильного жизненного сценария человека либо коррекции его (не)доли.
В рассматриваемом контексте показательны любовные и регулирующие общественные отношения заговоры, а также заговоры от необъяснимой тоски, «смутку па незнаёмай бядзе». Они должны магическим путем обеспечить искомое неодинокое состояние адресата – того, в чью пользу совершается заговаривание, желаемые отношения между ним и окружающими людьми. При этом образцом желаемых теплых отношений видятся близкородственные связи. В результате заговора, который имплицитно или эксплицитно отсылает к «искусству нравиться» людям, его адресат будет для них «мілей іх атцоў і мацярэй», «іх жон і дзяцей», «усяго роду іх». Материал заговоров, регулирующих общественные отношения, позволяет реконструировать своеобразный антиидеал положения человека в социальной сети. Расправа над врагом адресата заговора заключается не только в том, что сам адресат топчет супостата ногами, плюет на него, но подчеркивается, что злодей не должен знаться с людьми, а должен валяться в грязи, т.е. быть исключенным из нормальных социальных связей. Вся же «грамада» поддерживает адресата заговора, «паступает» за ним.
Переживание отделенности от значимого другого (в любовных заговорах это объект страсти) и связанные с этим чувства обозначаются в белорусской традиции как «сухата», «туга», «ташната», «нуда», «пячаль», «смутак», «таска». Причем тоска в белорусских заговорах, как и в русских, по наблюдениям А.Л. Топоркова [Топорков 2005], персонализируется. Подобную ситуацию можно наблюдать и в песенном фольклоре, в частности его относительно поздних формах, например, частушках: «Ох, подруга дорогая, / Пырыдай мілёночку, / На мынэ тоска напала, / Як роса на ёлочку» (ФА; Снитово Ивановского р-на). Интересно также отметить заклинательные мотивы социально-бытовых песен, в которых герой-солдат, страдающий на чужбине от одиночества и оторванности от рода, жены, и завидующий односельчанам, живущим в кругу семьи, в отчаянии обращается к своим горячим слезам: «Адкаціцеся ад мяне, / Я на чужой старане, / Прыкаціцеся к таму, / Хто з жаною ў даму». Согласно стихам из солдатских альбомов, тоска также может передаваться от одного человека другому, несмотря на расстояние, разделяющее близких людей, например: «…Знать, в лучшей части света, / В родимой стороне / Тоскует мать / И это передается мне» (ФА; переписано из солдатского альбома жителя Бреста 1964 г.р.). В этом же альбоме записано стихотворение об одиночестве солдата: «…Что видит он? / Безлюдность, тишина, / Безлюдность, тишина, / Настороженность вышек…»
В любовных «присушках» моделируется желаемая для адресата ситуация полной изоляции объекта его страсти от привычного окружения и перехода во власть страждущего. То есть объект «присушивания» отделяется от значимых других, что равносильно тому, что он сходит «з вума з розуму», «ходит и нудит», перестает «другіх займаць», общаться с родными (например, говорится: «штоб не было мілей яму ні род, ні племень, ні ацец, ні маці», он не может «ні гуляць», «ні жыць, ні быць»). Объект заговаривания должен почувствовать себя максимально одиноким и неприкаянным, что может сравниться только с состоянием птицы без гнезда, новорожденного без матери или тела без души (таковы стереотипы глубокого одиночества, близкого к смерти). Это негативное чувство должно трансформироваться в непреодолимое желание «приникнуть», как мхи к черной грязи, к адресату заговора. Привязанность объекта страсти к страждущему должна быть такой, как мать любит свое дитя, птица свои яйца и птенцов, корова теленка, ослица осленка, как рубахи держится рубец, и т.д., желанный должен игнорировать всех и сидеть перед влюбленным, как птица сидит на гнезде, ходить за ним, как нога ступает за ногой, и тянуться так, как дитя тянется к материнской груди.
Таким образом, отделение индивида от группы, «напускание» на него кипучей, могучей, горючей тоски сопоставимо с его смертью, и в заговорах мы имеем дело с двумя типами одиночества: «жертвы» и «агрессора» (причем этот последний сам является жертвой страсти и глубоко одинок в отрыве от ее объекта). Попутно заметим, что по сей день актуально представление, что «присушки» не могут быть действенными долго, и поздно либо рано созданная магическим путем пара распадется. В связи со сказанным характерна запись из д. Вяз, согласно которой женщина приворожила мужчину, но как «ложится она с ним спать, то казалось, что начинается какая-то музыка… и получается, никакого сна, никакой семейной жизни… И вот она шла обратно к этому, чтобы обратно отколдовала». Отметим, что эта же женщина, рассказывая о своем роде, говорит, что после смерти жены-роженицы ее дед «затужывся» и неметафорически «умер с тоски. Вот дети остались» (ФА; Вяз Пинского р-на).
Одиночество и сопутствующие состояния и чувства в мифологических рассказах
Не менее выразительно взаимосвязь одиночества, тоски, страха, зла и смерти представлена в мифологических рассказах о контакте живых с миром мертвых и демонами. Такие тексты, тесно спаянные с особенностями этнопсихологии, имеют мощный психокомпенсаторный заряд и должны помочь преодолеть стресс от потери близкого человека или проблем в отношениях, и восстановить разорванные связи со значимыми другими. Как известно, уже во время похорон родные и близкие покойного предпринимали различные действия, чтобы преодолеть чувства покинутости, одиночества, тоски и страха. Эти практики и рассказы о них фиксируются повсеместно в различных регионах Беларуси, как и нарративы о возвращении мертвых к одинокому живому родственнику.
Многочисленные повествования, используя мифологическую интерпретативную схему «покойник может забрать на тот свет человека, нарушившего запрет на обрыв связи с живыми и дление ее с умершим», предостерегают живых, утративших близкого человека, от ухода из социальной сети отношений и развития тяжелой депрессии. Такие былички и бывальщины предписывают окружению тоскующего человека «понимающе-помогающие» поведенческие реакции и правила эмпатического общения с ним, утверждая, что именно сообща можно предотвратить еще одну смерть от губительного «иновоздействия» на одинокого человека. Не зря подобные тексты содержат предписания не оставлять людей в таком состоянии одних, в пустом доме, особенно в темное время суток. И еще лучше, если с ним будет ночевать ребенок – «ангельская душа», вызывающая позитивные эмоции, требующая внимания и заботы, а это отвлекает от дурных мыслей. Жительницы Брестчины довоенных годов рождения рассказывали нам: когда они были детьми, одинокие овдовевшие односельчанки звали к себе ночевать. В одном из случаев ночевать к себе приглашала довольно молодая учительница, к которой якобы ходил умерший муж. Девочки нормально спали, а на утро спрашивали у женщины, приходил ли мертвец, и она, успокоившись, давала отрицательный ответ. Т.е. смерть родного человека образует пустоту в душе, а свято место, как известно, пусто не бывает, и эта пустота заполняется, как отметил А.К. Байбурин, тоской, неумеренность которой «притягивает покойника; вместе с покойником и в его обличье появляется страх» [Байбурин 2001, 112–113] (Страхами называют увиденных «возвращающихся» умерших.) Но когда образовавшуюся пустоту заполняют поддерживающие люди, и особенно дети-ангелы, страху, т.е. «возвращающемуся» мертвецу, нет места ни в душе, ни в доме.
Мифологические рассказы, как и тексты ряда других фольклорных видов и жанров – легенды, песенные формы фольклора, в частности, лирические песни, жестокие романсы, частушки («Меня мамочка родыла / В лісэ пуд осіною. / На роду вона сказала: / – Будэш сіротіною» (ФА; Снитово Ивановского р-на), также обыгрывают идею предначертанности судьбы человека. И часто это одиночество в различных его аспектах, начиная от отторжения любимым человеком (или родственниками), сиротства и вдовства и заканчивая исключением из человеческого сообщества (как живых, так и «мертвых рода», т.е. из группы «святых родителей»), разрывом связи с Божественным началом и воссоединением с сонмом демонов – именно об этом повествуют многочисленные мифологические рассказы о самоубийстве, к которому черти подталкивают брошенного родными и близкими человека. Такие тексты устрашают тем, что реализуют до конца путь человека от одиночества к смерти. О том, что человеку заранее уготован такой конец, также повествуют мифологические рассказы или легенды-былички (согласно терминологии Ю. Шеваренковой). Например, наделенный даром предвидения старец, коим оказывается сам Бог (или по его воле бабка-повитуха, отказавшаяся принимать роды), либо другие персонажи – видят через окно дома, где происходят роды, висельника. Когда родившийся ребенок вырастает, он вешается.
Согласно мифологическим текстам о суициде, обычно такой человек одинок сразу во всех трех измерениях – межличностном, социокультурном и метафизическом (т.е. не имеет связи с Богом). В таких нарративах часто реализуется следующая объяснительная модель: «Если одинокий в социокультурном и/или межличностном аспектах человек не апеллирует к Богу, или хотя бы не использует знаков причастности к христианскому культу, например, не носит крестик или не осеняет себя крестом, либо не произносит слов молитвы, не поминает Бога, он попадает под воздействие нечистой силы, что ведет к суициду».
Поддержка невинного человека со стороны божественных сил может образумить окружающих, и тогда отторжение сменяется выстраиванием новых отношений либо восстановлением разорванных связей [Швед 2022]. Пример – нарратив из Старой Рудни Жлобинского района: молодой мужчина, уходя на военную службу, не знал, что оставил беременной девушку и что у него родилась дочь, вернулся со службы с женой. Свекры не приняли эту невестку, повернули вспять свадебный ритуал, согласно которому молодая, приезжая в хату молодого, обживает ее, маркируя своими рушниками, скатертями, иконами, т.е. сняли развешенные невесткой предметы – это овеществление социальных связей. Невестку лишили элементарного общения и даже возможности питаться. В самый большой праздник Пасхи молодицу оставили дома одну, т.е. исключили ее из сети межличностных, социокультурных и метафизических связей. Свекровь развесила в доме свои постиранные тканые изделия и все, кроме отторженной, отправились на пасхальную службу в церковь. А покинутая всеми невестка, вернув в интерьер свои предметы, решила повеситься. Но у нее в руках был веник, которым она мела хату, и «Ангел-Храніцель вырваў венік – і ў гэту пятлю». Вернувшиеся из храма свекры и муж, поняв, какой трагедии удалось избежать, «перавярнуліся, і сьвякруха стала як дачку глядзець, і сьвёкар, патаму што гэта ж яны губілі душу. А Ангел спас» [рассказчица 1921 г.р. плачет].
Подобные тексты несказочной прозы (включая рассказы о конце света и его признаках) коррелируют с биографическими нарративами представителей старшего поколения, их часто неодобрительными высказываниями о сущностных изменениях социальной структуры и разрушении ценностной системы патриархальной традиции, семейных устоев, о таких общественных настроениях внутри сельского сообщества, как отчуждение и даже вражда кровных родственников и свойственников, внебрачное сожительство, измены, пьянство, оставление на произвол судьбы повзрослевшими детьми родителей, которым ничего больше не остается, как «добывать-доживать» («А молодёж уся пошла по городах тыпэр. Всі по городах пошлы тыпэр. Вжэ но старыі добываемо…» (ФА; Спорово Березовского р-на). Уроженка (1940 г.р.) деревни Кокорица Дрогичинского района, переехавшая в 1970-е годы в Березовский район, говорит, сетуя на одиночество: «Більш я ныгдэ ны... я ныкуды ны ходжу, бо всі чужыі, становяцця някы врэдны, някі гадкы, протівны, нывэдомо якыі, шо ны скажы, [в ответ услышишь лишь]: “Я ны скажу ныць”. А шо скажы, то йдуть у хату, готовы быты. Я ныкуда ны ходжу» (ФА). Интересно, что в результате таких рассуждений о падении нравов даже женщины старшего поколения предпочитают, чтобы их внучки родили внебрачного ребенка. Так, уроженка д. Мочуль 1926 г.р., отвечая на вопрос о приданом невесты, говорит: «Яке ж цепэр прэданэ, а? Цепэр німа ніякого прыданого, ой. А цепэр нема добрых хозяінов, бо цепэр усі п’яніцы! […] Ну за кого выйці? А як так выходзіць, як цепэр выходзяць, то я ей [внучке] кажу: “Лепшый седзі, не йдзі вобшчэ замуж, о. Жыві сама. Хочэш, ужэ тэ дзіця хочэш, то, просціце, родзіл то дзіця от кого-небудзь, да выгодоваў, ды нехай той чоловік отчэпіцца! Хоць п’яніцы німа, о”. […] То я, коб была молода, то нікагда цепэр замуж не пошла б. Мо нейкы хыба недзе з неба спусціўса, да пошла б» (ФА; Столинский р-н).
Связанные с социальными проблемами и коллективными страхами высказывания о разрушении традиционных норм морали, общественного порядка, о том, что оборвались межличностные и социокультурные связи, часто сопровождаются противопоставлением современности «доброму прошлому», когда человек был включен во всевозможные виды взаимодействий, культурен («…От культура! От хораша было! Каб тую жызню вярнуў цяпер, паказаў маладзежы – хваціліся б за голаву!» (ФА; Мыслобож Ляховичского р-на), а не дик («По Пасхам, по большім празднікам, собіралісь к друзьям в гості […] Пэршы день – к одному, на другі – к другому, і на трэті – к трэтему, о тако ходілі. А шчас шо? Шас боятся в хаты заходіть чего-то – дыкіе» (ФА; Нивы Березовского р-на). Такие оценочные высказывания вводятся в нарративы о признаках конца света, катаклизме вселенского масштаба, например: «Ну конец света ж, там кажуць, половіна Омэрыкі затоне. Будзе чоловек ідці, ды як хто побачыць, то будзе следам бегці за ім. Так казаў колісь мой дзед… Не будзе людзей, от одзін чоловік останецца нейкі, а другі побачыць след і будзе следам бегчы за ім, шукаць яго…» (ФА; Мочуль Столинского р-на). После него люди, которым посчастливится выжить, станут стремиться к сопричастности, единению с Богом и подобными себе и ценить это единение превыше всего.
Различные формы фольклора, в частности обрядовая и необрядовая лирика, похоронные и свадебные причитания, артикулируют идеи отчужденности, неприкаянности и одиночества обрядового персонажа либо лирического героя. В результате анализа экспликации одиночества и изоляции героя либо героини в обрядовых и необрядовых песнях установлено, что они не просто изображают одиночество, отторжение человека (например, девушки-невесты или лирической героини, покинутой любимым, молодой невестки в семье мужа, солдата, оторванного от дома, и др.), возможные межличностные и социальные противоречия, но и, драматизируя связанную с этим напряженность, данные песни, как и само их групповое исполнение, являются средством поддержания и укрепления чувства общности малой группы и состояния динамического равновесия между отношениями в семье и локальном сообществе. Жанровые сценарии традиционной необрядовой лирики белорусов мотивируют к предпочтению не свободного перемещения в рамках социальной пространственной мобильности и поверхностных множественных межличностных и социокультурных связей, а серьезной вовлеченности человека в малую (семейную, родовую, локальную) группу, ответственности за межличностные отношения в ней, созданию теплых чувств в «рефлексивном мире» значимого другого.
Все названные выше аспекты одиночества переживают персонажи романсно-балладного жанра, «затуманьвая сэрца і душу» друг другу, превращая любовь в «муку», разрывая и извращая всевозможные связи со значимыми другими, в первую очередь с родственниками. Со слезами на глазах женщины старшего поколения исполняют песни о том, как выросшие дети отрекаются от родителей, обрекая их на страшное одиночество [Швед 2023а]. В связи со сказанным отметим бытование заговоров на то, чтобы дети не покидали своих родителей. Один из текстов исполнительница так и назвала «Еслі дучка забула матэра»: «В річкы чорнэі вода, в воді жовтыі бэрэга, а в хате моеі порогы, ходылы б ногы дочкы моеі до мэнэ, Божеі рабе (імя). Мэнэ б дочка уважала, стару маты ны забувала, як хвороба – нэ кыдала, як я про еі трывожылась: як кобыла трывожыцця по своему жэрэбчыку, овця по своему ягнетку, гобка по своему гнездечку, а дочка моя по своему крылечку і по мні, Божеі рабі (імя). Амінь» (ФА; Яблочно Малоритского р-на).
Что касается осмысления добровольной, не коннотированной в отрицательном ключе изоляции, то об этом можно говорить только в отношении духовных стихов, где художественной интерпретации подвергаются христианские мотивы, образы и идеи, либо иных фольклорных текстов, возникших в результате взаимодействия устной и письменной традиций, светской и христианской культур, дискурса «народного православия». Например, не угнетены муками изоляции молящиеся, одиноко живущие в лесу или пустыне старцы и т.д. Подразумевается, что они метафизически не одиноки, а, добровольно уйдя из повседневной рутины, реализуют глобальные духовные цели общения с Богом посредством подвига стояния на молитве. Для духовных стихов важно понятие «отшельничество» – и это принципиальная особенность жанра. Лексема «одинокий» соотносится в них с понятием «пустой, пустынный, дикий, заброшенный, необитаемый», ср. «одинокая пустыня». Живя в «одинокой келии в широкой пустыне», совершает свой подвиг молитвенного стояния (на камне) преподобный Серафим: «Ад Серафімай абіцелі / Цягнецца стараўскі лес. / Келія там адзінокая, / В ней Серафім жыве. / Знала пустыня шырокая / Подвіг як он совершал. / Там пры дарожке пад сосенкай / Камень цяжёлый ляжаў. / Там ён начамі бессоннымі / Здесь на малітве стаяў…» (ФА; Знаменка Брестского р-на).
Песни, исполняемые в рамках похоронного обряда при ночном бдении при умершем, актуализируют идею одиночества человека перед лицом смерти и высших сакральных инстанций, рисуют печальные картины прощания одинокой души с телом, которая должна, покинув свой дом, родных и близких, навсегда расставшись с радостями мирской жизни и «земными» связями, отправиться в мир вечный и предстать перед Божьим судом. Причем одинокая душа умершего как бы противопоставляется живым, объединенным за поминальным столом. Мотив одиночества сквозит и в строках песнопений о том, что на индивидуальном суде каждую душу будут спрашивать о земных делах, и в первую очередь о ее прегрешениях. И только покаявшийся человек может стать метафизически неодиноким, воссоединившись с Богом и такими же покаявшимися и святыми в уготованном им пресветлом Царстве небесном.
Подведем итог. Фольклорные тексты, описывающие различные измерения одиночества (межличностного, социокультурного, метафизического), различаются жанрово, тематически, по набору сюжетов и масштабу описываемых событий. Семантической основой большинства из них выступает конфликт, связанный с реализацией определенного морального выбора, либо с изменением поведенческой стратегии, а также разрешение конфликта и предписание поведенческого сценария, что так либо иначе соотнесено с моральной оценкой героев и их поступков. «Первичное» единство малой группы, включенность индивида в ее социальную сеть, бытие среди «своих» (коими в первую очередь считаются члены семьи) и ощущение их поддержки – это искомая ценность, соответственно одиночество, непринадлежность, изоляция – это антиценность. Негативно осмысляются любые оттенки одиночества и, соответственно, преобладают отрицательные коннотации связанных с ним ситуаций, за исключением текстов, интерпретирующих христианские ценности и практики. Материалы различных фольклорных форм позволяют реконструировать «жанровые модели» факторов одиночества (неприятие человека его группой, потеря значимого другого, «разрыв поколений», аномия) и стратегии его предотвращения и преодоления – посредством предупреждения несведущих об опасности, утверждения таких морально-нравственных ценностей, как согласие, солидарность, принятие другого, сострадание, ответственность, совесть, чистота отношений, добро, взаимная любовь, семейные узы, уважение, взаимопомощь и под., а также посредством психокоррекционного и психотерапевтического воздействия фольклорных текстов на их «пользователей».
Представления об одиночестве оказываются тесно сопряжены с такими феноменами бытия, как семейные узы, благополучие (в том числе психоэмоциональное), любовь, коммуникация, власть, тоска, страх, смерть, с категориальными оппозициями «справедливость–несправедливость», «вина–невиновность», «наказание–безнаказанность», «свой–чужой». Например, одинокой становится героиня жестоких романсов, противопоставившая себя традиционному патриархальному миру «правильной жизни», а значит, переходящая в разряд «своих чужих» либо вообще чужих и потому сополагаемая смерти.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ФА – Фольклорно-этнографический архив лаборатории «Фольклористика и краеведение» Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Выслоўі / гал. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1979. 520 с. (БНТ).
Замовы / гал. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Бел. навука, 2000. 597 с. (БНТ).
Пазаабрадавая паэзія / гал. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Бел. навука, 2002. 564 с. (БНТ).
Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / гал. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн.1–2 (БНТ).
Сацыяльна-бытавыя песні / гал. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. 486 с. (БНТ)
ТМКБ 4/2 – Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т. Т. 4: Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2 / ідэя і агул. рэд. Т.Б. Варфаламеевай. Мінск: Вышэйшая школа, 2009. 863 с.
ТМКБ 5/2 – Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т. Т. 6: Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / ідэя і агул. рэд. Т.Б. Варфаламеевай. Мінск: Вышэйшая школа, 2013. 1231 с.
ТС – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / рэд. М.П. Судніка, М.Н. Крыўко. Мінск: БелЭН, 1999. 784 с.
About the authors
I. A. Shved
Anhui University; Brest State A.S. Pushkin University
Author for correspondence.
Email: Shved_Inna@tut.by
ORCID iD: 0000-0002-9225-2031
Hefej, People's Republic of China; Brest, The Republic of Belarus
References
- Adon’jeva S.B. Pragmatika fol’klora. St. Petersburg, Amfora Publ., 2004, 312 p. (In Russ.)
- Baiburin A.K. Toska i strakh v kontekste pokhoronnoi obriadnosti (k ritual’no-mifologicheskomu podtekstu odnogo siuzheta). Trudy fakul’teta etnologii. St. Petersburg, Jevropeiskogo un-ta Publ., 2001, vyp. 1, pp. 96–116.
- Fiadosik A.S. Admetnastsi pakhavalʹnaĭ i paminalʹnaĭ abradnastsi belarusaŭ. Siameĭna-abradavaia paėziia. Narodny tėatr, navuk. rėd. K.P. Kabashnikaŭ. Minsk, Bel. Navuka Publ., 2001, pp. 346–363. (Іn Belarus.)
- Sadler U.A., Dzhonson T. B. Chto takoje odinochestvo? Labirinty odinochestva. Moscow, Progress Publ., 1989, pр. 21–51. (In Russ.)
- Sedakova I.A. Semantika i simvolika vtorogo u bolgar (s nekotorymi slavianskimi paralleliami). Priznakovoje prostranstvo kul’tury, S.M. Tolstaya (otv. red.). Moscow, Indrik Publ., 2002, рр. 209–224. (In Russ.)
- Shved I. Vianchanne iak chynnik belaruskaha tradytsyĭnaha viasellia. Vuchonyia zapiski Brėsts. un-ta imia A.S. Pushkina: zb. navuk. prats: u 2 ch. Brėst: BrDzU, 2016, vyp. 11, ch. 1: Humanit. i hramad. Navuki, pp. 126–145. (Іn Belarus.)
- Shved I. Prahmatyka mifalahichnykh tėkstaŭ u belaruskaĭ falʹklornaĭ tradytsyi pachatku 2000-kh hh. Studia Białorutenistyczne, 2021, 15, рр. 109–133. (Іn Belarus.)
- Shved I. O sotsiokul’turnoi strategii mifologicheskikh rasskazov o suitside (po belorusskim materialam nachala ХХІ v.). Kostroma. Genus Loci, sost. i otv. red. A.V. Zaitsev. Kostroma, KGU, 2022, vyp. 5, pp. 76–83. (In Russ.)
- Shved I. Zhestokii romans v sotsiogumanitarnom diskurse Brestchiny. Berkovskije chteniia – 2023. Knizhnaia kul’tura v kontekste mezhdunarodnykh kontaktov. T. 2. Materialy VII Mezhdunarodnoi nauch. konf. (Brest, 24–25 maia 2023 g.), sost. L.A. Avgul’, N.V. Vdovina: v 2 t. Moscow, Nauka. RAN, Minsk, TsNB NAN Belarusi, 2023a, pp. 434–440. (In Russ.)
- Shved I. Odinochestvo v pesennom fol’klore na matrimonial’nuiu tematiku (na materiale Brestchiny). Kul’tura i tekst, 2023b, 1 (52), pp. 170–182. URL: https://journal-altspu.ru/ (data obrashcheniia: 12.10.2023). (In Russ.)
- Shved I. «Vona z hroba ny khotila vstavaty, azh u iamu padala»: mifalohiia nezavershanaĭ pratsy hora (na matėryiale Berastseĭshchyny). Astramechaŭski rukapis, 2023c, no. 4 (44), pp. 24–31 (Іn Belarus.)
- Shved I. «Upav kamenʹ u vodu, odbilsia od rodu»: odinochestvo i izolyatsiya v neobryadovoy poezii fol'klornoy traditsii Brestchiny. Vesnik Brėstskaha ŭniversitėta: Ser. 3. Filalohiia, pedahohika, psikhalohiia. 2023d, 1, pp. 5–12. (In Russ.)
- Toporkov A.L. Simvolika tela v russkikh zagovorakh XVII–XVIII vv. Telo v russkoi kul’ture: sb. Statei, sost. G.I. Kabakova, F. Kont. Moscow, Novoje literaturnoje obozrenije, 2005, pp. 131–146. (In Russ.)
- Valodzina T.V. Prykazki iak ėntsyklapedyia narodnaĭ mudrastsi. Malyia zhanry. Dzitsiachy falʹklor, navuk. rėd. A.S. Fiadosik. Minsk, Bel. Navuka Publ., 2004, рр. 19–31. (Іn Belarus.)
- Valodzina T. Udava. Mifalohiia belarusaŭ: ėntsykl. sloŭn., navuk rėd. T. Valodzina, S. Sanʹko. Minsk, Belarusʹ, 2011, р. 483. (Іn Belarus.)
- Vinogradova L.N. Sotsioreguliativnaia funktsiia sujevernykh rasskazov o narushiteliakh zapretov i obychajev. Semantika i pragmatika teksta. Moscow, Indrik Publ, 2006, рр. 214–235. (In Russ.)
- Vuhlik I. Sirata. Mifalohiia belarusaŭ: ėntsykl. sloŭn., navuk rėd. T. Valodzina, S. Sanʹko. Minsk, Belarusʹ, 2011, р. 433. (Іn Belarus.)