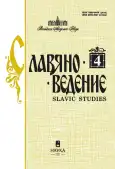Приднестровские молдаване в российском плену: казус имперской военной политики XVIII века. 2
- Авторы: Каширин В.Б.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2025)
- Страницы: 23-36
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350849
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040024
- EDN: https://elibrary.ru/UZJYHV
- ID: 350849
Полный текст
Аннотация
Статья является продолжением исследования, опубликованного в предыдущем номере журнала «Славяноведение», и так же посвящена совершенно неизвестному до сих пор драматическому эпизоду из истории русско-турецкой войны 1768–1774 гг. – судьбе в плену в Российской империи многочисленной группы этнических молдаван из левобережного Приднестровья. В октябре 1769 г. в ходе военных действий вблизи Бендерской крепости российскими войсками были разорены населенные молдаванами села на левом берегу Днестра, находившиеся под юрисдикцией Крымского ханства. Около тысячи человек их жителей, в том числе женщины и дети, были взяты в плен и уведены в Россию. Командующий передовым российским корпусом генерал-майор граф Х.Л.К. Витгенштейн под предлогом спасения этих людей от голодной смерти раздал их офицерам вверенных ему войск, фактически превратив в крепостных. Это решение не только не соответствовало европейским законам и обычаям войны того времени, но и шло вразрез с интересами государственной политики России в условиях борьбы с Османской империей, противоречило конкретным распоряжениям верховной власти, касавшимся выходцев из Молдавии. Обстоятельства этого дела вскоре стали известны различным государственным учреждениям Российской империи, что повлекло долгую межведомственную проработку, вскрывшую ряд явных злоупотреблений и затронувшую интересы ряда влиятельных лиц государства. В конечном счете, в отношении, по крайней мере, части пленных молдаван удалось добиться справедливости и соблюдения законности, что стало одним из частных примеров преодоления и изживания в России XVIII в. архаических и варварских практик ведения войн старого времени. Статья написана на материале архивных документов военного и дипломатического ведомств Российской империи, впервые вводимых в научный оборот.
Полный текст
Перед началом многотрудной полевой кампании 1770 г. и предстоявшей осады Бендерской крепости главнокомандующий российской 2-й армией генерал-аншеф граф П.И. Панин хотел добиться, чтобы одобренное им незаконное распоряжение графа Х.Л.К. фон Витгенштейна о фактическом превращении угнанных из левобережного Приднестровья молдаван в крепостных получило санкцию верховной власти, более никем не оспаривалось и не привлекало внимания бюрократических структур. В противном случае вызванные этим разбирательства могли обременить его в разгар выполнения возложенной на него главной стратегической задачи и вызвать недовольство в высших органах власти. Однако вопреки желанию Петра Панина и даже помимо его местных трений с киевским генерал-губернатором Ф.М. Воейковым вопрос о судьбе тысячи пленных молдаван постепенно стал разными путями достигать центральных учреждений Российской империи.
Вмешательство Государственной военной коллегии. Весной 1770 г. сравнительно небольшая группа из числа взятых в плен приднестровских молдаван, всего несколько десятков человек, так и не розданных в «партикулярные руки», была прислана из города Глухова, административного центра Малороссии, в Белгород. Тамошний губернатор тайный советник Андрей Матвеевич (Генрих-Матиас) Фливерк запросил у Военной коллегии указаний, как ему следует поступать с пленными волохами, учитывая, «что оне веры греческого исповедывания». Ранее коллегия предписала ему руководствоваться указами о неприятельских пленных, подписанными 3 сентября и 12 ноября 1769 г. Однако педантичный немец и старый службист (с 1722 г.) Фливерк со своей стороны подчеркивал, что в данных указах шла речь о пленных турках и татарах и никак не оговаривалось, что же делать с единоверными молдаванами.
Кроме того, появились и некоторые новые обстоятельства. 15 марта 1770 г.
к Фливерку обратился подполковник Изюмского гусарского полка Аким Фомич Бедряга. Это был храбрый и заслуженный офицер «из молдавского шляхетства». Фамилия Бедряг, переселившихся в Россию при Анне Иоанновне, не принадлежала к числу особо знатных родов княжества Молдавия, но позднее ряд ее представителей отличился и выдвинулся на российской военной службе. В Отечественную войну 1812 г. три родных брата Михаил, Сергей и Николай Бедряги вместе с Д.В. Давыдовым служили офицерами в Ахтырском гусарском полку, которым ранее командовал их отец, и покрыли себя славой в боях с армией Наполеона. Упомянутый же Аким Бедряга, представитель старшего поколения той семьи, поступил на российскую службу в 1746 г., всего 11 лет от роду. Он участвовал во всех кампаниях и баталиях российской армии в Семилетнюю войну, в битве при Кунерсдорфе взял в плен и лично представил главнокомандующему прусского подполковника, пять других офицеров, несколько гусар и кирасиров; был в экспедиции на Берлин в 1760 г. и под Кольбергом в 1761 г., отличился в различных партизанских набегах и стычках. Когда в 1762 г. в краткий период царствования Петра III Россия фактически перешла на сторону Пруссии, капитану Бедряге довелось быть, по словам его послужного списка, «в прусской армии с корпусом графа Захара Чернышева при разбитии при батареях цесарских кирасир молдавских эскадронов в присудствии Его Величества короля прусского». Таким образом, офицер-молдаванин Бедряга имел опыт борьбы и против пруссаков, и против тяжелой кавалерии императрицы Марии Терезии. А в октябре 1769 г., как было рассказано в первой части этой статьи, он участвовал в набегах российских передовых корпусов на Бендеры и успешно совершил вылазку в самое предместье крепости. За проявленное отличие Бедряга получил свою долю добычи в виде некоторого числа угнанных из «ханских сел» соплеменников-молдаван.
В начале весны 1770 г. произведенный в подполковники Бедряга прислал к белгородскому губернатору Фливерку своего земляка с письмом, в котором сообщал, что «оные волохи взяты не в плен», и пояснял: «В прошлом году будучи корпус лехких войск под Бендерами, между протчим разорением хана крымского жилищ сожжены многия слободы, в которых жили волохи, в подданстве его, и за неимением казенного правианта таковых з женами и детьми роздано при выписке разным афицерам с тем, чтоб оне вывезли их на своем содержании в Россию и на своих бы землях поселили в вечное российское подданство».
Подполковник Бедряга прямодушно докладывал, что и сам он из этого числа молдаван «своим коштом» вывел несколько семей в свою деревню Лазуковку Змиевского уезда на Харьковщине. Согласно его послужному списку 1770 г., за ним числилось «мужеска полу душ крестьян 6, малороссиян 80», и, возможно, под «крестьянами»-немалороссиянами он имел в виду как раз молдаван. Далее в письме Фливерку подполковник Бедряга продолжил, что в результате описанных действий командования некоторые молдавские семьи оказались разлучены, отдельные люди остались в распоряжении властей, «под арестом», на содержании государства. В связи с этим храбрый гусарский офицер просил о распоряжении, чтобы эти семьи получили возможность воссоединиться (подразумевалось, что в его деревне). Обращение Бедряги, как и реляция П.И. Панина 24 мая 1770 г., говорили о том, что раздача ханских волохов в частные руки была обусловлена отсутствием продовольствия и теплой одежды, но при этом нигде даже не упоминалось, что эти несчастные имели возможность хотя бы сами выбрать себе будущих хозяев. А факт того, что некоторые семьи оказались разлучены, показывает, что это распределение молдаван между офицерами русской армии носило произвольный, хаотический и, вероятно, принудительный характер. Фактически, суровый рок военного времени поставил их перед выбором – смерть или рабство, и люди предпочли жизнь в неволе.
Получив запрос губернатора Фливерка, в Военной коллегии сразу поняли, что ситуация с пленными молдаванами, распоряжения командования 2-й армии и пожелания майора Бедряги совсем не соответствуют ни букве, ни основной политической идее рескрипта Ф.М. Воейкову 21 августа 1769 г. о создании Молдавского гусарского полка, именного указа ему же 16 ноября 1769 г., и вообще каким-либо нормативным документам об обращении с пленными и выходцами из Молдавии. Дело явно выходило за рамки всякой законности, и тогда в военном ведомстве решили перенаправить этот вопрос на рассмотрение Правительствующего сената, куда 30 апреля 1770 г. и был послан соответствующий запрос из ГВК.
Несмотря на военное время, Сенат подошел к делу обстоятельно и готовил ответ более месяца. 4 июня 1770 г. в указе за первой подписью обер-секретаря Н.Ф. Дурасова Сенат сообщил в Военную коллегию справочные сведения об историческом опыте обращения в России с иностранцами-военнопленными со времен императрицы Анны Иоанновны. По этой справке, пленным, взятым в войнах с Турцией 1736–1739 гг. и со Швецией 1741–1743 гг. по окончании военных действий было официально позволено беспрепятственно вернуться домой, кроме тех, захотел бы добровольно остаться в России. В начале Семилетней войны указом 24 сентября 1757 г. было предписано «прусских пленных распределить, кто куда пожелает, а ежели из них кто и в партикулярные услуги идти или инако каким рукоделием сам собою питаться пожелает, оным в том дать волю». Наконец, уже в текущую войну с Турцией новейший высочайший указ 20 апреля 1770 г. предписывал взятых в плен турок и татар, пожелавших принять крещение, объявить «вольными людьми, оставляя им на волю избирать себе такой род жизни, какой сами похотят, на службу определять не инако, как по их желанию».
Таким образом, из документов видно, что официальные распоряжения властей Российской империи были вполне разумными и гуманными и вполне отвечали законам и обычаям войны цивилизованного мира. Конечно, на практике разрешение пленным идти «в партикулярные услуги» создавало возможности для злоупотреблений и фактического закабаления отдельных людей. Но не могло быть и речи о том, чтобы тысяча человек, с женщинами и детьми, притом не турок или татар, а единоверных православных волохов, были разом обращены в крещеную собственность российских офицеров, в их крепостных.
По существу же запроса Военной коллегии от 30 апреля Сенат указал, что в донесении «не изъяснено», «по чьим определениям [вышеписанные в доношении военной коллегии волохи, взятые под Бендерами] из армии афицерам, в том числе и подполковнику Бедряге, для поселения в их маетностях роздаваны были, для каких имянно притчин и кому сколько». Поэтому Военной коллегии предписывалось, «выправясь основательнее», обобщить искомые сведения и представить их в Сенат «со мнением», т.е. с собственной мотивированной позицией и предложениями. Вдобавок все тот же белгородский губернатор А.М. Фливерк рапортом 27 мая 1770 г. повторил свой прежний запрос и настоятельно требовал официального императорского указа по этому предмету.
Теперь Военной коллегии уже поневоле пришлось предпринять следующий, уже давно назревший и необходимый шаг – направить запрос главнокомандующему 2-й армией графу П.И. Панину. Эта бумага была отправлена 21 июля, т.е. на следующий день после того, как войска 2-й армии заложили первую параллельную траншею под стенами Бендерской крепости, тем самым открыв ее формальную осаду. В главную квартиру Панина запрос прибыл примерно спустя две недели, в разгар боевых действий под Бендерами, а ответить на него у главнокомандующего дошли руки только 5 сентября, когда осада приближалась к своей кульминации – решающему штурму, и спустя не меньше месяца с момента получения этой бумаги. В рапорте Панин писал: «Я на то государственной военной коллегии таперь обстоятельно донести не могу, за тем что ни того генерала маиора графа Витгенштейна, которой был в бендерской експедиции командиром и тех волохов раздавал, здесь при армии не состоит, но находится за болезнию в Переясловле, ни же тех дел, ис коих бы требуемую ведомость сочинить должно, при мне нет, а при выступлении в компанию оставлены в Харькове, без чего ее и прислать прежде вступления в винтер-квартиры невозможно».
Состояние делопроизводства в российской действующей армии того времени и щекотливость ситуации позволяют усомниться в том, что раздача пленных молдаван в собственность российским офицерам была должным образом задокументирована. Едва ли в оставшихся в Харькове делах главной квартиры 2-й армии имелись какие-либо конкретные сведения об этом предмете. И в том же рапорте в Военную коллегию граф Петр Иванович добавил, что по вопросу о пленных волохах им 24 мая 1770 г. была уже отправлена отдельная реляция на высочайшее имя, ответа на которую он пока еще не получил (и это спустя более трех месяцев после отправления реляции!).
Примечательно, что текст проекта ответного рескрипта на нее все же был составлен в ведомстве Н.И. Панина; он найден мной в делах фонда «Сношения России с Крымом» в АВПРИ. В этом проекте говорилось, что императрица одобряет доводы генерала Панина о пленных волохах и, «сообразуя с Нашим всегдашним мнением о невинных христианах в настоящей войне», решила «предписать, чтоб с одной стороны Нам служащие в войске люди при настоящих своих военных трудах не претерпели вящаго и особливого изнурения, естьли находящихся у них в услугах теперь пленных от них отобрать на поселение, наипаче когда они для сущаго сохранения их жизни и за недостатком пропитания им розданы были». И здесь же составитель проекта написал, что «не можно таковых пленных считать в равном качестве с теми христианами, кои из Молдавии сами выходят или высылаются нашими войсками, яко из такой земли, которая уже вся от нашего неприятеля оставлена и о коих одних и дело шло в повелениях наших о поселении Нашему генерал-губернатору Воейкову».
По сути, сам Н.И. Панин, автор всех упомянутых рескриптов и указов Воейкову о молдаванах, попытался задним числом подразделить молдавских выходцев на разные качественные категории, хотя в самих тех его документах данный вопрос никак не конкретизировался. А резолютивная часть проекта рескрипта гласила: «Потому и имеете вы, так как уже и прежде собою то делали, оставить еще до времени в настоящем неопределенном положении, следовательно, в молчании, дальнейшей жребий тех пленных, с тем справедливым в армии вашей наблюдением, чтобы они своевольно и без надлежащих отпускных своих настоящих помещиков не оставляли и другими приемлемы не были».
Иными словами, составитель проекта рескрипта безоговорочно соглашался с абсолютно незаконными по своей сути аргументами генерала П.И. Панина, шел навстречу его пожеланиям и санкционировал закрепощение приднестровских молдаван на неопределенный срок. Летом 1770 г., во время тяжелой полевой кампании и осады Бендер, а также в условиях ослабления панинской партии в непрекращающейся придворной борьбе граф Никита Иванович и не мог поступить иначе, кроме как оказать поддержку младшему брату-полководцу. Этот проект не датирован, и, по всей видимости, он так никогда не был подписан императрицей и не отправлен П.И. Панину. Возможно, граф Никита Иванович все же посчитал нецелесообразным представлять императрице бумагу по столь щекотливому вопросу, и проект лег под сукно.
В ночь с 15 на 16 сентября 1770 г. состоялся решающий штурм Бендерской крепости, в результате которого эта османская твердыня после эпической и кровавой борьбы пала и была почти полностью уничтожена пожаром. В октябре войска российской 2-й армии вернулись обратно в пределы России, приведя с собой около 12 тыс. пленных жителей Бендер обоего полу. В их числе находились также 150 мужчин-молдаван и 218 молдаванок, перенесших всю двухмесячную осаду внутри крепости. Сам генерал граф П.И. Панин 28 октября 1770 г. в силу целой совокупности политических и психологических причин был вынужден подать в отставку.
Однако вопрос о судьбе молдаван, взятых в плен в Приднестровье осенью 1769 г. и розданных офицерам-помещикам, по-прежнему был далек от разрешения и оставался на контроле у Сената. К этому времени Военная коллегия со своей стороны не добилась никакого прогресса, хотя на местах ситуация продолжала развиваться. 22 августа 1770 г. совершили побег пять человек из числа тех молдаван, которые находились в Белгороде в качестве пленных на казенном содержании. Тогда губернатор Фливерк, так и не дождавшись указаний из Петербурга, решил действовать самостоятельно. Он запросил у Ф.М. Воейкова из Киева копию рескрипта, данного 16 ноября 1769 г. (о пленных из 1-й армии) и на его основании в инициативном порядке решил вопрос о судьбе пленных приднестровских молдаван, находившихся в Белгороде. Был составлен их поименный список, в который вошло 34 волоха. При опросе 4 октября 1770 г. все они заявили о своем желании поселиться в Миргородском уезде на казенной земле, куда они и были быстро отправлены. По сути, так и без участия центрального аппарата военного ведомства, благодаря настойчивости и энергии губернатора Фливерка, судьба этой группы молдаван изменилась к лучшему, они избежали рабской доли и получили свободу.
17 декабря 1770 г. Сенат вновь потребовал от Военной коллегии рассмотреть материалы по вопросу о розданных офицерам молдаванах и представить на заключение «со мнением». Военные отвечали чисто бюрократически: перечислили все, что было ими сделано по части написания различных бумаг, хотя по части практических дел они могли сослаться лишь на действия Фливерка. Эта отписка никак не могла устроить Сенат, тем более что туда разными путями поступали все новые напоминания о нерешенной молдавской проблеме.
Уже упомянутый подполковник-молдаванин Аким Бедряга поднял очередной вопрос. Он писал, что выведенные им в Лазуковку волохи, всего тридцать семей, «по российски ни говорить, ни разуметь еще не могут», но среди них имелся собственный священник протопоп Николай Маркович. И потому Бедряга просил епископа Белгородского Самуила (Миславского), чтобы тому было разрешено совершать службы. Вопрос дошел до Синода, а тот обратился в Сенат. С почти аналогичной просьбой в Белгородскую духовную консисторию обратились и молдавские священники Василий Лукьянов, Дмитрий Киприанов и дьякон Григорий Попов, также приведенные в Россию вместе с другими пленными молдаванами из-под Бендер и определенные в Бахмутский гусарский полк. «В том Бахмутском полку воложскаго народа состоит более трех тысяч душ, и по-российски говорить совсем не умеют, да и ваканции священнические имеются», – указывали молдавские клирики и на этом основании просили разрешить им священнодействие в Бахмутском полку, чтобы они «без должности своей по народам скитаться и без пропитания быть не могли». По этому поводу Синод также обратился в Сенат, и все эти и другие подобные обращения неизбежно служили дополнительными мелкими раздражителями для сенатского руководства и побуждали его добиваться у Военной коллегии выяснения и разрешения вопроса о пленных молдаванах по существу.
27 января 1772 г. Сенат уже с явным недовольством указал ГВК, что по его прежним запросам о волохах до сих пор ничего не представлено, и потребовал скорее исполнить это. И только тогда 18 февраля 1772 г. Военная коллегия доложила в Сенат, что, по ее мнению, с пленными молдаванами из «ханских жилищ» следует поступать на основании рескрипта 16 ноября 1769 г. и все дело поручить киевскому генерал-губернатору Воейкову (спустя два с половиной года после подписания этого рескрипта!).
Предложение было принято, одобрено и утверждено Сенатом, о чем сообщили Военной коллегии, Синоду, киевскому генерал-губернатору и белгородскому губернатору. По сенатскому указу от 16 марта 1772 г., со всеми пленными молдаванами предписывалось поступать на основании рескрипта 16 ноября, «буде они где остались без распределения». И вновь это была абсолютно неудачная и двусмысленная формулировка, которая оставляла за рамками судьбу тех молдаван, кто три года назад уже получил «распределение» в крепостные. Об их поиске, освобождении, расследовании и наказании виновных в указе Сената не было и речи. Между тем, положение закрепощенных молдаван из Приднестровья зачастую было ужасным. Если, например, описанные хлопоты бравого гусарского штаб-офицера Акима Бедряги о передаче ему волохов, содержавшихся в Белгороде, еще можно объяснять заботой о воссоединении семей соотечественников и желанием создать в своей деревне Лазуковке некое молдавское землячество-колонию, то теперь благодаря найденным новым архивным документам стали известны и намного более мрачные, даже страшные случаи, одним из которых стало дело помещиков Телегиных.
Волохи на Вологодчине. В конце концов, к вопросу о молдаванах из Приднестровья подключилось еще одно могущественное ведомство Российской империи – Государственная коллегия иностранных дел. А непосредственным толчком к этому послужило обращение одного из этих волохов. Летом 1772 г. молдаванин Иван Георгиев сумел подать в Коллегию иностранных дел прошение-жалобу, в котором изложил историю своей семьи. По его словам, в 1770 г. (правильно – осенью 1769 г., как указывалось в дальнейшей переписке. – В.К.) «взят он с отцом своим, матерью, четырьмя братьями и невесткою Третьего гранодерскаго полку (правильно – Второго гренадерского полка. – В.К.) майором Петром Сергеевым сыном Телегиным и по вывозе в Россию отец его, три брата и невестка отправлены в Вологодскую его Телегина вотчину, а один его Георгиева брат оставлен в Москве; сам же он Иван по привозе сюда в Санкт-Петербург у отца того Телегина флота лейтнанта оставлен, и по многократным их об отпуске прошениям они не уволены, но все против воли их теми Телегиными удерживаются, с намерением вечно укрепить их и определить в крестьянство». Георгиев просил об освобождении своей семьи и о выдаче «письменного вида» для беспрепятственного возвращения на родину.
Ведомство графа Никиты Панина затребовало объяснений у упомянутого отставного флотского лейтенанта Сергея Телегина, и тот сообщил, что во время военных действий корпуса графа Витгенштейна на Днестре «на неоднократном под Бендерами сражении взято военнопленными с турецкой стороны многое число семей волохов, и оныя от того генерал майора розданы желающим штаб и обер офицерам; между коими и сыну его волох Иван Орданов (называвшейся ложно Георгиевым) с отцом, матерью и показанными братьями достался, а упоминаемая невестка у другого тамо офицера сыном его Телегина девкою куплена и в Москве уже за брата того Ивана Орданова выдана; и всего сыну его мужеска и женска полу военнопленных до тритцати восьми душ досталось, на коих дана ему от помянутого генерала майора для вечного владения даная (т.е. «данная грамота», официальный документ на право владения, аналог дарственной или купчей. – В.К.), сверх которой они, волохи, и в Московской губернской канцелярии явлены, в приметы, в лета и в рост описаны, и по определению оной канцелярии для поселения, так же во владение отданы».
Прямодушный старый моряк-крепостник Телегин заявлял там же, что этих молдаван, «яко пленных по силе воинского устава (Артикула воинского 1715 г. – В.К.) 14 главы 114, 115 и 116 артикулов, и отпускать не следует», и «просил об отдаче ему того волоха по прежнему во услужение», с тем, чтобы, если однажды их все же придется отпустить, они возместили ему «употребленные на содержание их убытки». Эта ссылка на нормы российского военного законодательства демонстрирует весьма своеобразное правосознание Телегина-старшего. Артикул 114 предписывал, под угрозой лишения офицеров чина, а нижним чинам наказания шпицрутенами, всех взятых пленных передавать начальству, а не удерживать у себя. Артикулы 115 категорически запрещал убивать пленных, а также освобождать их без ведома и позволения командующего генерала. Наконец, артикул 116 запрещал военнослужащим силой отнимать пленных друг у друга. Безусловно, во времена Петра Великого Россия вела свои войны на иностранной территории весьма сурово и подчас жестоко, в том числе в отношении гражданского населения. И все же в упомянутой главе петровского Артикула воинского ничего не говорилось о том, что целые семьи единоверцев могли браться «в плен» и раздаваться офицерам в вечную крепость. Из объяснений же Сергея Телегина явствовало, что порабощенные приднестровские молдаване перепродавались как товар, по головам и в розницу, подобно упомянутой невестке Ивана Георгиева (Орданова). Показания Телегина-старшего подтверждали и тот факт, что документы на вечное владение ими офицерам раздавал генерал граф Витгенштейн.
Гренадерский майор Петр Телегин, со своей стороны, дал аналогичные объяснения, уточнив только, что волохи были взяты в плен в октябре 1769 г. и что из них «некоторые были вооружены и противились здешним войскам». Это было единственное конкретное упоминание о вооруженном сопротивлении молдаван из ханских сел, и, по всей видимости, оно было измышлено Телегиным для подкрепления его позиции. Майор уточнял, что при дележе молдаван ему досталось до 35 человек, что в Московской губернской канцелярии были оформлены документы на владение ими, а затем они были вывезены на Вологодчину и распределены по деревням его отца, «скотом и хлебом снабдены». При этом Телегин жаловался, что так и не получил от своих крепостных-молдаван никакой прибыли и лишь понес большой убыток, «за непривычкою их и незнанием российского языка». На этом основании Телегин просил, чтобы, если будет принято решение об освобождении молдаван, ГКИД компенсировала ему расходы или установила «урочныя годы», в течение которых молдаване отработали бы свой «долг». Все упомянутые прошения отца и сына Телегиных и подполковника Акима Бедряги свидетельствуют, что эти офицеры-крепостники в сложившейся коллизии считали себя совершенно правыми и не стеснялись добиваться от властей того, что, по их мнению, им причиталось.
Коллегия иностранных дел взялась за дело о закрепощенных молдаванах всерьез. 23 июля 1772 г. она запросила у Московской губернской канцелярии, на каком основании та выдала документы, фактически закреплявшие волохов в частной собственности помещиков Телегиных. Канцелярия долго и упорно уклонялась от ответа, что дополнительно указывало на незаконные обстоятельства дела. После нескольких запросов в Москву ГКИД была вынуждена написать в Юстиц-коллегию, чтобы та заставила Московскую губернскую канцелярию поторопиться с ответом по существу. 20 марта 1773 г. Юстиц-коллегия сообщила о «строгом под штрафом» подтверждении своего требования к Московской канцелярии, чтобы та с первой же почтой отправила ответ, «но оная канцелярия и по тому не учинила никакого исполнения». 9 мая пришлось обратиться уже к самому московскому генерал-губернатору генерал-аншефу и сенатору князю М.Н. Волконскому, чтобы он заставил подчиненную ему канцелярию дать ответ. И только тогда, «к немалому удивлению коллегии», канцелярия 29 мая 1773 г. ответила, что у нее документов по вопросу о молдаванах-крепостных Петра Телегина не имеется. Налицо были уже не просто вопиющие непорядки в бюрократической машине империи, а признаки коррупционного преступления.
В то же время запрошенная ГКИД Вологодская провинциальная канцелярия докладывала, что волохи, поселенные в тамошних деревнях, сообщили, что «взяты они под видом турок в плен и с женами и детьми помещиком Петром Телегиным поселены на Вологде, где они по требованию с них оброка и по посылке к непривычным им работам видят себе притеснение, а особливо, что все жены и дети их по бедности ходят для сыскания пропитания по миру». Они просили об освобождении их от Телегина и об определении на службу в гусарские полки или на поселение в Новороссийскую губернию (то есть о том, что, согласно букве указов российской верховной власти, полагалось молдавским выходцам по праву).
16 декабря 1773 г. Сенат предписал коллегиям Военной и Иностранных дел совместно изучить вопрос о молдаванах, «положить об них общее мнение» и представить его. В ходе этой межведомственной проработки вопроса ГКИД все пыталась выяснить у военных, на каком основании молдаване были отданы в частные руки, а те, ссылаясь, в первую очередь, на цитированный выше рапорт
П.И. Панина от 5 сентября 1770 г. из-под стен Бендерской крепости, отвечали, что у них сведений не имеется.
Коллегия иностранных дел предельно четко и твердо указывала, что в условиях войны с Портой обращение с молдаванами в Российской империи было вопросом высокого политического значения: «Находящияся из них теперь и в здешней империи заслуживают уже всякое призрение, тем паче что образ наблюдаемого с ними поступка по необходимости служить может или к вящему утверждению их однородцов и в природных своих местах живущих в преданности и доброжелательстве, или же напротив того и к отвращению от той прибежности, какую они поныне имели, да и впредь могли бы иметь».
При этом ГКИД особо подчеркивала, что даже если некоторые волохи, оказавшиеся у Телегина, «взяты имев оружие в руках», это не может служить поводом для их закрепощения, так как «известно, что все христиане, Порте Оттоманской подвластные, в жестокой в сем случае необходимости находятся, и употребление их в войсках турецких есть следствием паче их порабощения, а не доброй воли и желания». И даже если бы эти молдаване сражались против России добровольно, указывала ГКИД, это все равно не являлось достаточным основанием для превращения таких пленных в частную собственность офицеров-помещиков. Вообще же позиция внешнеполитического ведомства в этой переписке производит впечатление мудрого и гуманного государственного прагматизма, если не вспоминать о том, что летом 1770 г. сам граф Н.И. Панин был готов санкционировать незаконное порабощение молдаван, чтобы поддержать своего брата-генерала.
Не имея ни возможности, не желания спорить в данном случае с внешнеполитическим ведомством, Военная коллегия нашла самое удобное для себя решение самоустраниться и делегировать все дело дипломатам. Она писала, что этот вопрос, «как они (молдаване. – В.К.) люди иностранныя и принадлежат более до коллегии иностранных дел, предоставляет на собственное ея разсуждение».
В итоге, получив ответы обеих коллегий, Сенат издал указ 9 декабря 1774 г., предписывавший, чтобы Вологодская провинциальная канцелярия «всех тех волохов, взяв из владения майора Телегина и отобрав от них желании, куда они в службу вступить или где поселиться похотят, снабдила их надлежащими свидетельствам и отпустила по их желаниям, чему согласно и впредь с подобными им поступать велеть». Можно сказать, что в данном конкретном случае восторжествовали добро и справедливость. Впрочем, указ Сената конкретно предписывал освободить лишь молдаван из вологодских деревень Телегиных, и в нем ни слова не было ни об императивном поиске и освобождении всех розданных в частные руки волохов, ни о дальнейшем разбирательстве, поиске и наказании виновных в злоупотреблении.
На этом информация основного источника данного исследования, дела Иностранной экспедиции канцелярии ГВК, исчерпывается, а дальнейшая судьба приднестровских молдаван, попавших в российский плен осенью 1769 г., остается неизвестной. Можно с высокой вероятностью полагать, что для четырех десятков волохов, доставшихся майору Телегину и закрепощенных им на Вологодчине, в итоге все сложилось сравнительно благополучно. Их конкретный случай стал предметом внимания и тщательного разбирательства в самых высоких сферах, и итоговое решение оказалось однозначно не в пользу помещиков Телегиных. Семье молдаванина Ивана Георгиева (или Орданова) более всего посчастливилось в том, что сам он оказался в услужении в столичном Петербурге и ухитрился подать письменное прошение жалобу, причем в самое удачное место, в Коллегию иностранных дел. Тем самым он, быть может, благотворно повлиял и на участь сотен других своих соотечественников. Для молдаван, не говоривших и, тем более, не писавших на русском языке и оказавшихся в поместьях в сельской глубинке России, такие попытки искать справедливости были бы почти безнадежны. Еще раньше, как сказано выше, 34 молдаванина были освобождены из казенного плена в Белгороде и отправлены на поселение в Новороссийскую губернию. Вместе с крепостными Телегиных их насчитывалось не более 80 человек, т.е. менее одной десятой из той тысячи молдаван, что была угнана в плен из «ханских сел» Приднестровья. И можно лишь гадать, сколько из них сумели на практике воспользоваться милостивым для них решением верховной власти и вернуть себе личную свободу.
Вне всякого сомнения, начавшаяся осенью 1769 г. и продлившаяся годы, даже после окончания войны, эпопея тысячи пленных молдаван из ханских слобод и сел на Днестре стала безобразным эксцессом военного времени, результатом произвола двух конкретных военачальников – графов Витгенштейна и Панина, а также – проявлением общей неэффективности, отсталости и, вероятно, частного случая коррумпированности гражданского административного аппарата Российской империи (как в описанном случае с Московской губернской канцелярией).
В конце концов, главным героем и, фактически, спасителем для приднестровских молдаван выступил один из могущественнейших вельмож империи, глава дипломатического ведомства граф Н.И. Панин. Получив жалобу молдаванина И. Георгиева, Коллегия иностранных дел упорно и настойчиво повела дело, вовлекла в него Сенат, Военную коллегию и другие ведомства и в итоге сумела настоять на своем. Но позиция графа Никиты Ивановича в этой истории отнюдь не была безупречна. Еще летом 1770 г. из реляции своего брата, главнокомандующего 2-й армией П.И. Панина, он лично узнал суть вопроса с пленными молдаванами и даже составил текст ответного рескрипта. Так что не может быть и речи о том, что глава Коллегии иностранных дел не владел информацией или не понимал незаконности и пагубности сложившейся коллизии. Но в то время, когда его брат продолжал командовать 2-й армией, Н.И. Панин счел за лучшее поддержать его и на неопределенный срок оставить все дело в прежнем положении, не давая ему никакого хода и решения.
И лишь летом 1772 г., когда П.И. Панин уже полтора года как был в отставке, ведомство Панина, получив жалобу молдаванина Георгиева, вспомнило об интересах государственной политики, о законности и т.п. И так, пусть и с запозданием, дипломатическое ведомство выступило как поборник справедливости и защитник общегосударственных политических и стратегических интересов, по сути, как институт, олицетворяющий современные идеалы справедливого и просвещенного государства, управляемого законами. Привлекательно выглядит и позиция педантичного службиста губернатора А.М. Фливерка, настойчиво требовавшего точных письменных указаний о том, как поступать с пленными молдаванами, побудившего Военную коллегию заняться вопросом, а затем по собственной инициативе решившего судьбу трех десятков волохов в Белгороде. Определенную роль играли и обращения по линии духовного начальства молдавских священников, которые, в отличие от подавляющего большинства своих соотечественников, владели грамотой и могли, так или иначе, подавать письменные прошения и в итоге сумели дойти до Синода.
Офицеры и генералы обеих российских полевых армий в русско-турецкую войну 1768–1774 гг. могли доблестно и самоотверженно сражаться на равнинах Молдавии, на Ларге, Кагуле, на берегах Днестра и Дуная, под крепостными стенами Бендер, но это никак не отменяло их сословно-классовой принадлежности, с характерным образом мышления, ценностями и устремлениями. Большинство из них были помещиками-крепостниками, душевладельцами, для которых «крещеная собственность» была основой материального благополучия, социального статуса и самооценки. Поэтому они и стремились всеми средствами к увеличению размеров этой собственности, к приобретению новых крепостных, пусть даже из числа единоверных православных молдаван, которых Россия на уровне политической риторики в это самое время освобождала от османского ига.
Не вызывает сомнения, что для народов Северного Причерноморья, Балканско-Дунайского и Кавказского региона борьба России с Османской империей в XVIII – начале XIX в. имела исторически прогрессивный характер. Российская империя с точки зрения модернизации своих государственных институтов и правящих элит в ту эпоху представляла передовую силу, по сравнению с Османской империей, Крымским ханством или фанариотскими режимами в Дунайских княжествах. Но при этом не стоит забывать, что она во многих отношениях оставалась глубоко архаическим государством, с вполне хищническими инстинктами господствующего класса, обуздывать которые не всегда были в состоянии еще слабые институты бюрократии и правосудия. На фоне грандиозного процесса экспансии России на огромных пространствах Причерноморья, и притом в эпоху высшего расцвета дворянской империи и ее крепостного права, когда формально закрепощались массы подданных внутри самой страны, не стоит удивляться истории с тысячей молдаван из ханских сел Приднестровья. В той конкретной ситуации военного времени генералы Витгенштейн и Панин увидели благоприятную возможность дополнительно поощрить подчиненных офицеров, раздав им в собственность взятых в плен волохов. Видимо, они руководствовались опытом русской старины, когда любые иностранные подданные-военнопленные могли на неопределенный срок превращаться в собственность Российского государства или частных лиц. А типологически это явление восходило к глубоко архаическим эпохам и социумам, в которых нормой было поголовное обращение в рабство населения завоеванных городов и стран.
И все же рассмотренные в статье материалы межведомственного разбирательства и официальные акты государственной власти позволяют судить, что ко времени первой екатерининской войны с Турцией в Российской империи уже отходили в прошлое беззаконно-жестокие практики массового угона в плен мирного гражданского населения и его закрепощения. Насколько можно судить, в последующие войны власти дореволюционной России более не допускали подобных крупных актов попрания международного права в отношении военнопленных и иностранцев-нонкомбатантов. Так что, видимо, злоключения и страдания приднестровских молдаван в плену у Российской империи в годы русско-турецкой войны 1768–1774 гг. были одной из мелких конвульсий заключительного этапа того тяжелого и мучительного процесса модернизации, который претерпевала Россия в начале своего Нового времени.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи
ГВК – Государственная военная коллегия
ГКИД – Государственная коллегия иностранных дел
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АВПРИ. Ф. 123. Сношения России с Крымом. Оп. 123/2.
Артикул воинский: С кратким толкованием / Напечатася повелением ея императорскаго величества. 2-м тиснением. СПб.: При Императорской Академии наук, 1735.
РГВИА. Ф. 2. Канцелярия Государственной Военной коллегии. Оп. 13.
РГВИА. Ф. 16. Иностранная экспедиция Канцелярии Государственной Военной коллегии. Оп. 1.
РГВИА. Ф. 846. Военно-ученый архив. Оп. 16.
РГВИА. Ф. 490. Коллекция офицерских сказок. Оп. 3.
Об авторах
В. Б. Каширин
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: vbkashirin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2653-7063
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Москва
Список литературы