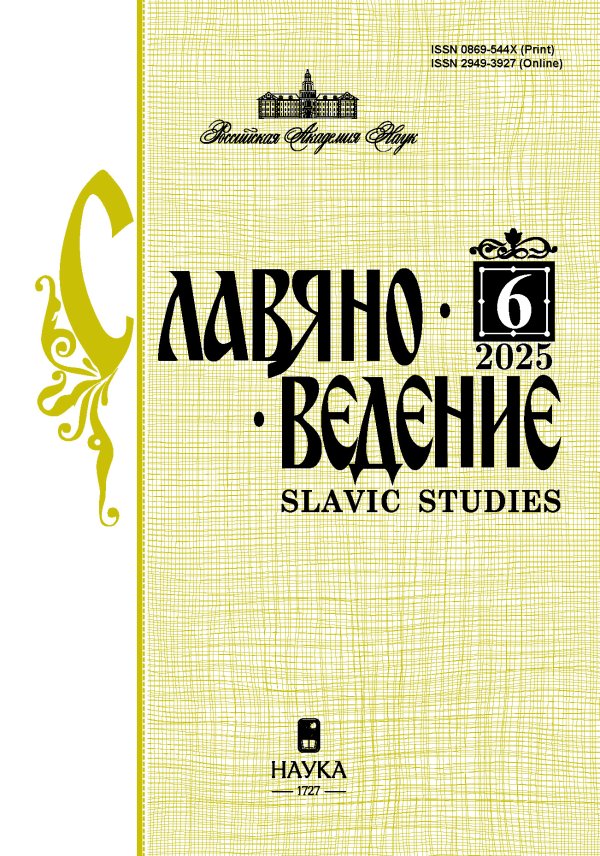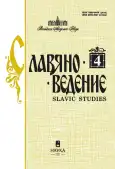V.V. Kapnist's Project of the Creation of Mercenary Cossack Regiments and its Fate
- Authors: Lazarev Y.A.1
-
Affiliations:
- Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2025)
- Pages: 5-22
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350848
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040012
- EDN: https://elibrary.ru/UZIQAX
- ID: 350848
Full Text
Abstract
The article examines the history of V.V. Kapnist’s project of the creation of mercenary Cossack regiments. The author reconstructs in detail the context of the discussion of the project in the governmental public sphere in 1788–1789 and similar initiatives at the end of the reign of Catherine II. It is shown that in government circles, initiatives such as the Kapnist’s project received support from influential Great Russian officials and nobles. It is explained that the key factor blocking such initiatives was Vice-Chancellor A.A. Bezborodko, and not the policy of the Russian government. Unlike the Great Russians, Bezborodko saw any Cossack projects as a direct threat to the interests of the empire. This threat consisted in the possible return of the disorders associated with the institution of the hetmanate, which was liquidated in 1764. The Great Russians' support for initiatives like the Kapnist’s project is explained by the idealization of the Little Russian Cossacks as a kind of «wonder weapon». In the appendix to the article, Kapnist’s project and Bezborodko’s answers to G.A. Potemkin's opinion about the project are published for the first time.
Keywords
Full Text
В украинской и отчасти российской историографиях имя российского поэта Василия Васильевича Капниста (1758–1823) четко ассоциируется с украинским национальным автономизмом, а в некоторых версиях даже с сепаратизмом. Капнисту приписывается руководство малороссийским патриотическом кружком на Новгород-Северщине, имевшем антироссийскую направленность, а также подготовка восстания с целью восстановления украинской государственности при внешней поддержке Польши или Пруссии. Последнее было удивительно для писателя греческого происхождения, который на протяжении всей карьеры писал патриотические оды на французском и русском языках, восхвалявшие победы русского оружия, а не казацкое прошлое, высмеивал «в поповской школе побывалых» (т.е. обучавшихся в украинских коллегиумах), и вообще являлся имперским чиновником, интегрированным в политическую и литературную жизнь имперской столицы. По большому счету именем Капниста и ограничивается перечисление участников украинского кружка автономистов или некой анонимной литературной оппозиции. Одним из проявлений борьбы Капниста-«традиционалиста» (З.Е. Когут) за казацкую автономию якобы являлся его проект создания наемных казацких полков (1787–1788), который подразумевал восстановление казацкого самоуправления и признание соответствующих льгот [Ohloblyn 1955, 204–206; Оглобин 1959, 77, 88–90, 90–94;
Kohut 1983, 77–80; 1988, 264–268; Дашкевич 1992; Матях 2007, 96; Киянская 2008, 267–269].
Все исследователи (историки и литературоведы), которые так или иначе обращались к казацкому проекту В.В. Капниста, рассматривали его, основываясь на пересказе дореволюционного архивиста Н.И. Григоровича (1835–1889), последним также было опубликовано мнение на проект вице-канцлера графа А.А. Безбородко. Григорович признавался, что не смог выяснить, «какая судьба постигла проект Капниста», отметив особую заинтересованность к нему со стороны императрицы Екатерины II. Размытые формулировки Григоровича привели к научным гаданиям среди историков и литературоведов относительно судьбы проекта, а не к поискам его оригинала и/или материалов его обсуждения. Одни авторы (Д.С. Бабкин) полагали, что проект затерялся в бумагах Г.А. Потемкина, другие – в основном украинские историки – видели проблему не в бюрократических процедурах, а в боязни абстрактного российского правительства возродить традиционные казацкие формирования и, соответственно, дать шанс на восстановление автономии; верхушке империи проект Капниста был интересен на момент серьезной геополитической опасности (А.П. Оглоблин, З.Е. Когут, Я.Р. Дашкевич). Признание наличия антиукраинского дискурса в правительственных кругах заставляло этих авторов оправдывать действия ключевого критика проекта малороссиянина А.А. Безбородко его конкуренцией с Потемкиным, а не осознанной личной позицией [Kohut 1988, 267–268; Дашкевич 1992, 238]. Подобные историографические комбинации основаны на избранном цитировании известных опубликованных источников (особенно бумаг Безбородко и писем Капниста), грешат превратно выписанным контекстом обсуждения казацкого проекта и подобных инициатив екатерининского времени. Обращение к истории казацкого проекта в свете опубликованных материалов и неизвестных архивных источников показывает совершенно иную картину.
Начало русско-турецкой войны 1787–1791 гг. активизировало прожектерскую деятельность В.В. Капниста. Примерно во второй половине 1787 – начале 1788 г. Капнистом было подготовлено «Положение на каком основании может быть набрано и содержано войско охочих казаков». Прошло не так много времени с момента расформирования последних казацких полков в Малороссии (начало 1780-х годов), и в регионе оставалась масса лично свободного населения, которая официально еще числилась в данном сословии. Отталкиваясь от этих реалий, Капнист расписал в 29 пунктах проекта механизм набора лично свободных добровольцев («не из владельческих токмо подданных») в конные (со своей лошадью и упряжью) и пешие формирования, а также ресурсы для их содержания. Служба в наемных (охочих) полках давала особые привилегии: казаки вместе с семьями временно исключались из подушного оклада и избавлялись от рекрутской повинности и набора в погонщики. Однако после десяти походов эти привилегии приобретали пожизненный характер. Участие в стольких походах давало право на получение отставки, как и в случае роспуска войска по причине окончания войны или императорскому указу. Однако в случае побега казака привилегии автоматически отменялись. Численность наемных (охочих) казаков предполагалась до 12 тысяч рядовых, но по воле императрицы могла быть ограничена пятью тысячами. Это войско должен был возглавить особый начальник, который по императорскому указу набирал бы добровольцев «в трех малороссийских губерниях, вызывая их чрез нижние земские суды, и чрез нарочных». «Войско охочих козаков» планировалось формировать по образцу прежних казацких полков, начальник над войском назначался монархом из числа казацких старшин. Если кандидат числился не в «большом чине», то по своей должности он временно приравнивался к чину «полковника регулярных войск». Схожее пояснение давалось и против «войсковых и сотенных старшин». Вся верхушка войска должна была служить «на собственном иждивении», что, впрочем, не исключало разные бонусы: жалование «регулярными чинами чрез каждые два похода», награждения за отличия по службе, а после шести походов право на отставку и возможность определения к «гражданским делам». Государство брало на себя содержание и снабжение рядовых казаков. По сути дела, в чрезвычайно урезанном масштабе возрождалась войсковая организация в Малороссии, которая была бы более интегрирована в имперскую систему, нежели прежняя система войсковой организации.
Где-то в начале февраля 1788 г. В.В. Капнист по своим надобностям отправился в Санкт-Петербург. Принято считать, что приоритетной задачей для него в этой поездке было лоббирование исключительно казацкого проекта. Первые сомнения по поводу такой трактовки возникли при обращении к письмам Капниста супруге – А.А. Капнист (Дьяковой). В письмах за первую половину февраля поэта явно обеспокоило то, как протекает его путешествие в столицу: «Миссия моя начинается дурно». Это путешествие Капнист назвал «гнусным», рассматривал в качестве испытания со стороны Всевышнего: «Однако я ясно вижу, что путешествие мое было устроено им, чтоб наказать меня или чтоб испытать мое терпение. Какова бы ни была цель этого, я себя очень дурно вел: коли это наказание, так я принял его с досадой, ибо сердился, выходил из себя; коли это испытание моего терпения, так я принял его с досадой, я роптал, раздражался, кричал, ругался и колотил всех. Одним словом, думаю, что вел себя мерзко, и был строго за это наказан». К своим переживаниям Капнист не добавлял конкретики, кроме описаний путевых неурядиц («метель несказанная», обморожения слуги и попутчиков). При этом речь шла об уже полученном воздаянии. Однако общепризнанное толкование этих строк сводится к тому, что Капнист переживал по поводу своего казацкого проекта. Были к тому основания?
Из дальнейших писем В.В. Капниста супруге выясняется, что в первую очередь в столицу поэт вез «жалобы на губернаторство», точнее «жалобы дворянства на наместничество». Вероятно, речь шла о Киевском наместничестве, в котором Капнист представлял интересы местного благородного сословия в качестве предводителя дворянства (с 1785 г.). Вопросы Капнист решал с генерал-прокурором А.А. Вяземским. С этим приближенным императрицы поэт, по его словам, был в «наилучших отношениях» и надеялся на дальнейшее сближение с ним. Этому могло поспособствовать поручение Вяземского о покупке для него «земли в Малороссии». Судя по письму 6 июня 1788 г., расположение Вяземского дало результат. 30 мая в Царском Селе Вяземский подал «государыне от меня жалобу дворянства», которую Екатерина II приняла «с большою доброжелательностью, лестно отозвалась обо мне». Причиной неудовольствия малороссийского дворянства стал губернатор Лосев, на которого императрица «осерчала […] и повелела, чтоб князь передал жалобу мою в совет. Она говорила о том, чтоб дать отставку старому губернатору, сместить Лосева». Затем Капнист передавал слухи от «людей, близких к князю Безбородко», что на состоявшемся совете жалоба была принята и по ней «вынесли постановление согласно воле государыни, о каковой я уж тебе говорил». 16 июня Капнист уже радостно сообщил, что «здешние дела мои улажены. Князь Вяземский берется ускорить отправление указа ее величества по поводу моей жалобы».
Между решением первоочередных дел, связанных с дворянским самоуправлением в Малороссии, В.В. Капнист подал свой проект о формировании казацких полков. Изначально у него были все основания на положительный исход. Расположенный к поэту малороссийский генерал-губернатор П.А. Румянцев специально написал письмо вице-канцлеру графу А.А. Безбородко, в котором хвалил «проект формирования казаков». В начале марта 1788 г. «план о казаках» Капнист передал камергеру Екатерины II и ее фавориту – А.М. Дмитриеву-Мамонову, который «весьма ласково принял» поэта и, вероятно, «уже говорил о […] проекте государыне». В то же время (3 марта) «план»
был передан Безбородко, последний оказался «тоже очень ласков» к автору проекта. Правда, Капниста беспокоило отсутствие реакции на его запросы со стороны Г.А. Потемкина и А.М. Дмитриева-Мамонова и, соответственно, то, что «думает государыня о […] проекте». Однако довольно быстро в середине марта (14 числа) он с явным облегчением написал супруге следующее: «Сообщу тебе доброе известие, оно тебя, без сомнения, обрадует: с проектом формирования казаков ничего не выйдет, несмотря на то что г-н Мамонов им заинтересовался. Проект посылают к князю Потемкину, чтобы получить его одобрение. Итак, ты видишь, что дело вновь превращается в ничто, чем я очень доволен. Прочие дела удержать меня здесь не могут (курсив мой. – Я.Л.)». В этом же письме была приписка брату Капниста Петру. Поэт признался, что в столице все сложилось иначе, чем он предполагал, и «это видно по делу моему с казаками». Он выразил сомнение в том, получится ли лучше устроить «свои дела чрез князя Вяземского». Однако заключил следующее: «Да будет на все воля божия. Я сердечно всем доволен». Вот как Капнист объяснил свое приподнятое настроение: «Освободившись от обузы вербовать казаков, я немало доволен, что это не состоялось (курсив мой. – Я.Л.)». Без этой «обузы» Капнист мог спокойно отправиться «волонтером» на войну в армию Г.А. Потемкина, к чему он призывал и брата, заверяя последнего в том, что «это будет для нас увеселительная прогулка».
Хорошо видно, что инициатива В.В. Капниста по созданию казацких полков была для него второстепенным делом. К ее продвижению он не собирался прилагать дополнительных усилий, делать на нее принципиальную политическую ставку, сулившую существенными тратами из собственного кармана. Обсуждением в правительстве своего проекта Капнист как будто хотел поднять свой политический вес при дворе, выступить перед императрицей не только в качестве поэта-патриота, а и деятельного подданного. Допускаю, что целью подобной активности могло быть усиление позиции Капниста в продвижении жалоб малороссийского дворянства, о чем, собственно, он и волновался в начале путешествия. Казацкий проект не получил моментальной реакции и подобно другим проектам XVIII в. стал заложником бюрократического процесса, который требовал экспертного обсуждения в правительстве. С этого момента Капнист охладел к своей инициативе и, похоже, этому был весьма рад, что разительно отличается от той реакции, когда на кону стояла карьера надворного советника Капниста. Указом императрицы с 20 апреля 1787 г. его определили руководить организацией шелковичного производства в Киеве, на что ему было выделено 10 тыс. рублей. На этом поприще Капнисту не удалось стяжать славу. Постоянные проблемы с поиском помещений под шелковичный завод, разведением специальных деревьев и непростые взаимоотношения с выписанными из Италии мастерами подвели Капниста к мысли завершить столь хлопотное мероприятие. Однако для этого надо было отчитаться по выделенным суммам, объяснить причины неудачи и убедить итальянских мастеров разорвать действующие пятилетние контракты. Ради этого до 1793 г. Капнист постоянно и надолго приезжал в столицу, вел активную переписку со статс-секретарем Екатерины II С.Ф. Стрекаловым, а также задействовал свои дружеские связи в лице чиновников-поэтов Н.А. Львова и Г.Р. Державина [Кукушкина 2015, 487–489].
Однако возвратимся к казацкому проекту В.В. Капниста. Несмотря на то, что его автор охладел к своему детищу, история проекта на этом не закончилась. Первоначальное мнение на него где-то в марте 1788 г. подготовил вице-канцлер А.А. Безбородко. Его текст Н.И. Григорович опубликовал не под оригинальным названием. Свое мнение Безбородко озаглавил как «Примечания на проект г. Капниста о наборе козаков». Судя по почерку, «Примечания» были написаны рукой вице-канцлера. Безбородко привел ряд аргументов, которые ставили под сомнение целесообразность инициативы Капниста. С одной стороны, признавалось, что Малороссия имела большой мобилизационный потенциал. В качестве примера он указал на 500 тыс. казаков и «бывших за монастырями поселян», податями с которых содержались карабинерские полки и Малороссийский гренадерский полк. С другой стороны, вербовка из их числа пяти тысяч человек могла привести к исключению из общего подушного оклада 25 тыс. чел. и потерям казны на сумму в 30 500 руб. Финансовые убытки можно было бы возместить путем увеличения налогов части населения в трех малороссийских губерниях из числа «поселян, так называемых, бывших свободных к раздаче, урядовые, бобровники, птичники, стрелки и волкогоны, да сверх того купленные у графа Разумовского в Гадяцком замке», всего 20 тыс. «душ мужского полу». Денежные потери казны, особенно в условиях «недорода хлеба», могли быть компенсированы и даже приумножены (до 100 тыс. руб.) лишь уравнением подушных окладов монастырских поселян (1 руб. 70 коп.) и казаков (1 руб. 20 коп.). Однако больше всего Безбородко беспокоило возможная реставрация бывших в Малороссии казачьих порядков: «Хотя подобные полки вольные, набираемые ис душ казачьих, но надобно смотреть, чтобы отнюдь то не имело вида прежнего гетманства». В представлениях Безбородко «прежнее гетманство» ассоциировалось с крайне неэффективной организацией казацкого войска. Он выступал против «нераздробления войска, яко несходное с порядком; тоже о выборе старшин сотенных обществом, и об отрешении их по общей просьбе». Безбородко утверждал, что такого порядка «уже издавна и в Малой России не существовало», и ссылался на указ Петра I 1715 г., регламентировавший процесс назначения на казацкие должности. После этого им была дана крайне неприятная характеристика прежнего малороссийского казачества: «Сколько возможно нужен в сем войске порядок, дабы не вышло из него столь же непрочное, как и прежнее, которое, наконец, кроме почт и магазейнов нигде не употреблялось». Последнее, скорее всего, отсылало к негативному опыту мобилизаций малороссийского казачества времен Семилетней войны (1756–1763 гг.). Тогда гетман К.Г. Разумовский, имея заметные послабления от правительства (его освободили от сбора отряда в пять тысяч казаков при реестре в 30 тыс. чел.), не смог вовремя собрать и снабдить всего лишь одну тысячу компанейцев (отборная часть казачества) и восемь тысяч малороссиян для обеспечения логистики и тылового снабжения армии. Набранные компанейцы толком не приняли участия в военных кампаниях и использовались в качестве вспомогательных войск и посыльных [Лазарев 2023a, 356]. Свое мнение Безбородко завершил предложением послать Г.А. Потемкину «план г. Капниста с сими примечаниями и с ведомостями о числе людей […] на разсмотрение, уведомя о соизволении вашего императорского величества знать его мнение, и положить штат для сего войска». Выбор Потемкина объяснялся тем, что он мог придать «всевозможное единообразие» новым казачьим полкам, так как в это время занимался формированием «как регулярных казачьих полков из разных нерегулярных войск, так и из разных поселян на подобие донских казаков».
Таким образом, в качестве ключевого эксперта по проекту В.В. Капниста Безбородко предложил Г.А. Потемкина, находившегося в зените политического влияния при дворе. Выбор был очевиден: примерно с середины 1780-х годов он убеждал Екатерину II в необходимости более широкого применения казачьих войск, правда, делая акцент на донцах. С начала 1788 г. князь ведал набором казацких полков на территории Екатеринославской губернии. К несчастью для Капниста, Потемкин находился в действующей армии за тысячи километров от столицы. Не стоит удивляться, что ответ командующего армией задержался. Вопрос заключается в том, когда он был получен.
В письме близкого друга В.В. Капниста – Н.А. Львова – можно найти важное указание. 12 апреля 1789 г. из Санкт-Петербурга Львов писал своему другу в Малороссию о проблемах последнего, связанных с заведением шелковичного завода в Киеве, и между делом упомянул, что Г.А. Потемкин «говорил недавно» П.В. Заводовскому про проект Капниста. Потемкин счел «план о казаках» «удобным», но «в действие не произвел», так как «сие понескольку зависило» от другого командующего российскими войсками – П.А. Румянцева. Ремарка, сделанная Львовым, свидетельствует о том, что Потемкин на тот момент активно участвовал в обсуждении проекта, находясь в столице. Согласно ведомостям обер-полицместейра Санкт-Петербурга Н.И. Рылеева, Потемкин прибыл в столицу 17 февраля 1789 г. вместе с адъютантом Г. Высоцким. Здесь он находился по май месяц, занимаясь вопросами комплектования и снабжения армии. В ответах на предложения Потемкина есть указание на то, что обсуждение происходило «в нынешнее зимнее время». Рискну предположить, что где-то во второй половине февраля ‒ марте 1789 г. Потемкин предоставил императрице свое мнение на проект Капниста. Текст мнения, уместившийся на небольшом листочке, был написан рукой В.С. Попова, секретаря и доверенного лица Потемкина. Влиятельный вельможа поддержал инициативу малороссийского поэта: «Набор казаков вольножелающих нахожу я полезным». Однако он счел нужным обозначить несколько моментов, заботивших его. Потемкин полагал, что создание казачьих полков ударит по содержанию давно сформированных «полков карабинерских», а затем повлечет и злоупотребления. Корень проблемы виделся ему в недавнем прошлом Малороссии: «Составление казачьих полков по образу прежнего положения не годитса, опасаясь того же злоупотребления, каковое было от их прежних начальников». По этой причине предлагалось сформировать полки «по образу донских казаков». Сложно не заметить, что Потемкин полагал неэффективным прежнее полковое устройство малороссийских казаков во главе с гетманами, не исключая и последнего (К.Г. Разумовского), о котором прямо не говорилось. Невооруженным глазом видно, что по ключевым тезисам Потемкин разделял мнение Безбородко.
После получения мнения Г.А. Потемкина Екатерина II дала собственноручное распоряжение, скорее всего, А.А. Безбородко следующего содержания: «О сем прошу мне доложить завтра и прочесть сей проект предо мною, чтоб можно была дать Капнисту решительный ответ, вложенная записка, рукою Попова записанная, есть мнение кн[язя] Пот[емкина]». На этом основании были подготовлены ответы на предложения Потемкина, которые Н.И. Григорович не проанализировал и, соответственно, документы остались неизвестными последующим исследователям. Ответы сохраняли прежний критический настрой Безбородко по отношению к казацкому самоуправлению, бывшему в Малороссии до отмены гетманства в 1764 г. По поводу «злоупотреблений прежних начальников» Безбородко заметил, что они проистекали из того, что «им вверена была купно с военною гражданская власть», которую «они обращали к разграблению имения подчиненных своих». Отмечалось, что в случае восстановления «прежних закоренелых в народе названием чинов» их следовало наделить «властью военной, соразмерной прочим регулярных войск начальством». Безбородко соглашался с тем, что организация донских казаков лучше предложенного, но осторожно заметил, что «ни один малороссианин не поохотится служить, ибо народ сей чуждается всего вновь вводимого», поэтому он рекомендовал устанавливать новые порядки «под личиною прежних обычаев». В случае одобрения проекта Капниста рекомендовалось истребовать «монаршее на оный утверждение, дабы в нынешнее зимнее время, столь выгодное для набора козаков, можно было начать сие дело с надеждою показать плод и пользу оного к походу следующия весны».
Изложенные выше документы опровергают мнение Н.И. Григоровича и Д.С. Бабкина о том, что проект В.В. Капниста затерялся в бумагах Г.А. Потемкина. Обсуждение проекта в правительственной публичной сфере продолжилось спустя год после его подачи. Обсуждение показало, что основная претензия к проекту заключалась в возможной реставрации прежней системы казацкого самоуправления во главе с гетманом. Последний вместе с бывшей казацкой верхушкой (старшиной) воспринимался как ключевой фактор разорения/деградации малороссийских казаков. Отсюда проистекали ссылки на позитивный пример организации донских казаков. Предложения Капниста упали на благоприятную почву – в правительстве искали дополнительные мобилизационные ресурсы для войны против турок и, возможно, поляков, сам Г.А. Потемкин занимался вербовкой в казаки. Несмотря на это, что-то тормозило процесс… По словам Н.А. Львова, требовалось дополнительное согласование с П.А. Румянцевым, который до этого поддержал проект Капниста. Кажется, что это была отговорка, а реальные преграды проекту Капниста ставил выходец из Малороссии А.А. Безбородко. Поясню.
Важным свидетельством антиказацких настроений А.А. Безбородко является его переписка с сенатором графом А.Р. Воронцовым за первую половину 1790-х годов. Об особом доверительном характере данной переписки говорит тот факт, что некоторые свои письма Безбородко просил после прочтения сжечь. В середине ноября 1791 г. вице-канцлер разразился тирадой в адрес недавно умершего Потемкина: «Страннее всего, что покойникова страсть к казакам до того простиралася, что он все видимое превращал в сие название. В Екатеринославской губернии мещанин, однодворец, грек, раскольник, серб и волох преображен в казака. Но тяжелее всех так называемые черноморцы. Они отпускаются по билетам своих начальников, шатаются по губернии, грабят, разбойничают и людей убивают. [...] Недовольно, что сии разные народы и состояния народныя учинилися казаками: покойник хотел всю почти регулярную конницу теми же сделать и, составя полки казачьи, хотя и регулярные, определить в них донских старшин полковниками». По словам Безбородко, такая участь ждала, например, и малороссийские карабинерские полки. Все это указывало на то, что при живом Потемкине вице-канцлер был вынужден сглаживать свои оценки. Отдельного упоминания заслуживают рассуждения Безбородко про казаков эпохи Хмельниччины. В конце апреля 1790 г. он вполне позитивно размышлял о создании на Правобережной (Польской) Украине «конфедерации наших единоверных примерную той, которая гетманом Хмельницким была сделана, и тем поставим столько войска, что займем всю польскую армию», планируя использовать мобилизационный ресурс показаченных против антироссийских сил в Польше, поддерживаемых Пруссией. Однако спустя несколько лет, когда внешнеполитическая ситуация стабилизировалась и произошел второй раздел Польши, Безбородко уже иначе смотрел на подобные планы. В мае 1794 г. он писал Воронцову о задумке князя Н.В. Репнина «составить запорожцев» из бывших правобережных казаков и «пустить их на Польшу», используя для подавления восстания под руководством Т. Костюшко. В правительственных кругах эта идея была признана «блестящей» (très lumineuses). Со слов «встревоженного» Безбородко, ему пришлось приложить определенные усилия, чтобы купировать эту инициативу, так как его не поддержал президент Военной коллегии граф Н.И. Салтыков. В сложившейся ситуации Безбородко удалось заручиться поддержкой фаворита Екатерины II П.А. Зубова, чтобы склонить императрицу на свою сторону. Зубов принял аргументы вице-канцлера относительно того, что «в 1790 году хотели употребить подобное крайнее средство», так как «самая уже крайность нашего положения того требовала» (война со шведами и турками, угроза выступления против России Англии и Пруссии, нестабильность в Польше). Также поддержка подобных планов связывалась с личностью Г.А. Потемкина: «Да и тут входили еще собенные покойника виды». В ситуации же, когда «Украина, Подолия и Волынь наши», мобилизация «собственного народа, помнящего времена Хмельницкого и склонного к казачеству», привела бы к формированию «военной нации», а вслед за этим подобным «духом» и «Малороссия заразилась бы тотчас […], а за нею и его губерния». Безбородко давал неутешительный прогноз: итогом подобных процессов могла стать «нового рода революция, в которой по крайней мере принуждены будем возстановлять гетманство, дозволять многия нелепыя свободы, и словом терять то, чем смирно и тихо на веки владели». В казаках/показаченных Безбородко видел фактор нестабильности, где «нелепыя свободы» казаков и институт гетманства являлись необходимыми условиями сдерживания этой слабоконтролируемой силы, вредившей интересам империи.
Итак, получалась любопытная ситуация. В то время как, по мнению А.А. Безбородко, геополитическая ситуация поменялась (окончание русско-турецкой войны), в правительственных кругах находились люди, готовые выдвинуть и поддержать очередной проект казацкой мобилизации. Лоббисты таких инициатив, как правило, являлись влиятельными сановниками из числа великороссиян (Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев, Н.В. Репнин, Н.И. Салтыков). Очевидно, что экспертные оценки Безбородко и политическое влияние вице-канцлера блокировали подобные инициативы и повлияли на судьбу казацкого проекта В.В. Капниста, при этом то была его осознанная политическая позиция, а не осторожные действия в рамках некой антиукраинской политики или дискурса. Критическая позиция вице-канцлера по отношению к неэффективному малороссийскому казачеству подтверждается недавними исследованиями по истории русско-украинских отношений [Киселев, Кочегаров, Лазарев 2022]. На фоне более влиятельных великороссиян Капнист не имел достаточного политического веса, чтобы продавить свой проект. К этому стоит добавить, что он не собирался вкладывать собственные средства или агитировать местных дворян, рассчитывая исключительно на помощь со стороны государства.
Но это не все причины, побуждавшие малороссиянина и фактического главы российской внешней политики А.А. Безбородко критически высказываться и тормозить инициативы по формированию казачьих подразделений. Это важно еще и потому, что вице-канцлеру иногда приписывают авторство «Истории русов» – анонимного памфлета начала XIX в., сыгравшего важную роль в формировании украинского исторического мифа и модерной украинской нации [Плохiй 2013, 113–119].
А.А. Безбородко был выходцем из влиятельной малороссийской семьи бывшего генерального писаря А.Я. Безбородко. У последнего сложились напряженные отношения с гетманом К.Г. Разумовским, приведшие к вынужденной отставке в 1762 г. Напряженность объяснялась тем, что Разумовский поступал грубо и самовластно по отношению к уважаемым казацким старшинам, а также неприкрыто и без согласования продвигал на казацкие должности своих родственников. А.Я. Безбородко был одним из активных противников утверждения наследственного гетманства Разумовских [Киселев, Кочегаров, Лазарев 2022, 328–338, 475–481, 581–582, 591–592, 666–667]. Позицию отца вполне мог разделять и его сын, который тем не менее оказался среди доверенных сотрудников П.А. Румянцева, руководившего Малороссийского коллегий, воссозданной после отмены гетманства. По рекомендации Румянцева Безбородко-сын оказался в Санкт-Петербурге при дворе Екатерины II, став статс-секретарем императрицы. Там он занялся и литературным творчеством. Вместе с другим поэтом и писателем малороссийского происхождения В.Г. Рубаном (Рубановским) будущий канцлер принял участие в написании «Краткой летописи Малой России», опубликованной в 1777 г. В этом произведении он всячески восхвалял имя своего покровителя. Безбородко писал, что после добровольной отставки гетмана Разумовского была учреждена Малороссийская коллегия во главе с Румянцевым. Этот «выбор Монарший […] был к крайнему обрадованию всего Малороссийского народа». Укреплению авторитета Румянцева способствовали его личные качества и память о его отце А.И. Румянцеве, управлявшего Малороссией в конце 1730-х годов: «Многие соблюдали в памяти добродетели Отца его, и все знали превосходныя самого его дарования, и потому с сею новою переменою надеялися нового и совершенного для себя блага». Румянцев, «сей новый начальник», стремился вникнуть «в состояние вверенного ему Края», лично объезжал территории, благодаря ему была составлена «самая обстоятельная и достоверная перепись» местного населения, стараниями Румянцева во «всех правлениях» и деятельности Малороссийской коллегии были созданы условия «к порядочнейшему дел течению». Безбородко развивал в публичном пространстве Российской империи определенный «культ» Румянцева. В память о своем патроне он заказал большой его бюст, который поместил в саду своего загородного дома (дачи) на Охте, там же была установлена статуя Екатерины II в образе богини Кибелы [Карпова 1986, 311–312].
К слову сказать, мысли, близкие взглядам Безбородко, высказывал известный малороссийский интеллектуал Г.А. Полетика [Лазарев 2016; Киселев, Кочегаров, Лазарев 2022, 699], а впоследствие друзья его сына, например, А.И. Чепа, который считал, что казацкая Малороссия управлялась «разбойничьими законами», а «гетманское правление было самое адское», конец «подобным безпутствам» был положен «мудрыми указами и учреждениями» российских монархов, подчеркивая, что «без того монахи и вельможи поработили нас» и «нет в свете лучшего устройства (организации) государственного, как в России. Нет лучших людей, как русские» [Журба 2009, 187, 203].
На этом фоне обрусевший грек В.В. Капнист, чья семья тяжело инкорпорировалась в казацкую элиту Малороссии и, напротив, успешно вошла в имперское дворянство, занимал промежуточную позицию. С одной стороны, он идеалистически воспринимал историю малороссийского казачества, планируя привлечь внимание правительства, а с другой стороны, данная инициатива не была для Капниста политической ставкой, ради которой он готов был прилагать дополнительные усилия. Свою роль сыграло домашнее обучение на европейский манер и последующая социализация в имперской столице, а не в местных православных коллегиумах. В публичной сфере Капнист был известен исключительно как автор патриотических произведений, а его критические и сатирические сочинения имели поддержку в самых верхах и не носили национальной (украинской) направленности. Благодаря работам петербургского литературоведа К.Ю. Лаппо-Данилевского также показана химеричность приписанных Капнисту революционных (антироссийских) взглядов, а включение его в революционную организацию радищевского толка является историографическим фантомом [Лаппо-Данилевский 1989, 49–56].
В отличие от прослойки малороссиян, критически/нейтрально настроенных к казацкому прошлому Малороссии, великороссийские вельможи, военачальники и администраторы на уровне правительственных дискуссий оказались ключевыми трансляторами идеализированного образа малороссийского казака. Такой казак рассматривался в качестве чудо-оружия, не требовавшего серьезных вложений, мобилизуемого в кратчайшие сроки, чтобы дать отпор врагам империи. Правда, в этом образе смешались – малороссийский реестровый казак и запорожец-сечевик. Боевая слава реестровых казаков осталась в XVII в. во времена Б.М. Хмельницкого и его ближайших приемников. На их фоне запорожцы-сечевики, неизбалованные поддержкой государства, сохраняли свою боеспособность. В конце 1780-х годов стараниями Г.А. Потемкина они стали ядром нового черноморского казачества, влившегося затем в состав кубанского казачества. Усилиями этих казаков осваивалось Северо-Восточное Причерноморье и Кубань. Логично предположить, что к популяризации подобного образа неосознанно приложил руку именно Потемкин. Он активно занимался вербовкой в казаки и публично позиционировал себя в качестве казацкого гетмана, добившегося от благосклонной к нему императрицы указа именовать себя «Великим Гетманом Императорских Екатеринославских и Черноморских казачьих войск» (январь 1790 г.). При этом Потемкин считал идеальным примером казацкой организации Войско Донское. Тренд на идеализацию малороссийского казачества великороссийскими чиновниками продолжился в правление Павла I и особенно Александра I. Например, в кругу малороссийских генерал-губернаторов А.Б. Куракина (1802–1808) и Н.Г. Репнина (Волконского) (1816–1834) стала востребованной и популяризировалась романтизированная казацкая эстетика (сочинения И.П. Котляревского), легитимизировались спорные исторические образы (П.Л. Полуботок), распространялись анонимные памфлеты вроде «Истории русов», поддерживалось написание исторических сочинений («История Малой России» Д.Н. Бантыш-Каменского), в которых идеализировалось казацкое прошлое Малороссии и публично презентовались негативные смыслы, связанные с политикой российских властей в процессе интеграции региона и ликвидации казацкой автономии [Плохiй 2013; Конопка 2016; Лазарев 2023b]. Легитимизация и распространение идеализированного образа малороссийского казака позволила на правительственном уровне затушевать реальную историю малороссийского казачества (Войска Запорожского реестрового). В этой довольно грустной истории речь шла бы про то, как боевые и мобилизационные возможности казачества снижались в процессе социального расслоения, которое стремилось предотвратить российское правительство. Свершившаяся революция смыслов нашла отражение в публичном пространстве Российской империи и русской литературе, например, в произведениях Н.В. Гоголя. На страницах книг читатель познакомился с идеализированной Запорожской Сечью («Тарас Бульба») и историей малороссийского казачества, Г.А. Потемкиным-«гетьманом» в роли защитника и покровителя запорожских казаков («Вечера на хуторе близ Диканьки»). В рамках дискуссии выскажу предположение, что таким образом была подготовлена интеллектуальная почва для позитивного восприятия со стороны российской «прогрессивной» общественности трудов деятелей украинского национального движения – Т.Г. Шевченко, П.А. Кулиша и Н.И. Костомарова.
В приложении к статье впервые публикуется проект В.В. Капниста о формировании наемных казацких полков, а также ответы вице-канцлера А.А. Безбородко на мнение Г.А. Потемкина. Проект Капниста попал в поле зрения дореволюционного архивиста Н.И. Григоровича при работе с бумагами Кабинета Екатерины II. Судя по ссылкам, Григорович работал с делом, сейчас хранящемся в РГАДА (Ф. 10. Оп. 1. Д. 56). По невыясненным причинам Григорович не стал цитировать/публиковать мнение Потемкина, написанного рукой его секретаря В.С. Попова, а также ответы на него Безбородко. Публикация источников осуществляется согласно «Правилам издания исторических документов в СССР» 1990 г. в современной пунктуации и с сохранением основных стилистических особенностей буквами гражданского алфавита с заменой литер, вышедших из употребления, современными, обозначающими тот же звук.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
СИРИО – Сборник Императорского российского исторического общества
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Архив князя Воронцова. Кн. 13. М.: Тип. Лебедева, 1879. 502 с.
Григорович Н.И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. Т. 1. 1747–1787 // СИРИО. Т. 26. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1879. 687 с.
Григорович Н.И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. Т. 2. 1788–1799 // СИРИО. Т. 29. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1881. 752 с.
Державин Г.Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниям Я. Грота. СПб.: В тип. Императорской Академии наук, 1869. Т. 5. Переписка. 984 с.
Екатерина II и Г. А. Потемкин: Личная переписка, 1769–1791. М.: Наука, 1997. 989 с.
Записки, подносимые Ея императорскому величеству в 1788-м году от обер-полициймейстера Рылеева о приезжающих в Петербург и об отъезжающих // РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 534. Ч. 1а.
Капнист В.В. Собрание сочинений в 2 т. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. Т. 1. Стихотворения. Пьесы. 771 с.; Т. 2. Статьи. Письма. 630 с.
Львов Н.А. Избранные сочинения = Ausgewіahlte Werke. СПб.: Пушкинский дом, 1994. 417 с.
Мнение Г.А. Потемкина о проекте В.В. Капниста // РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 56. Л. 9.
О заведении в Киеве вновь Щелковаго завода, под надзиранием киевского дворянского предводителя Капниста // РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 226.
Ответы вице-канцлера графа А.А. Безбородко на мнение Г.А. Потемкина о проекте В.В. Капниста // РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 56. Л. 6.
Павловский К.Ф. Из переписки малороссийскаго генерал-губернатора князя А.Б. Куракина. Полтава: Элетрич. тип. Г.И. Маркевича, 1915. 64 с.
Положение, на каком может быть набрано и содержано войско охочих казаков // РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 56. Л. 3–5об.
Рубан В.Г. Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год. СПб.: Печ. при Артиллер. и инженер. шляхетн. кадетском корпусе, 1777. 242, 118 с.
About the authors
Y. A. Lazarev
Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: 9lazarev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6141-2215
Yekaterinburg
References
- Dashkevich Y.R. Berlin, kviten' 1791 r. Misija V.V. Kapnista. Ïï peredistorija ta istorija. Ukraїns'kij arheografіchnij shhorіchnik. 1992, vol. 1, pp. 220–260. (In Ukr.)
- Kijanskaja O.I. Ocherki iz istorii obshhestvennogo dvizhenija v Rossii v pravlenie Aleksandra I. St. Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2008, 301 p. (In Russ.)
- Kiselev M.A., Kochegarov K.A., Lazarev Y.A. Patrony, slugi i druz'ja: Russko-ukrainskie neformal'nye svjazi i upravlenie Getmanshhinoj v 1700–1760-h gg. Issledovanie i istochniki. Ekaterinburg, Izd-vo Ural'skogo universiteta Publ., 2022, 1244 p. (In Russ)
- Kohut Z.E The Ukrainian Elite of the Eighteenth Century and Its Intergration into the Russian Nobility. The Nobility in Russia and Eastern Europe. New Haven, Yale Concilium on International and Area Studies, 1983, pp. 65–97.
- Kohut Z.E Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate 1760s – 1830s. Cambridge, Harvard Ukrainian Institute, 1988, 363 p.
- Konopka N.O. Mikola Grigorovich Repnіn: diplomat, polіtik, urjadovec'. Ostrog; New York, 2016, 216 p. (In Ukr.)
- Kukushkina E.D. Materialy k biografijam V.V. Kapnista, N.V. Kapnista, M.I. Verevkina. XVIII, 2015, vol. 28, pp. 487–489. (In Russ.)
- Lappo-Danilevskij K.Yu. K voprosu o recepcii sobytij Velikoj Francuzskoj revoljucii v Rossii1790-h godov (V.V. Kapnist i ego blizhajshee okruzhenie). Russkaja literatura: istoriko-literaturnyj zhurnal, 1989, no. 3, pp. 49–56. (In Russ.)
- Lazarev Y.A. Idejnoe pole «nacional'nogo» intellektuala imperskogo perioda: vzgljady G. A. Poletiki (1725–1784) na «ukrainskuju gosudarstvennost'». Slověne, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 184–202. (In Russ.)
- Lazarev Y.A. «I vojska sii byli pri batalii Jegersdorfskoj i na drugih srazhenijah...»: malorossijskoe kazachestvo v kontekste voennyh mobilizacij i planov rossijskogo pravitel'stva v gody Semiletnej vojny. Rossija v global'nom konflikte XVIII veka: Semiletnjaja vojna (1756-1763) i rossijskoe obshhestvo. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2023, pp. 342–367. (In Russ.)
- Lazarev Y.A. Primer «potomkam vsej Rossii»: k istorii kul'ta P.L. Polubotka v Malorossii v pervoj chetverti XIX veka. Istorija Rossii s drevnejshih vremen do XXI veka: problemy, diskussii, novye vzgljady: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj shkoly-konferencii molodyh uchenyh, Moskva, 24–27 oktjabrja 2023 goda. Moscow, Institut Rossijskoj istorii RAN, 2023, pp. 105–113. (In Russ.)
- Matjah V.M. Kapnist Vasil' Vasil'ovich. Enciklopedіja іstorіi Ukraїni: T. 4: Ka-Kom. Kiev, V-vo «Naukova dumka» Publ., 2007, p. 96. (In Ukr.)
- Ohloblyn O. American Revolution and Ukrainian Liberation Ideas During the Late 18th Century. The Ukrainian Quarterly, 1955, vol. XI, no. 3, pp. 203–212.
- Ogloblin O.P. Ljudi Staroj Ukraini. Munich, 1959. 328 p.
- Plohij S. Kozac'kij mif. Istorija ta naciєtvorennja v epohu imperij. Kiїv, 2013, 440 p.
- Zhurba O.I. «Predstavte vy sebe, kakoj zver' byl Getman! Jeto byli prenechestivye despoty!» (z lista svidomogo ukraїns'kogo patriota, avtonomista ta tradicionalista pochatku XIX stolittja). Dnіpropetrovs'kij іstoriko-arheografіchnij zbіrnik, 2009, vol. 3, pp. 161–220.