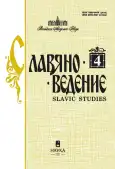Венгерская историческая социопрагматика: основные векторы развития
- Авторы: Афанасьева С.А.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2025)
- Страницы: 146-157
- Раздел: Сообщения
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350843
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040124
- EDN: https://elibrary.ru/VASBTE
- ID: 350843
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена актуальным венгерским исследованиям по исторической социопрагматике, развивающимся в русле традиции, выработанной на западноевропейском, прежде всего, англоязычном материале. В работе терминологически разграничиваются понятия «прагматика», «социопрагматика» и «историческая (социо)прагматика», а также прослеживается, каким образом в венгерской науке в последние десятилетия произошел переход от традиционного подхода к функционально-прагматическому, в рамках которого больше внимания уделяется контексту. Специфика венгерских исследований обуславливается материалом: так, на базе врачебных рецептов, лечебников, письмовников изучаются исторический синтаксис и грамматикализация дискурсивных маркеров, а на основе частных писем дворян и протоколов процессов над ведьмами, иллюстрирующих речь разных слоев населения, исследуются социопрагматические аспекты, в частности, категория вежливости и формы обращения в ее рамках, т.е. показывается, как на выбор той или иной формы влияет личный, социальный и культурный контекст, а также какие именно формы обращения считаются вежливыми в конкретную эпоху. В целом, традиция изучения исторической социопрагматики в Венгрии сравнительно молода, но перспективна с учетом публикации большого корпуса исторических текстов и параллельного роста числа исследований в других европейских странах.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Объектом настоящего исследования являются венгерские работы по исторической (социо)прагматике, которая претерпела в последние десятилетия существенную эволюцию, превратившись из предмета эпизодического интереса отдельных историков языка в полноценную перспективную научную дисциплину. Попытки включения прагматики в круг исследований по исторической лингвистике появились в Венгрии с начала 2000-х годов, и в целом они следуют в фарватере европейской и американской науки, которая с 1990-х годов характеризуется массовым интересом к прагматике в противовес господствовавшему ранее сугубо грамматическому подходу к описанию языковых явлений. Я постараюсь проследить путь становления исторической социопрагматики в Венгрии как самостоятельной дисциплины, выявить основной круг проблем, который рассматривается в рамках данного научного направления и наметить основные векторы его развития, отдавая себе отчет, что процесс формирования венгерской традиции социопрагматических исследований еще далек от завершения.
Первый раздел работы будет посвящен англо-американским исследованиям по исторической социопрагматике. В нем будет охарактеризовано содержание понятий «прагматика», «социопрагматика» и «историческая (социо)прагматика», а также разные подходы к этим областям науки у разных ученых.
Во втором разделе статьи будут кратко рассмотрены венгерские исследования, посвященные разным аспектам прагматики исторических текстов, прослежен процесс их изменения, а также указаны основные типы источников венгерского исторического материала.
В третьей части работы в центре внимания категории вежливости, исследования которой, являясь «частным случаем» социопрагматических описаний, тем не менее могут быть выделены в отдельную область, поскольку в Венгрии в последние годы пласт работ был посвящен именно им.
1. Англо-американские исследования
В связи с тем, что переход к прагматическим исследованиям произошел относительно недавно и единого варианта терминологии выработано не было, перед обзором непосредственно венгерских исследований по исторической социопрагматике кажется оправданным коротко описать некоторые англоязычные работы, в которых объясняются как используемые термины, так и подходы к их наполнению.
Определения термина прагматика варьируются от максимально лаконичных «изучение языка в его использовании» [Jucker 1995, ix] до образных «большая, рыхлая и неорганизованная совокупность исследовательских усилий» [Verschureren 1987, 4]. Выделяется два подхода к интерпретации термина: более широкий «континентальный европейский» и более узкий «англо-американский» [Culpeper 2010, 71].
Широкий подход предполагает, что прагматика включает в себя в качестве подобластей лингвистику, социологию и психологию. В таком случае прагматика рассматривает языковой феномен только в актуальном использовании, учитывая при этом социальный контекст. При этом подходе излишним оказывается термин социопрагматика, поскольку считается, что в понятие прагматики уже входит социальный компонент, и объяснить разницу между двумя терминами оказывается затруднительно.
«Англо-американский» подход, напротив, предполагает вычленение социопрагматики в качестве отдельной дисциплины. В основополагающей работе «Основания теории знаков» Чарльз Уильям Моррис [Morris 1938, 6–7] прослеживает различия между синтаксисом, предметом которого являются «моноотношения» языковых знаков, семантикой, исследующей дуальные отношения между языковым знаком и его означаемым, и прагматикой, которая, помимо знака и предмета, который он обозначает, учитывает также роль пользователей и интерпретаторов знака. В данном случае социальный контекст не является априори предметом изучения в рамках обозначенной дисциплины. В работе Джеффри Лича [Leech 1983, 10–11] выделяется социопрагматика как один из подвидов, учитывающий «более конкретные “локальные” условия использования языка», не названные при этом прямо. Дж. Лич отмечает, что социопрагматика связана с социологией, является «социологическим интерфейсом» прагматики, поскольку «очевидно, что принцип сотрудничества и принцип вежливости действуют по-разному в разных культурах или языковых сообществах, в разных социальных ситуациях, среди разных социальных классов и т.д.», вследствие чего «прагматические описания в конечном итоге должны быть связаны с конкретными социальными условиями» [Leech 1983, 10].
К социопрагматике часто обращаются при исследовании взаимодействия языка и культуры. В работе Джонатана Калпепера [Culpeper et al. 2008, 320] приводится схема, на которой показаны разные «степени абстракции, используемые в описании межкультурных прагматических отношений» в направлении от микроуровня к макроуровню. Так, внизу находится лингвистическое описание, которое имеет дело с грамматическими и синтаксическими средствами и не учитывает контекст, далее следуют три контекстуальных описания: прагматическое, которое фокусируется на намерениях говорящего и восприятии высказывания слушающим, описание социальной ситуации, учитывающее роли и отношения участников речевого акта, наконец, на макроуровне расположено культурное описание, содержащие наиболее общие контекстуальные данные, такие как пол, возраст, национальность, имеющие отношение к системам убеждений разных речевых групп.
Дж. Калпепер приходит к выводу, что cоциопрагматика должна заниматься в первую очередь, хотя и не исключительно, средним контекстуальным уровнем, исследователь связывает микроуровень с вниманием к лингвистическим элементам и макроуровень с его ориентацией на социологию и культуру. Он отмечает: «Социопрагматика занимается любым взаимодействием между конкретными аспектами социального контекста и частным использованием языка, что приводит к прагматическим значениям. Ее основное внимание уделяется использованию языка в его ситуативном контексте и тому, как эти ситуационные контексты порождают нормы, которые участники применяют или используют в прагматических целях» [Culpeper 2010, 76].
Определение исторической прагматики зачастую сводится к переносу понятия современной прагматики на исторический контекст. Андреас Якобс и Андреас Юкер отмечают: «Историческая прагматика занимается изменениями в языковой структуре, возникающими в результате изменения коммуникативных потребностей, вызванных изменениями в социальной структуре» [Jacobs, Jucker 1995, 6]. По выражению Ника Николаса, историческая прагматика – это «брачный союз исторической лингвистики и прагматики, применяющий методы и проблемы прагматики к диахроническим лингвистическим данным», при этом брак «проблематичный» из-за очевидной разницы между «методологиями и фокусами двух областей» [Nicholas 1998, 165]. По его словам, одна из областей регулярно доминирует над другой.
А. Якобс и А. Юкер [Jacobs, Jucker 1995] выделяют два подхода к исторической прагматике. Прагмафилология изучает прагматические аспекты исторических текстов в их социокультурном контексте коммуникации, то есть учитывает социальные и личные отношения отправителя и адресата, цели текста, физический и социальный фон его создания и восприятия [Ibid., 11]. По словам Н. Николаса, в этом случае прагматика выступает вперед, и исторические данные подвергаются анализу для выявления культурных и социальных параметров [Nicholas 1998, 165]. Здесь также необходимо отметить, что слова «исторический» и «диахронный» в этом случае не стоит употреблять как синонимы, поскольку прагмафилология, как правило, рассматривает исторические тексты в их синхронном срезе для выявления социокультурного контекста эпохи, в которую они были созданы.
Другой поход называется диахронической прагматикой, в его рамках изучается историческое развитие прагматических элементов [Jacobs, Jucker 1995, 13]. Диахроническую прагматику авторы делят на два вида, в зависимости от того, что выступает основанием для сравнения. Метод «от формы к функции» прослеживает изменения значения и применения лингвистической формы, например, дискурсивные или прагматические маркеры. В методе «от функции к форме» в качестве объекта для сравнения в разные эпохи, напротив, выступает лингвистическая функция, например, выражение вежливости, которое активно исследуется в последние годы, в частности, в венгерском языкознании, о чем будет сказано ниже.
Дж. Калпепер отмечает, что граница между прагмафилологией и диахронической прагматикой часто оказывается размыта, и области исследования пересекаются. При этом в рамках обоих подходов можно изучать и историческую социопрагматику, поскольку прагмафилология предполагает изучение языковых особенностей по отношению к жанру, который является контекстуальным понятием среднего уровня, а диахроническая прагматика подразумевает, что для объяснения изменений в функциях языковых единиц, жанров, речевых актов, вежливости и т.д. необходимо также выявить сопутствующие сдвиги в социально-историческом контексте [Culpeper 2010, 79–80]. В работе Д. Арчера и Дж. Калпепера [Archer, Culpeper 2003, 261] предлагается еще один методологический подход для изучения исторической социопрагматики, названный авторами социофилологией, который следует от контекста к функции или форме, «описывая или отслеживая, как исторические контексты, включая сотекст, жанр, социальную ситуацию и/или культуру, формируют функции и формы языка, которые имеют место внутри них».
Большинство исследований по исторической (социо)прагматике выполнено на материале романских и германских языков, прежде всего английского [Jacobs, Jucker 1995, 4]. А. Юкер называет число работ по истории английского языка «непропорционально большим», отмечая при этом, что важные работы были выполнены и на материале других, менее изученных языков, китайского, русского и других восточнославянских, санскрита, голландского [Jucker 2006, 330].
2. Венгерские исследования
В венгерском языкознании интерес к изучению социопрагматики начал расти с 1990-х гг. под влиянием ставших более доступными англоязычных исследований, число которых также выросло в этот период. Появились работы, свидетельствующие об отклонении от традиционного подхода, ориентированного исключительно на грамматику, в сторону изучения языка в использовании, обязательно учитывающего контекст. О возможности применения социолингвистического подхода к венгерскому историческому и диалектному материалу заявляли историки языка и диалектологи Эржебет Зеллигер [Zelliger 1999; Zelliger 2003] и Дежё Юхас [Juhász 2002]. По мнению венгерской исследовательницы Жофии Шароши, прагматический подход к историческому материалу необходим, но он должен не заменять традиционный системно-ориентированный подход к истории языка, а дополнять его, что дает «великолепную возможность перемещаться между двумя парадигмами, двумя лингвистическими подходами» [Sárosi 2003, 446–447].
Специфика венгерской традиции обусловлена самим материалом, которым оперируют в своих исследованиях местные ученые. Дефицит источников не позволяет автоматически перенести методы современной прагматики на исторический материал, поскольку прагматика, как правило, имеет дело с разговорной речью, а живая речь прошлых веков не подвергалась звуковой фиксации. Поэтому данные для исследований по исторической социопрагматике исследователи берут из протоколов судебных заседаний, административных документов, старых учебников, завещаний, а также пьес и другой художественной литературы, которая в Средневековье была «более реалистична», чем современная [Jacobs, Jucker 1995, 7]. При этом источники, как правило, расцениваются не как «несовершенная имитация реального, то есть разговорного языка, а скорее как автономные воплощения коммуникации» [Sárosi 2003, 444]. Развитию венгерских исследований речи прошлых веков в немалой степени способствовали публикации переписки аристократов и протоколов судебных заседаний процессов над ведьмами XVI–XVII вв., которые стали основными источниками для работ по исторической социолингвистике и социопрагматике.
Часть многочисленных исследований, проведенных на основе этих и других источников, «хотя и содержат прагматические критерии, в первую очередь подходят к предмету не со стороны социопрагматики», т.е. демонстрируют более традиционный подход, который представляет язык как систему и не выходит за ее рамки, в то время как социопрагматический подход учитывает контекст и функцию языкового явления в его рамках [Sárosi 2003, 437–438]. К таким исследованиям относятся, например, работы выдающегося венгерского лексикографа и этимолога Ференца Пустаи [Pusztai 1999] и специалиста по ономастике Пирошки Гергей [Gergely 2002], где предметом анализа служит разговорный средневенгерский язык, и посвященная ругательствам в старых венгерских текстах работа Ласло Галгоци [Galgóczi 1988], который специально изучал проявления языковой агрессии в синхронии и диахронии. В связи с этим круг работ по венгерской исторической социопрагматике, приводимый ниже и далеко не исчерпывающий, ограничивается указанным подходом, поскольку задача перечислить все исследования по истории венгерской разговорной речи и ее аспектам кажется избыточной и невыполнимой в рамках статьи.
В работе Л. Хаадер [Haader 2004] представлена попытка применения прагматического подхода к историческому синтаксису. Автор исследует, как определяется прагматическими причинами выбор между придаточными условными и временными в поваренных книгах и лечебниках, причастными оборотами и придаточными предложениями в переводах церковных книг, а также указывает на обилие в легендах придаточных степени. В свою очередь, синтаксис, на который влияет использование языка, может стать источником новых грамматических изменений, таким образом интегрируются историческая грамматика и прагматика.
Работы исследовательниц Чиллы Дер, Адриенн Дёмётёр и Аниты Ширм [Dér 2008; Dér 2016; Dömötör 2008; Dömötör 2013; Schirm 2011] посвящены грамматикализации дискурсивных маркеров с экскурсом в их историю, поскольку проследить историю грамматикализации тех или иных выражений на базе исключительно венгерского современного материала иногда затруднительно, и необходимо обращаться к текстам прошлых веков, в том числе переводным с немецкого или латыни, поскольку многие дискурсивные маркеры представляют собой кальки с этих языков.
В рамках функционально-прагматического подхода разбирались такие исторические тексты, как врачебные рецепты XVI–XVII вв. [Kuna 2011] и письмовники ХIХ в. [Csontos 2012]. Следует упомянуть также работы Н. Чонтош, С. Татраи и А. Дёмётёр [Csontos, Tátrai 2008; Dömötör 1988; Dömötör 2002], где в рамках этого подхода рассматривается цитирование в текстах XV–XVIII вв.
Перечисленные выше труды венгерских исследователей являются примерами исторической прагматики без выраженного социального компонента, что обусловлено характером исследуемых текстов.
Целый пласт работ посвящен разбору процессов над ведьмами XVI–XVIII вв., поскольку в них «сохранился повседневный языковой узус очень широких низших слоев средневенгерского общества» [Balázs 2006, 159]. Их прагматические особенности описаны в диссертации М. Варги [Varga 2019], в работе Э. Коош [Koós 2008] исследуются разные способы выражения запросов (просьбы, жалобы, принуждения, пожелания) в ходе процессов, а статья Э. Ийефалви [Ilyefalvi 2010] посвящена угрозам, исходящим от ведьмы или ее жертвы. Автор приходит к выводу, что угроза, произнесенная ведьмой, считалась перлокутивным актом, а те же слова, произнесенные потерпевшим, не воспринимались как реально осуществимые в силу особого отношения к институту колдовства.
В ряде работ по социопрагматике исследуются частные письма XVI–XVII вв., написанные знатью и иллюстрирующие, в отличие от протоколов процессов над ведьмами, речь совершенно иных, более высоких кругов. Так, например, работа А. Хегедюша [Hegedűs 2017] посвящена выражению просьбы в частной переписке XVI в., где просьбы характеризуются избыточным, на современный взгляд, повторением их обоснования.
Работа П. Майца [Maitz 2008] представляет собой анализ пропаганды «овенгеривания» иностранных, прежде всего немецких, фамилий во второй половине XIX в. В рамках господствовавшей тогда идеологии «национального имени» носителей невенгерских фамилий побуждали к их изменению, «овенгериванию» для принятия в «национальное сообщество». При этом задачей пропаганды было не принудить, а путем манипуляций убедить людей, что «овенгеривание» немецкой фамилии – это их личный единственный политически и морально приемлемый выбор.
Таким образом, если в более ранний период в Венгрии к социопрагматической проблематике эпизодически обращались в основном диалектологи и историки языка, изучающие речь прошлых веков, оставаясь при этом в русле традиционного подхода, то в последние годы появились ученые, для которых исследование (социо)прагматики на историческом материале находится в фокусе внимания, их работы строятся на функционально-прагматическом подходе и ориентируются на достижения западноевропейской науки.
3. Категория вежливости
Обилие частных писем венгерских дворян XVI–XVII вв. предоставляет возможность для изучения категории вежливости и в рамках нее форм обращения. Здесь венгерская традиция также следует в русле западноевропейской.
Согласно Даниелю Кадару и Майклу Хоу, понятие вежливости не ограничивается традиционными актами языкового этикета, ее охват гораздо шире, туда включаются «все типы межличностного поведения, посредством которых мы учитываем чувства других относительно того, как, по их мнению, к ним следует относиться, вырабатывая и поддерживая наше чувство индивидуальности, а также наши межличностные отношения с другими» [Kádár, Haugh 2013, 1].
В исследовании вежливости выделяется три этапа, перечисленные в статье Ж. Шароши [Sárosi 2015а, 136–137]. Первый, «классический», тогда в соответствии с социальной психологией 1970-х гг., внимание фокусировалось на прагматических намерениях говорящего. Второй, «дискурсивный», относящийся к 2000-м, в это время уделялось больше внимания социокультурному контексту и восприятию слушателя. На третьем, «постдискурсивном» этапе, вежливость понимается как «межперсональное отношение», она подчеркивает важность конкретной оценки и возможность различных интерпретаций вежливости даже одним и тем же человеком. Эта точка зрения представлена в работах Дж. Калпепера [Culpeper 2011, 428] и Д. Кадара и М. Хо [Kádár-Haugh 2013, 104].
Целями исторических исследований вежливости являются описание и сравнительный анализ (не)вежливости в историческом контексте, исследование изменений в вежливости и изменение или создание теорий и рамок исторической вежливости [Kádár, Culpeper 2010, 13]. Предметом исследования являются, с одной стороны, вежливые и невежливые речевые действия, практика вежливости, а с другой стороны, исторически и социокультурно сконструированная и в силу этого постоянно меняющаяся концепция вежливости. При этом наряду с универсальными принципами вежливости существуют принципы, зависящие от конкретной культуры и сообщества [Szili 2007, 14].
В Венгрии понятие вежливости на историческом языковом материале исследует Жофия Шароши, которой принадлежит также ряд упомянутых выше статей о переходе к прагматическому подходу в венгерской исторической лингвистике. Как уже было сказано, основным материалом для исторических исследований вежливости являются письма знати и протоколы процессов над ведьмами.
К примеру, формирование системы обращений «на ты» и «на вы» и их варьирование в текстах XVI–XVIII вв. в работах М. Кертеса, Ф. Пустаи, Б. Юрёгди, Ю. Балаж [Kertész 1932; Pusztai 1967; Ürögdi 1998; Balázs 2006] исследуются с традиционной точки зрения, внимание уделено больше изменению системы обращений со временем, механизму ее формирования (включая не только местоимения, но и выражения типа «ваша милость»), ее формальным признакам (глагол во втором лице при обращении «на ты» и в третьем лице при обращении «на вы»).
В статье Ж. Шароши [Sárosi 2015b], напротив, обращения как в письмах дворян, так и в протоколах судебных заседаний, которые отражают речь более низких слоев населения, разбираются в рамках прагматического подхода. Шароши фокусируется на причинах мены обращений и приходит к выводу, что, помимо традиционного представления о сокращении/увеличении дистанции, сформулированного в работах Р. Брауна и А. Гилмана [Brown, Gilman 1968] и П. Браун и С. Левинсона [Brown, Levinson 1987], большую роль играет эмоциональная вовлеченность говорящего, которую необходимо исследовать в каждом акте отдельно с опорой на контекст, поскольку, например, положительные и отрицательные эмоции могут оказывать разное влияние на выбор обращения, не всегда напрямую совпадающее со сближением или дистанцированием собеседников [Sárosi 2015b, 298].
В другой, более ранней работе [Sárosi 1988] исследовательница на примере очень ограниченного корпуса писем представителей знатной семьи демонстрирует важность контекста при анализе обращений, поскольку в ряде случаев именно переход на «ты», отсутствие обращения, изменение титула при обращении являются не прямым средством выражения на письме эмоционального состояния отправителя. Так, дворянин Пал Телегди в одном из писем своей жене Кате Варда не выражает напрямую недовольства ее проступком, однако отсутствие ласкового обращения, неизменно присутствующего в остальных письмах, указывает на его гнев [Sárosi 1988, 845–846]. Кроме того, свою роль может сыграть также пол адресата (что частично обусловлено большим количеством вариантов именования замужних женщин в венгерском языке), поэтому появляются работы, например, Л. Немет [Németh 2014], посвященные именно обращениям к женщинам в исторических текстах.
4. Заключение
Таким образом, если на более ранних этапах исследования по исторической социопрагматике охватывали практически исключительно английский языковой материал, то в настоящее время наблюдается обращение к изучению социопрагматики на исторической базе и в других европейских странах, в частности, в Венгрии, и таким образом может быть заполнена определенная лакуна в национальной исторической науке. Если на начальных этапах формирования традиции изучения социопрагматики в Венгрии ею спорадически занимались историки языка, то к настоящему времени в венгерской лингвистике появились новые специалисты, и их число возрастает. Традиция изучения исторической социопрагматики в Венгрии, как и в других странах, довольно молода, но активно развивается, чему способствует немалое количество доступного и опубликованного материала для исследования, прежде всего писем и протоколов процессов над ведьмами. Эти два основных типа источников отражают речь разных социальных слоев, что дает хорошую возможность для сравнения.
Несмотря на обилие источников, лишь меньшая их часть была изучена в рамках прагматического подхода, поэтому перспективным представляется исследование социопрагматических аспектов писем венгерских дворян, государственных и церковных деятелей, а также деловых и судебных документов, письмовников, лечебников и других текстов, содержащих инструкции.
Помимо расширения круга привлекаемых источников, дальнейшая исследовательская работа в этом русле предполагает сравнение венгерских данных с данными других европейских языков, поскольку в последнее время не только в Венгрии, но и в других странах растет число социопрагматических исследований исторических текстов на национальных языках.
Об авторах
С. А. Афанасьева
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: timerina58@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6316-0103
Москва, Российская Федерация
Список литературы
- Archer D., Culpeper J. Sociopragmatic annotation: New directions and possibilities in historical corpus linguistics // Corpus linguistics by the lune: A Festschrift for Geoffrey Leech, P. Lang Publ., 2003. Pp. 37–58.
- Balázs J. A boszorkányperek megszólításformái: keresztnévi megszólítások // 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum, 2006. Pp. 157–162.
- Brown R., Gilman A. The pronouns of power and solidarity. Readings in the sociology of language. Hague: Mouton, 1968. Pp. 252–275.
- Brown P., Levinson S. Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.
- Csontos N., Tátrai Sz. Az idézés pragmatikai megközelítése // Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. 22, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. Pp. 59–119.
- Csontos N. Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben // Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME Publ., 2012. Pp. 15–221.
- Culpeper J., Crawshaw R., Harrison J. “Activity types” and “discourse types”: Mediating “advice” in interactions between foreign language assistants and their supervisors in schools in France and England // Multilingua, vol. 27. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. Pp. 297–324.
- Culpeper J. Historical sociopragmatics // Historical Pragmatics. Handbooks of Pragmatics, vol. 8. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010. Pp. 69–96.
- Culpeper J. Politeness and impoliteness // Pragmatics of society. Berlin: Mouton de Gruyter, 2011. Pp. 391–436.
- Dér Cs. Grammatikalizáció // Nyelvtudományi Értekezések, vol. 158. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 149 p.
- Dér Cs. A szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata // Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. Pp. 474–485.
- Dömötör A. A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben // Magyar nyelv, vol. 84 (3). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. Pp. 283–295.
- Dömötör A. Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején // Magyar nyelv, vol. 98 (1). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. Pp. 56–74.
- Dömötör A. A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő // Magyar nyelv, vol. 104, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. Pp. 427–442.
- Dömötör A. Idéző szerkezetből diskurzusjelölő elem: a mondván szerepei és története // Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában, vol. 3. Budapest: ELTE Publ, 2013. Pp. 20–30.
- Galgóczi L. Régi magyar káromkodások // A magyar nyelv rétegződése, vol. 1. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. Pp. 350–357.
- Gergely P. A közéleti és a beszélt nyelv viszonya az erdélyi fejedelemségben // Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet: Előadások a V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen: Debreceni Egyetem Publ., 2002. Pp. 187–199.
- Haader L. Változások a történeti szintaxisban – pragmatikai háttérrel // Magyar Nyelvőr, vol. 128 (4). Budapest: ELTE BTK Publ., 2004. Pp. 464–469.
- Hegedűs A. Adalék a kérés pragmatikájához – egy 16. századi magánlevél kapcsán // Jelentés és nyelvhasználat, vol. 4. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Publ., 2017. Pp. 27–33.
- Ilyefalvi E. «[…] akar mi lellyen benneteket mingyart Emberre gyanakoztok». Boszorkányfenyegetések pragmatikai elemzése // XI. Rodosz konferenciakötet. Kolozsvár: Clear Vision, 2010. Pp. 75–92.
- Jacobs A., Jucker A. The Historical Perspective in Pragmatics // Historical Pragmatics. Pragmatic development in the history of English. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publ., 1995. Рp. 3–35.
- Jucker A. (ed.) Historical pragmatics. Pragmatic development in the history of English. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publ., 1995. 639 p.
- Jucker A. Historical pragmatics // Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, 2006. Рp. 329–332.
- Juhász D. Magyar nyelvjárástörténet és történeti szociolingvisztika: tudományszemléleti kérdések // Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet: Előadások a V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen: Debreceni Egyetem Publ., 2002. pp. 165–72.
- Kádár D., Culpeper J. Historical (Im)politeness. An Introduction // Historical (Im)politeness. Bern: Peter Lang Publ., 2010. Рp. 9–37.
- Kádár D., Haugh M. Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 295 p.
- Kertész M. Szállok az úrnak. Az udvarias magyar beszéd története. Budapest: Révai, 1932. 231 p.
- Koós E. A kérés beszédaktusa boszorkánypereinkben // Féluton, vol. 4. Budapest: ELTE BTK Publ., 2008. Рp. 1–13.
- Kuna Á. A 16-17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben. Doktori disszertáció / Budapest: ELTE BTK Publ., 2011. 128 p.
- Leech G. Principles of pragmatics. Harlow: Longman, 1983. 263 p.
- Maitz P. “A szent ügy”. A dualizmus kori névmagyarosítási propaganda nyelvészeti elemzése // Névtani Értesítő, vol 30. Budapest: ELTE, 2008. Рp. 7–33.
- Morris Ch. Foundations of the Theory of Signs // International Encyclopedia of Unified Science, vol. 1 (2). Chicago: The University of Chicago Press, 1938. Рp. 1–59.
- Németh L. A nők megszólításának kérdése a Magyar Nyelvőr korai évfolyamaiban // Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. Féluton, vol. 4. Budapest: ELTE BTK Publ., 2014. Рp. 13–28.
- Nicholas N. Review of Jucker A. (ed.) Historical pragmatics. Pragmatic development in the history of English // Diachronica. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publ., 1998. Рp. 1–7.
- Pusztai F. Tegezés és magázás a XVIII. század első felében // Magyar Nyelv, vol. 63. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. Рp. 297–307.
- Pusztai F. Beszélt nyelv a középmagyarban // Névtani Értesítő, vol. 21. Budapest: ELTE BTK Publ., 1999. Рp. 380–386.
- Sárosi Zs. Megszólítás és említés néhány XVI. századi misszilisben // A magyar nyelv rétegződése, vol. 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. Рp. 841–848.
- Sárosi Zs. Történeti szociopragmatika: magyar nyelvtörténet más megközelítésben // Magyar Nyelv, vol. 99 (4).
- Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. Рp. 434–448.
- Sárosi Zs. Pragmatika, szociopragmatika, udvariasságkutatás a magyar nyelvtörténetben // Magyar Nyelv, vol. 111 (2). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015a. Рp. 129–147.
- Sárosi Zs. Grammatikai mechanizmus vagy pragmatikai döntés?: Tegezés és magázás váltogatása középmagyar kori szövegekben // A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Publ., 2015b. Рp. 291–300.
- Schirm A. A diszkurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján. Doktori disszertáció / Szeged: SZTE BTK Publ., 2011. 162 p.
- Szili K. Az udvariasság pragmatikája // Magyar Nyelvőr, vol. 131. Budapest: ELTE BTK Publ., 2007. Рp. 1–17.
- Ürögdi B. A magázás kialakulása XVI–XVIII. századi misszilisek alapján / Szakdolgozat. Budapest: ELTE BTK Publ., 1998.
- Varga M. Középmagyar kori világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra. Doktori disszertáció / Budapest: ELTE BTK Publ., 2019, 265 p.
- Verschureren J. Understanding Pragmatics. London: Arnold, 1999. 309 p.
- Zellinger E. Gondolatok a magyar nyelvtörténet szociolingvisztikai szempontú megközelítéséhez // Magyar Nyelvjárások, vol. 38. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 1999. Рp. 505–512.
- Zellinger E. Történeti szociolingvisztikai vizsgálatok a „Húsvéti Népének” kapcsán // Magyar Nyelvjárások, vol. 41. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2003. Рp. 675–684.