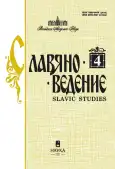On the Sources of Slovo na Pogrebenii Archiereia by Simeon Polotskij
- Authors: Korzo M.A.1
-
Affiliations:
- RAS Institute of Philosophy
- Issue: No 4 (2025)
- Pages: 132-145
- Section: Essays
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350842
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040119
- EDN: https://elibrary.ru/VAQNVT
- ID: 350842
Full Text
Abstract
The given study aims at identifying the sources of the ‘sample’ sermon ‘Word on the burial of the archbishop’ (Slovo na pogrebenii archiereia) from Simeon Polotskij's collection of sermons Spiritual Supper (Vecheria Dushevnaia, 1683). The Word is an impersonal version of the sermon compiled by Simeon on the death of Paul, Metropolitan of Sarsk and Podonsk (1675); as a ‘sample’ devoid of biographical details it is included in the Spiritual Supper at the second stage of work on the book (Sate Historical Museum, Synodal Collection № 657). The structure of the main part of the Word is set by the five temptations of the devil to which a Christian is subjected on the deathbed. Having characterised the temptations in the introductory part of his seron, Simeon describes the biography of the deceased hierarch according to this five-part scheme. The plot of the devil’s temptations goes back to Catholic treatises of the genre of ‘ars bene moriendi’, which developed during the 15th century. The absence in Simeon’s version of the temptations of the theological argumentation and consolations of angels, inherent in treatises of this genre, allowed us to suggest that Simeon does not refer directly to the works of the ‘good death’, but uses some kind of intermediary text. An analysis of Simeon’s library collection, as well as the underlines and marginal notes left by Simeon in the books, has shown that such an intermediary text for him was the collection of the Cracow canon Szymon Starowolski's Arch of the Covenant (Arka Testamentu, Cracow, 1649).
Full Text
Вместо введения
Симеон Полоцкий был безусловно первым в московских пределах церковным автором второй половины XVII в., в письменном наследии которого сохранились приуроченные к погребению «образцовые» или формулярные проповеди. Самые ранние опыты такого рода поучений восходят еще к до-московскому периоду жизни Симеона: датируемая мартом–июлем 1653 г. рукописная польско-латинская практическая риторика «Rhetorica practica» включает среди прочего около двадцати похоронных «образцов» светского содержания на смерть короля, сенатора, маршалка, воина, старика, молодого человека, женщины и других лиц (раздел «Praxis de funebrali oratione»). Зачастую после слов стоит пометка «dixi», означающая, скорее всего, что та или иная орация была действительно прочитана в классе риторики. Раздел похоронных речей «Практической риторики» Симеона по своему составу схож с аналогичными параграфами рукописных риторических пособий, которые использовались в пределах Речи Посполитой как в католической, так и в православной среде. В единичных случаях «образцовые» поучения на погребение помещались в приложении к рукописным учебникам поэтики: епископ Феодосий Василевич-Баевский, преподававший в 1647–1648 гг. в Киево-братской коллегии, включил в свой курс около двадцати «образцов» на польском языке, предпослав им краткие латинские предисловия.
Источником вдохновения для «Практической риторики» Симеона могли послужить не только «образцы» в составе школьных курсов риторики и поэтики. В Речи Посполитой XVII в. были широко распространены рукописные коллекции ораций светского содержания, в том числе и на траурные церемонии. Из них чаще всего составляли тематические сборники, но отдельные речи включались также в состав сборников смешанного содержания, своего рода домашних настольных энциклопедий. В процессе копирования орации зачастую обезличивались и превращались в тексты-образцы, некоторые из них как в первоначальном виде, так и в обезличенном попали впоследствии в печатные издания [Barłowska 2010]. В библиотеке Симеона указаны два опубликованных сборника такого рода, которые генетически связаны между собой: «Spiżarnia actow rozmaitych» Марчина Филиповского (без года издания) и «Orator polityczny» Казимира Яна Войшнаровича 1648 и 1677 гг. [Simeon Polockij’s Library 2005, 135, 151–152].
Единичные погребальные слова, присутствующие в проповеднической практике Симеона уже в московских пределах, вошли в состав сборника поздравительных речей и приветствий. Исследователи склонны рассматривать этот сборник как своего рода аналог «Практической риторики», который составлялся с учетом московских реалий [Sazonova 2013, XXX]. В «Книгу приветствий» включены ряд формулярных завещаний и тексты настоящих «духовных», составленные Симеоном в разные годы для патриарха Московского Питирима, митрополита Рязанского Илариона, митрополита Сарского и Подонского Павла, боярина Богдана Матвеевича Хитрово. Преамбулы этих завещаний представляют собой развернутые рассуждения о бренности человеческой природы и о неотвратимости смерти; этот материал вполне мог служить образцом для составления погребальных ораций.
Девять «образцовых» погребальных поучений вышли из печати уже после смерти Симеона в сборнике на годичные праздники «Вечеря душевная» (1683). Слова на погребение «честнаго человека», «мужа сановита», «мужа честнаго», «воинскаго человѣка», «мужа благоговѣйнаго» (три поучения), «честныя жены» и «архïереа» помещены после праздничной части в составе приложения с отдельной пагинацией, в котором собраны тематические слова, не привязанные к церковному календарю. «Образцы», кроме слова по случаю кончины архиерея, расположены компактно и выстраиваются по схожему плану: краткое вступление, основное развитие темы (зачастую только формально связанное с выбранным Симеоном в качестве мотто библейским фрагментом), часть биографическая (именно она подлежала модификации под конкретный случай), и так называемое последнее целование, которое усопший давал родным и близким, также участникам похорон. Все слова объединяет значительное число пересекающихся сюжетов, которые намечаются в одной проповеди, а развиваются в других; Симеон, за единичными исключениями, не дублирует цитаты из богословских сочинений, нравоучительные примеры, отсылки к нравам древних народов, к образам животных, крылатые выражения и т.п.
Принято считать, что по крайней мере три «образцовых» поучения восходят к реальным проповедям, но были обезличены для «Вечери душевной», хотя и на разных этапах ее собирания. Два поучения составлялись Симеоном для архимандрита московского Богоявленского монастыря Амвросия (Савицкого): «Слово на погребенïи честнаго человека» и «Слово на погребенïи честныя жены». В автографе в обоих случаях над поучениями надписано «Ambrosio». В центре настоящего исследования будет третье «образцовое» поучение – «Слово на погребенïи архïереа», переделанное из проповеди, произнесенной самим Симеоном Полоцким.
Включение «образцов» в «Вечерю» было частью именно авторского замысла, о чем свидетельствует наличие восьми из девяти текстов в черновой рукописи. Слово на погребение архиерея появляется только на втором этапе работы над сборником: перед переписанным писцом полууставом блоком из восьми поучений вставлена тетрадка со «Словом по преставленïи почившаго о господѣ блаженныя и святыя памяти великаго господина кvр Паvла митрополита сарскаго и подонскаго», записанная рукой Симеона с датой 10 ноября 1675 г. Митрополит Сарский и Подонский Павел был безусловно выдающейся личностью своей эпохи, занимал высокие церковные должности, инициировал проведение богословских и философских бесед на Крутицком подворье, обладал значительным по тем временам книжным собранием. Митрополит скончался 9 сентября 1675 г. и был похоронен в Новоспасском монастыре. Митрополита Павла связывали с Симеоном дружеские узы, Симеон писал для него отдельные поучения, также пользовался библиотекой Павла [Устинова 2019].
Следующий этап подготовки «Вечери душевной» к печати прослеживается по рукописи РГАДА, ф. 381, № 503: последовательность «образцовых» поучений повторяет Син. 657, Слово на кончину митрополита Павла открывает погребальный тематический блок, но текст уже обезличен, именуется «на погребенïи архïереа» и лишен биографических подробностей. Обращает на себя внимание, что это Слово опять вклеено как отдельная тетрадка после л. 506 общей пагинации (внутри вклейки самостоятельная нумерация листов (л. 1–9об.), но после тетради сборник продолжается с л. 517). Рукопись № 503 снабжена двумя отличающимися оглавлениями: первое из них воспроизводит реальную последовательность «образцовых» поучений в рукописи, «Слово по преставленïи преосвященнаго Паvла» еще не обезличено и указано, что оно начинается на л. 507; во втором оглавлении, переписанном Сильвестром Медведевым, это Слово вообще не упоминается.
В печатной версии «Вечери» 1683 г., как и в рукописи РГАДА № 503, сохраняется несовпадение оглавления и реального расположения поучений: в оглавлении Слово на погребение архиерея (обезличенное) открывает блок погребальных «образцов», в самой же книге Слово вставлено ближе к концу, через 20 листов от основного тематического блока. Но при этом указанные в содержании номера листов совпадают с реальными номерами листов «Вечери».
А.С. Елеонская считает, что беловые книги «Вечери» редактировались для печати еще при жизни Симеона [Елеонская 1990, 170], хотя на титуле экземпляра РГАДА № 503 указано, что к печати приступили в октябре 1681 г., т.е. после кончины богослова. Не исключено, что Слово на погребение митрополита Павла обезличивалось самим Симеоном, но исправления могли быть сделаны и Сильвестром Медведевым, который вносил правку в «Вечерю» на всех этапах ее редактирования. Впоследствии погребальное поучение на смерть архиерея распространялось в рукописной традиции не в обезличенном виде (как в «Вечере»), но с именем митрополита Сарского и Подонского.
Эта погребальная проповедь Симеона привлекала внимание исследователей в первую очередь как важный источник по биографии митрополита Павла, а потому данный сюжет не будет предметом моего рассмотрения. Главная задача исследования состоит в установлении основных источников «Слова на погребенïи архïереа» и в описании методов выявления этих источников.
Структура «Слова на погребенïи архïереа»
Тему поучения задают слова Откровения Иоанна Богослова «се конь блѣдъ, и сѣдящъ на немъ, имя ему смерть, и адъ идяше въ слѣдъ его» (Откр 6:8). Слово распадается на два неравных тематических блока. Центральный сюжет первого из них – это рассуждение о четырех всадниках Апокалипсиса и их орудиях; из всех предвестников конца времен основное внимание Симеона привлекает всадник на бледном коне, за которым последуют сеющие ужас силы ада. Не только момент кончины вызывает у человека чувство страха, но и само воспоминание о смерти при жизни сопряжено с горечью. Симеон ссылается на пример Сусанны из Книги Даниила (13:22) и видение царю Халдейскому Валтасару пишущих на стене перстов (Даниил 5:6), сетования Иисуса Сираха «О смерти, яко горка ти есть память человѣку мирну во имѣнïи си живущу» (Сирах 41:1) и на судьбу царя амаликов Агаги (1Цар 15:32).
Одними из самых действенных лекарств от непреодолимого страха и горечи выступают постоянная память о смерти и стремление христианина познать ее сущность еще при жизни (верующий «да тщится прежде смерти, смерть видѣти и знати»). Для акцентирования этой мысли Симеон использует образ схождения мыслей в ад, поскольку «адъ не поглотитъ по смерти, снизходившаго к нему въ жизни».
«Привыкание» к смерти через ее познание не только минимизирует естественный страх, но и дает христианину возможность заранее усвоить правильное поведение в момент кончины, не позволяя смерти застать себя врасплох. Симеон приводит в пример человека, которому при жизни довелось неоднократно повстречать льва, и именно поэтому этот человек уже не испытывает панического страха перед свирепым хищником, но зато знает, как вести себя в такой ситуации. Данный пример напрямую перекликается с неоднократно цитируемым Симеоном крылатым выражением о стреле, которая причиняет меньше вреда, если к ней подготовиться заранее.
В первой части Слова Симеон также объясняет, что смерть в Апокалипсисе восседает на бледном коне, поскольку люди перед смертью бледнеют от страха. Но бледнеют они только «плотïю», но не душою, «ибо праведницы тогда процвѣтати начинаютъ душами», а потому смерть является на бледном коне только к грешникам, а к праведникам – на коне зеленого цвета, ибо праведники после смерти «во вѣки въ зелености веселïя приснаго пребудутъ». Симеон ссылается на некий «иной превод» Откровения Иоанна Богослова, в котором конь четвертого всадника имеет именно зеленый цвет, не уточняя при этом, о каком именно переводе идет речь. Во вступительных рассуждениях своего поучения Симеон обращается также к примеру чистых и нечистых рыб как аллегории праведников и грешников, к необычайно популярному в погребальных проповеднических текстах той эпохи образу умирающей и воскресающей из пепла птицы феникса, хотя и не развивает последний сюжет подробно.
Переходом ко второй части Слова служит рассуждение о том, что человек на протяжении всей своей жизни подвергается нападкам злых сил, но «в то время смерти найпаче навѣтуютъ ратницы демонстïи на душу человѣческую». Симеон перечисляет пять основных искушений дьявола, которым христианин подвергается перед смертью:
«Первое есть, [ратницы демонстïи] приводятъ православныхъ душы во невѣрïе, или поне во усумнѣнïе. Второе, приводятъ во отчаянïе о милосердïи божïи, за множество содѣянныхъ беззаконïй. Третïе, къ нетерпѣнïю болѣзни, и къ роптанïю о ней на бога возбуждаютъ. […] Четвертое, подущаютъ къ возгордѣнïю и хвалитися о добродѣтелехъ содѣянныхъ собою… Пятое, оувѣщаютъ жалѣти злата и сребра, собраннаго, и о томъ печалну быти со забвенïемъ души спасенïя».
В основной части Слова описанная пятичастная схема играет ключевую роль, поскольку именно по этой схеме Симеон реконструирует жизненный путь почившего архиерея («преосвященный, имярекъ, митрополiтъ, имярекъ»), приобретенные им при жизни добродетели и благочестивые привычки, позволившие противостоять дьявольским нападкам на ложе смерти. Биографическая часть Слова насыщена библейскими цитатами и аллюзиями (например, «котва» как символ надежды), с помощью которых описывается смиренное перенесение почившим иерархом выпавших на его долю физических и иных страданий. Используя образ частей тела, Симеон рассказывает читателю/слушателю о том, как почивший «тѣлеси не даяше покоя», чтобы «стяжати душу свою во здравïи»: «очима не даде сна, устамъ не попусти молчати, ногама не соизволи оуспокоенïя, гортани не даде оуслажденïя, стомаху отимаше оудовленïе».
Всего лишь один раз Симеон апеллирует в Слове к авторитету церковного учителя и приводит пример выдающегося церковного мужа прошлого. В контексте пятого искушения, когда в умирающем возбуждается сожаление о накопленных при жизни и оставляемых материальных благах, Симеон повествует об Иоанне Милостивом, который всегда был свободен от подобного рода земных привязанностей, щедро раздавая милостыню всем нуждающимся. Этот и другие примеры из жития Иоанна Милостивого встречались практически во всех католических пособиях «доброй смерти» раннего Нового времени и довольно часто в погребальных проповедях. У Симеона пример подготовки Иоанна Милостивого к смерти еще при жизни приводится и в «образцовом» Слове на смерть жены.
Единственная в «образцовом» Слове на смерть архиерея цитата из церковных учителей принадлежит Григорию Великому (Двоеслову). Этим высказыванием Симеон завершает описание четвертого искушения, когда недруг души человеческой возбуждает лежащего на смертном ложе «къ возгордѣнïю о добродѣтелехъ содѣянныхъ». Сопротивляясь искушению, умирающий не должен гордиться совершенными при жизни добрыми делами, «аще и неисчетны бяху, вѣдая оно великаго оучителя Григорïа святаго слово: Койждо поминая добро еже содѣя, егда ся самъ оу себе возноситъ, оу виновника смиренïя падаетъ». Приведенная цитата восходит к «Правилу пастырскому» Григория (Двоеслова).
Основная часть Слова завершается описанием достойной кончины иерарха, которой предшествуют покаяние, причащение и помазание елеем. Выше уже упоминалось, что обязательной составляющей всех «образцовых» поучений Симеона было последнее целование, которое выступало и прощанием, и напутствием умершего своим близким. Этот раздел в Слове на кончину архиерея несколько более лаконичен, нежели в других «образцах».
Источники сюжета о пяти искушениях дьявола
Пятичастная схема искушений на ложе смерти восходит к католическим трактатам жанра «искусство доброй смерти» (ars bene moriendi), которые очень разнообразны с точки зрения содержания, но условно распадаются на две линии.
Первая представлена богословски-насыщенными поучениями, в значительной мере воспроизводящими рассуждения парижского канцлера начала XV в. Жана Жерсона «О знании смерти» («De scientia mortis»), или третью часть трактата богослова «Трехчастное сочинение» («Opusculum tripartitum», французская версия 1403 г., латинский перевод ок. 1410). Сочинения этой линии ориентированы в первую очередь на духовных лиц, которые сопровождают в последний путь умирающих, а потому содержат информацию практического характера об уделении таинств на ложе смерти, обращенные к умирающим вопросники о вере.
Ориентированная на более широкие круги верующих версия «ars moriendi», лишенная пространных богословских рассуждений и состоящая из исключительно прикладных по своему характеру наставлений, создается между 1408 и 1414 гг.. Ее краткая редакция представляет из себя брошюру с 11 гравюрами, каждая из которых сопровождается лаконичным описанием. Книги такого рода предназначались не столько для чтения, сколько для рассматривания. На гравюрах изображался лежащий в агонии христианин в окружении своих близких, в изголовье кровати посланник ада с одной стороны и ангел с другой символизировали борьбу добродетелей и пороков в душе человека, тематически, но не содержательно, отсылая к «Психомахии» римского христианского поэта Пруденция. Демон соблазнял умирающего пятью искушениями: неверием, отчаянием, нетерпением, тщеславием, жадностью, на каждое искушение ангел предлагал умирающему утешение. Аргументы ангела носят дидактический характер, но нацелены не столько на то, чтобы побудить умирающего к раскаянию и к последней исповеди (что было одной из основных целей трактата Жерсона), сколько на то, чтобы утешить лежащего в агонии, избавить его от неизбежных в такую минуту страхов [Resch 2006, 39].
Исследователи единодушны в том, что установить конкретный источник именно такой, а не иной последовательности искушений дьявола на ложе смерти практически невозможно, но отмечают, что данный сюжет не только упоминается, но и развивается в ряде вероучительных компендиумов до начала XV в., в которых присутствуют разделы о практиках таинства елеопомазания: именно в контексте данного таинства появляются рассуждения об искушениях дьявола на ложе смерти и о поучениях ангелов в этот драматичный момент, поскольку одним из эффектов принятия таинства елеопомазания считалось именно укрепление души перед нападками слуг сатаны [O’Connor 1942, 28–29].
Впоследствии пятичастные схемы искушений и утешений тиражировались в многочисленных авторских переработках трактата «ars moriendi», в том числе и на вернакулярных языках, также в различного рода молитвенниках, в частности, в необычайно популярном «Hortulus animae». В католических сочинениях раннего Нового времени число искушений могло варьироваться, достигая семи–десяти [Staupitz 1515, 97], расширяясь в первую очередь за счет бунта лежащего на смертном одре человека против самой необходимости умирать и нежелания готовиться к смерти при первых признаках надвигающейся болезни [Włodarski 1987, 107]. Сюжет искушений на ложе смерти был не чужд и протестантским погребальным проповедям и «книгам утешений», хотя «набор» искушений существенно отличался от католического [Baschera 2015, 324; Resch 2006, 65]. Что объединяет сочинения представителей всех конфессиональных традиций в раннее Новое время – это исключение сюжета об утешениях ангелов, место которых теперь занимает духовный отец или просто многоопытное в вопросах веры светское лицо.
Буквальное совпадение пятичастной схемы искушений в трактатах «ars bene moriendi» и в «образцовом» Слове Симеона, а также тот факт, что в обоих случаях в параграфе о четвертом искушении дьявола приводится одинаковое высказывание Григория (Двоеслова), подсказывают исследователю, что Симеон ориентировался на устоявшийся в католической письменности канон. Но обращался ли Симеон напрямую к одному из многочисленных пособий «доброй смерти»? В описании библиотеки Симеона, которая очевидным образом лишь фрагментарно отражает круг его чтения, такого рода пособия упоминаются. При этом обращает на себя внимание, что в Слове Симеона воспроизводится лишь одна цитата из богословского сочинения, в то время как в трактатах «ars bene moriendi» их значительно больше, в том числе и авторства таких авторитетных для православного читателя/слушателя мыслителей, как Иоанн Златоуст. Столь радикальное «усечение» богословской аргументации, а также исключение обращенных к терзаемому на ложе смерти христианину утешений ангелов позволяет предположить, что Симеон использовал для своего Слова какой-то текст-посредник. Пятичастная схема (только искушения слуг ада, без назиданий ангелов) спорадически встречается у католических проповедников XVII в. в контексте поучений о смерти, например, на 22-е или 23-е воскресенье после Троицы, когда толкуется евангельский фрагмент о воскрешении Иисусом дочери Иаира (Мф 9:18–26). В библиотеке Симеона фигурирует один из сборников годичных поучений с подобного рода проповедью: это «Арка Завета» польского церковного писателя и историка, краковского каноника Шимона Старовольского (Szymon Starowolski, ок. 1588–1656).
Поучение Старовольского на Мф 9:18–26 (в данном случае 22-е воскресенье после Троицы) распадается на несколько тематических частей, первая из них носит заглавие «Как христианский человек должен переносить искушения и сражаться с ними в момент умирания» (Jako człowiek Chrześcijański ma znosić pokusy i potykać się z nimi czasu skonania swojego). В этой части краковский каноник последовательно анализирует все пять искушений дьявола, встраивая внутри четвертого пункта слова Григория (Двоеслова) и совершенно отказываясь от сюжетной линии об утешениях умирающего ангелами. В экземпляре «Арки Завета» из библиотеки Симеона довольно мало маргинальных помет, которые бы свидетельствовали о том, как книга читалась и какие пассажи привлекали внимание Симеона. Но в названной проповеди Старовольского внутри текста встречаются единичные подчеркивания, в частности – подчеркнут перечень пяти предсмертных искушений дьявола
Данное обстоятельство позволяет утверждать, что в работе над погребальной проповедью митрополиту Павлу Симеон обращается к поучению польского автора и именно у него (а не напрямую из трактатов «ars bene moriendi») заимствует сюжет о пятичастном искушении. При этом Симеон воспринимает только общую схему и воспроизводит дословно лишь отдельные фразы Старовольского, выстраивая совершенно самостоятельное рассуждение и не переводя польскую проповедь в полном объеме.
Дополнительным аргументом в пользу обращения Симеона именно к проповеди краковского каноника служит содержательное сходство вступительных частей Слова на смерть архиерея и проповеди Старовольского: в обоих случаях речь идет о всадниках Апокалипсиса, и краковский каноник вводит различение бледного коня, на котором смерть является грешникам, и зеленого коня для праведников, апеллируя к сочинению раннехристианского теолога и апологета Тертуллиана «О стыдливости» (Liber de Pudicitia).
Вместо упоминания Тертуллиана в печатной версии «Вечери душевной» осталась лишь отсылка на некий иной перевод Откровения Иоанна Богослова. Но имя раннехристианского автора присутствует как в рукописи Син. 657, отражающей второй этап работы над сборником слов «Вечери», так и в сборнике РГАДА № 503, где имя раннехристианского богослова в одном месте осталось нетронутым, а в другом уже зачеркнуто Сильвестром Медведевым (?) («Помяни яко смерть не замедлитъ. Не на блѣдѣ же конѣ, но на зеленѣ по сказанïю Тертулïана»). Имя Тертуллиана продолжает упоминаться также в более поздних списках проповеди на кончину митрополита Павла, которые не обезличены и сохраняют биографические детали почившего иерарха [Белокуров 1886, 598, 599].
***
Составленное в ноябре 1675 г. Слово на кончину митрополита Павла не с самого начала было обезличено (в отличии, например, от поучения на кончину «жены», которое уже в черновом автографе Син. 658 лишено какой-либо биографической индивидуальности), и не сразу нашло свое место в блоке «образцов» на погребение «Вечери душевной». Его датировка свидетельствует, что остальные восемь Слов составлялись Симеоном до 1675 г., их последовательность была частью авторского замысла (она не менялась на всех этапах последующего редактирования рукописи), и погребальный блок, судя по всему, изначально не предусматривал каких-либо «образцов» на кончину представителя церковной иерархии. Если это наблюдение верно, то Симеон первоначально ориентировался на свою «Практическую риторику» до-московского периода, в которой отсутствовали примеры погребальных ораций на смерть духовных лиц. Этот замысел был скорректирован позднее, по мере подготовки «Вечери душевной» к печати.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
ГИМ. Отдел рукописей. Син. 229. Симеон Полоцкий. Сборник поздравительных речей.
ГИМ. Отдел рукописей. Син. 657. Симеон Полоцкий. Вечеря душевная.
ГИМ. Отдел рукописей. Син. 658. Симеон Полоцкий. Вечеря душевная.
ГИМ. Отдел рукописей. Син. 684. Сборник с проскинитарием.
Научная библиотека им. В.Г. Распутина, Иркутский гос. университет. Отдел рукописей. № 49. De oratione funebrali. [Киев, ок. 1647]. Л. 253–280.
Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского НАН Украины. Институт рукописей. Ф. 306. № 620/394с. Прокопий Калачинский. [De orationibus funebribus]. 1692–1693. Л. 326–335.
РГАДА. БМСТ/ин. № 2441. Starowolski S. Arka Testamentu, zamykająca w sobie kazania niedzielne. Kraków, K. Schedl, 1649. Cz. 2.
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. № 503. Симеон Полоцкий. Вечеря душевная.
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. № 1791. Симеон Полоцкий. Rhetorica practica de omnium trium generum, demonstrativi, deliberativi et iudicalis speciebus composita per me Samuelem Piotrowski Sitnianowicz. Л. 17–170, 2-го счета.
Григорий Великий Двоеслов. Избранные творения / ред. А.И. Сидоров. М.: Паломникъ, 1999. 735 с.
Григорий (Двоеслов). Правило пастырское или о пастырском служении / пер. с лат. Д. Подгурского. Киев: Тип. И. и А. Дориденко, 1872. 257, X с.
Ковригина И.В. Средневековый латинский трактат «ars moriendi» (краткая редакция) // Альманах по истории Средних веков и раннего Нового времени. 2013. № 3–4. С. 185–214.
Плиний Старший. Естественная история. Книга VIII / пер. с лат. и комм. И.Ю. Шабага // Труды кафедры древних языков. Вып. III / отв. ред. А.В. Подосинов. М.: Индрик, 2012. С. 186–227.
Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. М.: Верхняя тип., 1683.
Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный / подгот. текста, ст. и коммент. А. Хипписли,
Л.И. Сазоновой; предисл. Д.С. Лихачева. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1996. Т. 1. LX, 356 c.
Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный / подгот. текста, ст. и коммент. А. Хипписли,
Л.И. Сазоновой. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1999. Т. 2. VII, 657 c.
Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный / подгот. текста, ст. и коммент. А. Хипписли,
Л.И. Сазоновой. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2000. Т. 3. LIV, 764 c.
Gregorius Magnus. Regulae Pastoralis liber // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina / ed.
J.-P. Migne. Paris: J.-P. Migne, 1862. T. 77. Col. 13–127.
Jean Gerson. Scientia mortis // Jean Gerson. Opera omnia. Haag: P. de Hondt, 1728. T. 1. Col. 447–450.
Simeon Polockij. Rifmologion. Eine Sammlung höfisch-zeremonieller Gedichte / hrsg. von A. Hippisley, H. Rothe, L.I. Sazonova. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2013. Bd. 1. CLX, 469 p.
Simeon Polockij. Rifmologion. Eine Sammlung höfisch-zeremonieller Gedichte / hrsg. von A. Hippisley, H. Rothe, L.I. Sazonova. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2017. Bd. 2. XXXVIII, 601 p.
Staupitz J. Ein Buchlein von der Nachfolgung des willigen sterbens Christi. Leipzig: Lotther, 1515.
Tertullianus. Liber de Pudicitia // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina / ed. J.-P. Migne. Paris: J.-P. Migne, 1844. T. 2. Col. 979–1030.
About the authors
M. A. Korzo
RAS Institute of Philosophy
Author for correspondence.
Email: korzor@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6299-5187
Moscow, Russian Federation
References
- Barłowska M. Swada i milczenie: zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 350 p.
- Baschera L. Preparation for Death in Sixteenth-Century Zürich: Heinrich Bullinger and Otto Werdmüller. Preparing for Death, Remembering the Dead, eds. T. Rasmussen, J. Øygarden Flæten. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, pp. 313–328.
- Belokurov S.A. К biografii Pavla, mitropolita Sarskogo i Podonskogo. Hristianskoie Chteniie, 1886, no. 3–4, pp. 593–624. (In Russ.)
- Biedrzycka A., Tazbir J. Starowolski Szymon. Poski Słownik Biograficzny. T. 42. Kraków; Wrocław, Societatis Vistulana, 2003–2004, pp. 356–361.
- Eleonskaya A.C. Russkaya oratorskaya prosa v literaturnom protsesse XVII veka. Moscow, Nauka Publ., 1990, 224 p. (In Russ.)
- Gorskij A.V., Nevostruiev K.I. Оpisaniie slavyanskih rukopisej Moskovskoj Sinodal’noj biblioteki. Otdel 2.
- Pisaniya Svyatyh otcev. Ch. 3. Raznyya bogoslovskiya sochinieniya (Pribavleniya). Moscow, Synodal publ., 1862, 842 p. (In Russ.)
- Hippisley A. The Poetic Style of Simeon Polotsky. Birmingham, Birmingham University Press, 1985, 96 p.
- Korzo M.A. «Slovo na pogrebenii chestnyia zheny» Simeona Polotskogo v kontekstie obraztcovyh pogrebal’nych propovedej XVII vieka. Vestnik PSTGU. Seria II: Istoriya. Istoriya RPTc, 2024, vol. 120,
- pp. 11–25. (In Russ.)
- O’Connor M.C. The Art of Dying Well. The Development of the ‘Ars moriendi’. New York, Columbia University Press, 1942, 258 p.
- Preobrazhenskaya A.A. Propoved’ Simeona Pototskogo «Na pogrebenii chestnyia zheny»: prigotovlenie khristianki k smetri v poslednei chetverti XVII v. Trudy Instituta russkogo iazyka im. V.V. Vinogradova, 2023, no. 1, pp. 287–309. (In Russ.)
- Preobrazhenskaya A.A. «Slobo na pogrebenii telese blagorodnyya gosudaryni tcarevny i velikiya knyazhny shimonahini Anfisy, byvshiya Anny Mihailovny»: tekst i kommentarii. Slovesnost’ i istoriya, 2024, vol. 3, pp. 25–52. (In Russ.)
- Resch C. Trost im Angesicht des Todes. Frühe reformatorische Anleitungen zur Seelsorge an Kranken und Sterbenden. Basel; Tübingen, A. Francke Verlag, 2006, 255 S.
- Sazonova L.I. Das Rifmologion des Simeon Polockij – ein Buch höfisch-zeremonieller Dichtung. Simeon Polockij. Rifmologion. Eine Sammlung höfisch-zeremonieller Gedichte, hrsg. von A. Hippisley, H. Rothe, L.I. Sazonova. Bd. 1. Wien; Köln; Weimar, Böhlau Verlag, 2013, pp. XI–LXXXVI.
- Simeon Polockij’s Library. A Catalogue, eds. by A. Hippisley, E. Luk’janova. Köln; Wien, Böhlau Verlag, 2005, VII, 226 p.
- Ustinova I.A. Pavel (v miru Piotr), mitropolit Sarskii i Podonskii. Pravoslavnaya Entciklopediya. T. 54. Moscow, Pravoslavnaya Entciklopediya Publ., 2019, pp. 14–16. (In Russ.)
- Włodarski M. Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków, Znak, 1987, 300 р.