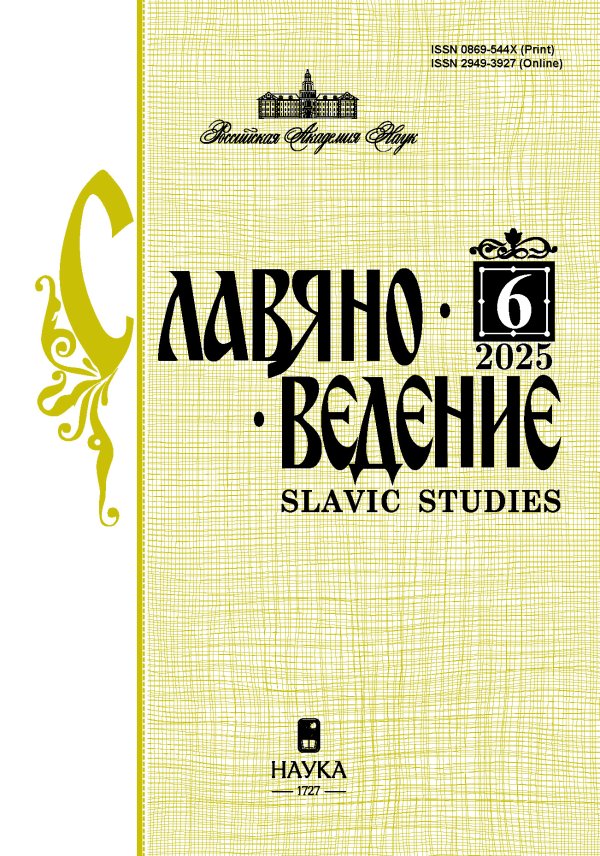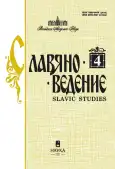Love the Galician Way: Intimate Aspects in the History of Everyday Life in Galicia During the First World War
- Authors: Parfirev D.S.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2025)
- Pages: 121-131
- Section: Essays
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/350841
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X25040103
- EDN: https://elibrary.ru/VAJIFC
- ID: 350841
Full Text
Abstract
The article examines some aspects of sexual life of Russian soldiers and officers in occupied Galicia during WWI. There is no special research devoted to this issue. The research is based on wide circle of memoirs, diaries and correspondence of both military men and Galician witnesses of the occupation. It is shown that, in contrast with many memoirists and historians’ statements, sexual contacts between local women and military men, in many cases, were voluntary. Prostitution and, therefore, venereal diseases had spread in cities far from the front line. The most significant scale of the last ones was observed in L’viv as the biggest city of Galicia. The specific feature of L’viv, in comparison with cities in Russian rear, was that many prostitutes imitated respectable women, misleading Russian military men by this way.
Keywords
Full Text
Проблема взаимоотношений между военнослужащими и жительницами прифронтовых или оккупированных территорий в последние годы привлекает все большее внимание историков Первой мировой войны [Cherry 2016; Todd 2017]. Однако авторы многочисленных работ о военной повседневности Галиции – региона Австро-Венгрии, который длительное время контролировался русской армией, почти не уделяют внимание этому сюжету. Так, в недавно защищенной во Львове кандидатской диссертации М.С. Байдак «Женщина в условиях войны в свете повседневных практик (на материалах Галиции 1914–1921 гг.)», в основе которой лежит богатый архивный и газетный материал, тематика интимных отношений между местными жительницами и военными скупо освещается в двух абзацах [Байдак 2018, 71–72]. Между тем, это была неизбежная и закономерная сторона повседневной жизни в оккупации во время Великой войны, ведь население занятых противником территорий было преимущественно женским, а оккупирующую сторону представляли почти исключительно мужчины [Knežević 2017, 135].
Историками уже было отмечено, что в годы Первой мировой войны половое поведение русских военнослужащих претерпело серьезную трансформацию, а прифронтовые территории стали пространством особой сексуальной активности, создававшей у сторонних наблюдателей ощущение «массового полового психоза» [Аксенов 2020, 719]. Но Галиция, в отличие от других прифронтовых зон, была не внутренним российским регионом, а территорией, перешедшей под контроль вражеской армии. Осенью 1914 – весной 1915 г. русские войска занимали всю восточную часть Галиции и постепенно овладевали западными районами провинции. Административный центр региона, Львов, был крупнейшим из городов противника, оккупированных русской армией в годы войны. В настоящей статье предпринята попытка выявить специфику сексуальной повседневности русских военных в Галиции, сосредоточившись на трех аспектах – связях с местными жительницами на добровольных началах, проституции и тесно связанных с этим явлением венерических заболеваниях. Сами жительницы Галиции почти не оставили воспоминаний о взаимоотношениях с русскими военнослужащими [Байдак 2018, 72], что вынуждает опираться на отрывочные сведения из широкого спектра разнородных материалов, в основном на дневники, корреспонденцию и мемуары очевидцев оккупации – как побывавших в Галиции военных, так и местных жителей. Важно отметить, что доступные свидетельства отражают преимущественно мужской взгляд на ситуацию.
Русские офицеры и солдаты прибывали в Галицию с разным сексуальным опытом и разными стратегиями полового поведения. Многие офицеры, которые и до войны практиковали внебрачные связи и прибегали к услугам проституток, с самого начала были более настроены на любовные приключения, чем нижние чины, но в то же время проявляли избирательность в выборе партнерш. Один из них, передавая приятелю привет от «борцов за свободу Прикарпатской Руси», шутливо писал: «Насаждаем нашу культуру и улучшаем породу», тут же добавляя, что «женщины здесь вообще красивы», хотя и уступают «жемчужинам Петрограда». Взыскательных офицеров не прельщали местные селянки, казавшиеся им «грубыми и неуклюжими» «толстыми бабами». Солдаты же, в подавляющем большинстве крестьяне, в условиях войны приобрели новые сексуальные представления, у многих наметился разрыв с привычным семейным укладом [Асташов 2014, 639]. Одному из мемуаристов, воевавших в Галиции, некий молодой казак простодушно признавался, что на войне «на бабу охота пуще, чем дома». Если в мирное время изнасилования были редкостью в казачьих районах [Годовова 2020, 373], то во время оккупации именно казаков чаще всего обвиняли в сексуальном насилии [Nizińska 2018, 216]. Командование с самого начала пыталось ограничить сексуальную активность своих подопечных: один из первых запретов, объявленных губернатором М.А. Мельниковым 22 августа для населения занятых районов Галиции, касался распространения материалов «порнографического содержания» (порнографические открытки были широко распространены в солдатской среде [Асташов 2014, 626]).
В Первую мировую войну любые проявления жестокости военных в отношении местного населения были более характерны для этапа вторжения, чем для оккупации как таковой [Knežević 2017, 136–137]. Так и в Галиции, если верить мемуаристике, большинство эпизодов изнасилований приходилось на первые дни после занятия населенного пункта, когда он был охвачен стихийными грабежами и мародерством. «Занятие войсками города – это развращение их: начинается грабеж, пьянство, насилование», – писал в дневнике генерал-майор А.Е. Снесарев. Казаки были самыми активными участниками погромов именно потому, что их части вступали в город или селение первыми; неудивительно, что и в австро-венгерской армии главными насильниками считались кавалеристы-венгры. В городах и местечках сексуальное принуждение наблюдалось чаще, чем в сельской местности. Во-первых, среди городского населения преобладали не близкие по вере и языку русины, а польское и еврейское население. Во-вторых, там было проще найти алкоголь – занятие города всегда сопровождалось разграблением магазинов, складов и кафе. В свидетельствах очевидцев оккупации упоминаются подчас ужасающие эпизоды: в городе Бжостек трех девушек якобы публично изнасиловали в синагоге; в Горлице солдаты надругались над 20-летней девушкой у трупа отца, не пускавшего их в ее спальню; в селе Дидёва повета Турка восемь казаков изнасиловали на дворе француженку-гувернантку. В Самборе, по сведениям львовского раввина, после погрома было зафиксировано 46 изнасилованных женщин [Гольдин 2018, 301], а в Бучаче, по данным собиравшего сведения о погромах в Галиции публициста С.А. Ан-ского (Раппопорта), – несколько сотен местных жительниц. Эти цифры коррелируют с масштабами убыли населения в Бучачском и Самборском поветах [Pająk 2020, 265–267]. Оценить достоверность конкретных свидетельств и произвести точный подсчет эпизодов изнасилований не представляется возможным: ни российские, ни австро-венгерские власти не производили подобного учета, к тому же многие жители не хотели предавать огласке позорные, по их мнению, случаи.
Гораздо реже эпизоды изнасилований происходили в селах, где зачастую было нечем поживиться, а вступление войск не перетекало в грабежи и мародерство. Кроме того, сельское население Восточной Галиции, которое говорило на понятном русским солдатам языке и исповедовало христианство восточного обряда, воспринималось ими как «наше». Более того, при разграблении городов солдаты и казаки приглашали жительниц окрестных селений в опустевшие магазины и квартиры и предлагали забрать оттуда понравившиеся вещи, а иногда селянки и сами указывали места в городах, где находилось что-то ценное [Pająk 2020, 120]. Перед занятием селения войсками противника женщины часто уходили в лес или прятались в укрытия, но тревожные ожидания не всегда оправдывались: «Люди медленно выходили из укрытий, потому что убедились, что москали – это такие же люди, как и мы, никого не убивают и женщин не насилуют», – вспоминал очевидец оккупации одного из сел.
Более того, в селах, занятых русскими войсками, типичной была ситуация, когда привлекательные женщины попадали в поле зрения сразу нескольких солдат и офицеров и благосклонно принимали их ухаживания – такие случаи описывали многие русские военные. «В нашем районе живут 3 “паненки”, в которых чуть ли не все повлюблялись, и теперь из-за них идет забавная вражда между тремя батареями дивизиона, – рассказывал артиллерийский офицер В.А. Бернацкий. – Одна из них – интересная вдовушка, была замужем всего один месяц; муж ее недавно тут же умер от холеры». Офицеры полка, квартировавшего в селении Маркополь неподалеку от Бродов, постоянно проводили время в ухаживаниях за молодой женщиной, чей супруг служил в австро-венгерской армии. С.И. Вавилов подметил в дневнике, что все его солдаты-сослуживцы «увиваются» за хозяйкой одной из «халуп» в Ниско – «живой, остроумной, болтливой, недурной» женщиной. А.Л. Марков с иронией вспоминал, как прапорщик «Дикой дивизии» Огоев за ужином в доме ксендза весь вечер переглядывался со служанками и «многозначительно покручивал усы», а наутро те провожали его «со следами счастливой любви на лицах». В деревне Лютовиска повета Самбор местная жительница постоянно приходила пообщаться и выпить с компанией гусар, за что была прозвана «гусарской цыганкой». Уже после отступления русских войск из Галиции в некоторых районах единственными, кто ушел вместе с ними, были женщины, последовавшие за солдатами.
В городах тоже находилось место влюбленностям и ухаживаниям. Комментируя стремление русских военных и жителей Львова изучать языки друг друга, автор фельетона в газете «Прикарпатская Русь» иронизировал, что «первыми застрельщицами» в деле взаимного сближения стали именно львовские женщины, для которых иностранные военнослужащие оказались «даже очень галантными кавалерами». Житель Львова С. Сроковский с недовольством вспоминал, что при появлении солдат «прекрасный пол в предместьях сразу же одарял их вполне отчетливыми взглядами, которыми, разумеется, тоже не пренебрегали». Другой польский мемуарист написал, что некий русский прапорщик проводил много времени с его сестрой, предлагал ей замужество и сладостями «подкупал» братьев девушки «агитировать только за него». Русские военные обзаводились любовницами во Львове и ради них шли на немалые жертвы. Офицер К.Р. Унгерн фон Штернберг настолько увлекся жительницей Львова, что при отступлении русских войск из города спрятался и затем добровольно сдался в плен с намерением получить австро-венгерское подданство. Другой военнослужащий, прапорщик 69-й артиллерийской бригады, содержал всю семью своей львовской любовницы С. Рехт. Интересно, что из пяти взрослых дочерей главы семейства он выбрал именно Софию – единственную, у которой был ребенок и чей муж, австро-венгерский ротмистр, находился на фронте. В Тарнове офицер и прапорщик едва не подрались, не поделив местную проститутку по имени Зося. Их сослуживец, разнимая соперников, был ранен в руку и отправился в лазарет.
Проституция имела широкое распространение в оккупированной Галиции. Чем дальше от того или иного города отходила линия фронта, тем значительнее были масштабы этого явления. Командир дивизиона, квартировавшего в городе Стрый, описал генералу В.И. Селивачеву появление в городе «дам легкого поведения» и «заболеваний секретными болезнями» как иллюстрацию того, что «жизнь в Стрые носит чисто тыловой характер». Подавляющее большинство галицийских жриц любви действовали нелегально: военно-санитарное управление констатировало, что в городах и местечках Галиции «тайная проституция достигла во время войны огромных размеров». «Предрасположенность к ночной жизни» беженок из Галиции в ту пору с беспокойством отмечали и городские власти Вены, обеспокоенные высоким спросом жителей столицы на галицийских проституток [Healy 2007, 92–93]. Разгул продажной любви почти не относился к сельской местности: в селе, где венерические заболевания к тому же было труднее выявлять и лечить, проститутки представляли опасность для местных жителей, и те нередко сами требовали их выселения – как по моральным, так и по санитарным соображениям [Байдак 2018, 71]. Некоторые женщины шли на связь с военными ради пропитания. А.Е. Снесарев пересказал в дневнике разговор русского солдата и местной жительницы, свидетелем которого он случайно стал в Яремче: «“Что тебе нужно?” – спрашивает солдат девушку после жарких поцелуев. “Хлеба”, – отвечает почти ребенок, уже без стеснения оправляя свой костюм».
Уникальная ситуация наблюдалась во Львове, который быстро снискал репутацию гнезда проституции. Жена украинского ученого И. Свенцицкого жаловалась в письме брату-москвичу, что после оккупации во Львове «дам полусвета развелось в порядочном количестве». Конкуренцию профессиональным проституткам, еще с довоенных времен имевшим официальную регистрацию, составили те, кто прежде не занимался древнейшим ремеслом, в том числе женщины, состоявшие в официальном браке. По сведениям С. Сроковского, по состоянию на 19 ноября 1914 г. во Львове от венерических заболеваний лечились около 200 незамужних и 400 замужних женщин. У одного из русских офицеров сложилось впечатление о «почти поголовной проституции всего женского населения во Львове». Польские очевидцы оккупации впоследствии решительно утверждали, что постыдным ремеслом занимались «не наши женщины», а «взбесившиеся публичные девки», которые «съехались сюда со всех возможных сторон»; что «часть их вышла из притонов, часть сбежалась из провинции». С учетом того, что большинство публичных женщин нигде не регистрировались, оценить масштабы вовлеченности в проституцию именно львовянок не представляется возможным. Из 364 жительниц Львова, у которых за период с 11 ноября 1914 г. по 1 июля 1915 г. были выявлены венерические заболевания, подавляющее большинство – 223 женщины – занимались проституцией нелегально [Papée 1919, 501]. Сколько еще подобных «нелегалок» не удалось выявить – неизвестно.
Львовская полиция еще в октябре 1914 г. запретила представительницам древнейшей профессии появляться на улицах и площадях города, в кофейнях и других публичных местах, а львовский градоначальник лично ходил по улице Кароля Людвика и стыдил офицеров, которые гуляли с дамами легкого поведения [Щодра, Петрій 2014, 364], однако это мало на что влияло. По ощущениям Л.Н. Войтоловского, большинство посетителей кофейни, в которую он зашел по приезде во Львов, составляли «проститутки и тыловая военщина, поддерживающие между собою довольно тесное общение». Некоторые заведения по ночам превращались в публичные дома: в ноябре 1914 г. владельца кофейни «Ренессанс» М. Лясоцкого арестовали и оштрафовали за то, что после закрытия он передавал заведение в распоряжение проституток, а в марте 1915 г. во время вечерней облавы по улицам и кофейням полиция задержала более сорока заподозренных в проституции женщин. Многие жрицы любви переодевались в сестер милосердия, что было распространенной практикой в России в годы Первой мировой войны [Аксенов 2020, 304–305; Асташов 2014, 632–633]. Проституток в сестринской форме во Львове иронично называли «кузинами милосердия». Военному врачу И.А. Арямову обилие женщин, которые открыто гуляли с офицерами в ресторанах, не снимая опознавательных знаков Красного Креста, запомнилось как самое неприятное впечатление от увиденного во Львове.
На масштабы проституции в городе указывает то, что интимные услуги на улице предлагали даже девочки, о чем с беспокойством писали газеты. «Львовское военное слово» с возмущением отметило, что малолетние проститутки ходили в большой компании попрошайничающих детей. Они держали в руках газеты, имитируя, что продают их, но при удобном случае предлагали свои услуги: «Улучив удобную минуту она говорит в упор: “Хотите меня?.. А не хотите меня, то вон бильшая девочка есть… Где вы живете? Я буду до пана газеты носить…”. А за нею бегут и смеются лукавыми улыбками еще две–три девочки, 8–10-летнего возраста».
Львовская ситуация в период Первой мировой войны была типичной и для крупных городов России, где тоже распространялись услуги женщин-непроституток, имела место детская проституция, а питейные заведения и гостиницы были переполнены жрицами любви [Асташов 2014, 623–624]. Специфика Львова заключалась в том, что социальный статус женщины легкого поведения было трудно определить по ее внешнему виду. В условиях массовых грабежей первых дней оккупации многие женщины обзавелись дорогой одеждой и аксессуарами и мимикрировали под «дам». Служанки и соседки надевали вещи бежавших из города обеспеченных львовянок и, вступая в интимную связь с военными, представлялись аристократками, женами и вдовами офицеров, инженеров и чиновников [Papée 1919, 501]. Разглядеть в «даме» проститутку было непросто: один казачий офицер отметил в дневнике, что «даже потертые в приключениях на Невских берегах Дон-Жуаны конфузятся, когда получают призывной и несмелый толчок локтем от строгой и печальной на вид дамы, по костюму и его элегантности, – видимо из общества». Другой мемуарист вспоминал, как зараженный сифилисом казак недоумевал, как мог подхватить заболевание, ведь он гулял не с «девкой», а с «барышней в шляпке».
Еще труднее было распознать в женщине легкого поведения вражескую шпионку. Шпиономания и проституция во Львове, как и в городах Российской империи, были тесно связаны между собой. В «анонимках», поступавших в штаб военного генерал-губернатора Галиции, обвинения в проституции и шпионаже часто шли рука об руку. Так, в апреле 1915 г. львовянка Е. Цеховская, сообщая о якобы орудующей в городе «германско-еврейско-австрийско-мазепинской шайке», указывала, что эту шайку «укрывает» управляющая одной из городских кухонь Е.-А. Свитальская, «которая сама есть проститутка и с теми мужчинами делает целую процедуру». Автор другой анонимки, поступившей в штаб 10 мая, писал, что в доме № 7 по улице Мурарской живет «молодая проститутка[-]германка была в России[,] служила там как шпион». В декабре 1914 г. в штаб 8-й армии поступил сигнал о том, что в столице Галиции живет «проститутка-шпион», которая «косит глазами». Военные передали информацию во Львов, и местное жандармское управление поручило своим сотрудникам искать косоглазую проститутку по городу. Агент наружного наблюдения, заметивший похожую по описанию женщину на улице Кароля Людвика, докладывал начальству: «На вид как будто ненормальна она действительно усиленно косит глазами. […] Одета она в козью шубу, черную шапочку, брунетка, сильно красится, закрывается вуалью». Другой агент встретил даже «более подозрительную которая действительно косила глазами».
На фоне широкого распространения проституции за Львовом быстро закрепилась репутация рассадника венерических болезней. Свидетель первых месяцев оккупации города, сумевший выехать из Галиции и добраться до Вены, писал: «Должен сделать вывод, что оставшимся г-дам врачам-венерологам хорошо живется, поскольку меня самого неоднократно спрашивали на улице молодые офицеры и чиновники об адресах этих господ». За период с 11 ноября 1914 г. по 1 июля 1915 г. из 405 официально зарегистрированных львовских проституток у 141 женщины, т.е. более чем у трети, были обнаружены венерические заболевания. Этот процент существенно превосходил довоенный показатель, составлявший 21% [Papée 1919, 501]. Всего из 364 венерически больных женщин у 141 была обнаружена гонорея, у 126 – сифилис, у 97 – мягкий или твердый шанкр. Примечательно, что незарегистрированные венерически больные проститутки гораздо чаще страдали от гонореи (48%), тогда как среди их легализовавшихся «коллег по цеху» преобладал сифилис (45%) [Ibidem].
Поскольку в русской армии в период Первой мировой войны венерические болезни были широко распространены [Санборн 2021, 258], врачи уделяли повышенное внимание этим недугам у солдат. Нехватка медицинского персонала и мест в больницах не позволяли эффективно лечить проституток. Сначала в пределах генерал-губернаторства действовали два венерических госпиталя – на 200 мест во Львове (из них 50 офицерских) и на 210 мест в Бродах, кроме того, в одном из львовских временных госпиталей действовало венерическое отделение на 50 пациентов. Такого количества мест не хватало, поэтому многие венерические больные эвакуировались в Волочиск и далее вглубь России. Галицийский генерал-губернатор Г.А. Бобринский выступал против создания во Львове «большого сводного венерического госпиталя», тем более, что там многократно наблюдались случаи повторного заражения уже выписанных пациентов, поэтому в начале марта 1915 г. венерический госпиталь открылся в провинциальном местечке Любень-Велький. Уже через месяц это учреждение было почти заполнено – около тысячи пациентов.
В мае – июле 1915 г., после того как под натиском противника русские войска оставили большую часть завоеванной Галиции, многие львовские проститутки перебрались в тыловые города России, в первую очередь, в близлежащий Киев, где можно было рассчитывать на сопоставимые заработки. Житель Киева в частном письме, написанном 12 июля, назвал Львов «рассадником всяких мерзких болезней». Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Психоневрологического института в Петрограде В.В. Иванов в 1916 г. назвал Галицию «прямо очагом венерических болезней» [Иванов 1916, 19]. На большую часть оставленных в ходе «великого отступления» территорий, включая Львов, русская армия с тех пор так и не вернулась, но образ средоточия постыдных заболеваний прочно закрепился за Галицией и особенно за ее столицей.
Тема интимных связей между русскими солдатами и офицерами и жительницами Галиции, оккупированной в годы Первой мировой войны, несомненно, нуждается в дальнейшем изучении с привлечением более широкого круга источников, в первую очередь, архивных. Анализ многочисленных свидетельств оккупации показывает, что эти связи зиждились отнюдь не только на принуждении. При этом случаи изнасилований, проституция и распространение венерических болезней чаще отмечались в городах, и если первая категория эксцессов была характерна для самого начала оккупации, то два последних явления набирали оборот по мере того, как от города отдалялась линия фронта. Эпицентром проституции и «секретных болезней» был Львов, где, в отличие от тыловых городов России, проститутки нередко «маскировались» не только под сестер милосердия, но и под дам из «высшего общества», усыпляя бдительность военных и тем самым усугубляя распространение венерических болезней.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
РГИА – Российский государственный исторический архив
ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний архів України, м. Львів (Центральный государственный исторический архив Украины, г. Львов)
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Ан-ский С. Разрушение Галиции // Архив еврейской истории. М.: РОССПЭН, 2006. Т. 3. С. 9–30.
Арямов И. А. Война 1914–1918 гг. // Отечественные архивы. 2014. № 3. С. 89–103.
Бернацкий В.А. Из писем артиллерийского офицера с австрийского фронта // Русская старина. 1915. Т. 162. № 4. С. 96–112.
Бігун С. Як ми воювали за Австрію, а як за Україну // За державність. Матеріяли до історії війська українського. Збірник 10. Торонто: Український Воєнно-Історичний Інститут, 1964. С. 179–195.
Вавилов С.И. Дневники, 1909–1951: в 2 кн. М.: Наука, 2016. Кн. 1: 1909–1916. 655 с.
Войтоловский Л. По следам войны: походные записки, 1914–1917. Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1931. 542 с.
ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 999, 1025.
Дети львовской улицы // Львовское военное слово. 1915. № 136.
Курдидик Я. З історії подільського села (1914–1917) // Московська окупація Галичини 1914–1917 рр. в свідченнях сучасників. Львів: Апріорі, 2018. С. 350–356.
«Ландштурм» малолетних // Львовское военное слово. 1915. № 116.
Логаза М. «Таке то в нас життя…» (Автобіографічний нарис) // Альманах Станиславівської землі. Нью-Йорк: Вид. Центр. ком-ту Станиславівщини, 1985. Т. II. С. 747–763.
Лозовчук В. Стежками життя гуцула Березуна. Спогади. Вінніпеґ: б. в., 1986. 286 с.
М-а-ш-ъ. Маленький фельетон // Прикарпатская Русь. 21 ноября (4 декабря) 1914. № 1477.
Марков А.Л. Записки о прошлом (1893–1920). М.: Традиция, 2015. 786 с.
Оськин Д. Записки прапорщика. М.: Федерация, 1931. 349 с.
Отчет о деятельности военно-санитарного Управления ген.-губернаторства Галиции с 6 октября 1914 года по 1 июля 1915 г. Киев: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1915. 81 с.
Пирейко А. В тылу и на фронте империалистической войны. Л.: Прибой, 1926. 62 с.
РГВИА. Ф. 13216. Оп. 3. Д. 9, 19.
РГИА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 757.
Саянский Л. Три месяца в бою. Дневник казачьего офицера. М.: Типография Ацк. О-ва «Московское Издательство», 1915. 144 с.
Селивачев В.И. Дневники. Январь – август 1915 г. М.: Хлестов О.Н., 2020. 736 с.
Снесарев А.Е. Письма с фронта, 1914–1917. М.: Кучково поле, 2012. 797 с.
Снесарев А.Е. Дневник: 1916–1917. М.: Кучково поле, 2014. 669 с.
ЦДІАУЛ. Ф. 146. Оп. 8. Спр. 1892.
У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891–1941). Київ: Наукова думка, 1993. 768 с.
Чеславский В.В. 67 боев 10-го гусарского Ингерманландского полка в мировую войну 1914–1917 годах. Чикаго: Russian Review, 1937. 396 с.
Bilovus A. My Life Memoirs (1914–1982). Florida: Ukrapress, 1982. 80 p.
Czuj «Borzecki» J. Moskale w Tarnowie od 10 listopada 1914 roku do 6 maja 1915 roku // Monarchia, wojna, człowiek. Codzienne i necodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny światowej. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014. S. 125–170.
Giza S. Na ekranie życia. Wspomnienia z lat 1908–1939. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. 212 s.
Lwów po inwazyi rosyjskiej. Wrzesień – grudzień 1914. Wien: Nakładem Z. Machnowskiego, 1914. 36 s.
Metamorfozy społeczne 14. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską. Materiały polskich grup cenzury z lat 1914–1918. T. 2. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018. 605 s.
Regulamin dla ludności 6 powiatów // Kurjer Lwowski. 1914. Nо. 385.
Rossowski S. Lwów podczas inwazyi. Lwów: H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska, [1916]. 271 s.
Słuszne zarządzenie // Kurjer Lwowski. 15 (28) października 1914. Nо. 431.
Srokowski S. Z dni zawieruchy dziejowej 1914–1918. Kraków: Nakładem Księgarni Geograficznej
«Orbis», 1932. 331 s.
Świeykowski B. Z dni grozy w Gorlicach. Kraków: Nakładem S. A. Krzyżanowskiego, 1919. 126 s.
Wais K. Wspomnienia z pierwszego roku wojny światowej. Lwów: Wschód, 1930. 114 s.
Witos W. Moje wspomnienia. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. 587 s.
Wyroki gradonaczelstwa // Kurjer Lwowski. 1914. Nо. 439.
About the authors
D. S. Parfirev
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: parfiryeff@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4042-6324
Moscow
References
- Aksionov V.B. Slukhi, obrazy, emotsii. Massovye nastroeniia rossiian v gody vojny i revolutsii (1914–1918). Moscow, Novoje literaturnoje obozrenije Publ., 2020, 992 p. (In Russ.)
- Astashov A.B. Russkii front v 1914 – nachale 1917 goda: voennyi opyt i sovremennost’. Moscow, Novyi khronograf Publ., 2014, 740 p. (In Russ.)
- Baidak M.S. Zhinka v umovakh viiny u svitli povsiakdennykh praktyk (na materialakh Halychyny 1914–1921 rr.). Dys.… k. i. n. L’viv, 2018, 308 p. (In Ukr.)
- Cherry B. They didn’t want to Die Virgins. Sex and Morale in the British Army on the Western Front, 1914–1918. Solihull, Helion Publ., 2016, 325 p.
- Godovova E.V. Povsednevnaia zhizn’ rossiiskogo kazachestva vo vtoroi polovine XIX – nachale XX vv. St. Petersburg, DB Publ., 2020, 462 p. (In Russ.)
- Gol’din S. Russkaia armiia i evrei. 1914–1917. Moscow, Mosty kul’tury Publ., 2018, 448 p. (In Russ.)
- Healy M. Vienna and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World War I. Cambridge^ Cambridge University Press Publ., 2007, 338 p.
- Ivanov V.V. Voina, narodnoe zdorov’e i venericheskie bolezni (v populiarnom izlozhenii). Petrograd, Prakticheskaia meditsina Publ., 1916, 20 p. (In Russ.)
- Knežević J. Gender and occupation. Gender and the Great War. New York, Oxford University Press Publ., 2017, pp. 133–148.
- Nizińska E. Postawy i nastroje społeczne samborzan podczas I wojny światowej. Metamorfozy społeczne 20. Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914–1918. Warszawa, Instytut Historii PAN Publ., 2018, pp. 201–229. (In Pol.)
- Pająk J. Z. Wojna a społeczeństwo. Galicja w latach 1914–1918. Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Publ., 2020, 414 pp. (In Pol.)
- Papée J. Choroby weneryczne u prostytutek we Lwowie w czasie wojny 1914–1918 // Gazeta lekarska. 1919. Nо. 41–42, pp. 498–502. (In Pol.)
- Sunborn J. Velikaia voina i dekolonizatsiia Rossiiskoi imperii. St Petersburg, Academic Studies Press Publ., 2021, 456 p. (In Russ.)
- Shchodra O., Petrii I. Povsiakdenne zhyttia L’vova pid chas rosijs’koi okupatsii 1914–1915 rokiv. Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Tom IX. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP Publ., 2014, pp. 354–378. (In Ukr.)
- Todd L. M. Sexual Treason in Germany during the First World War. New York, Palgrave Macmillan, 2017, 227 p.