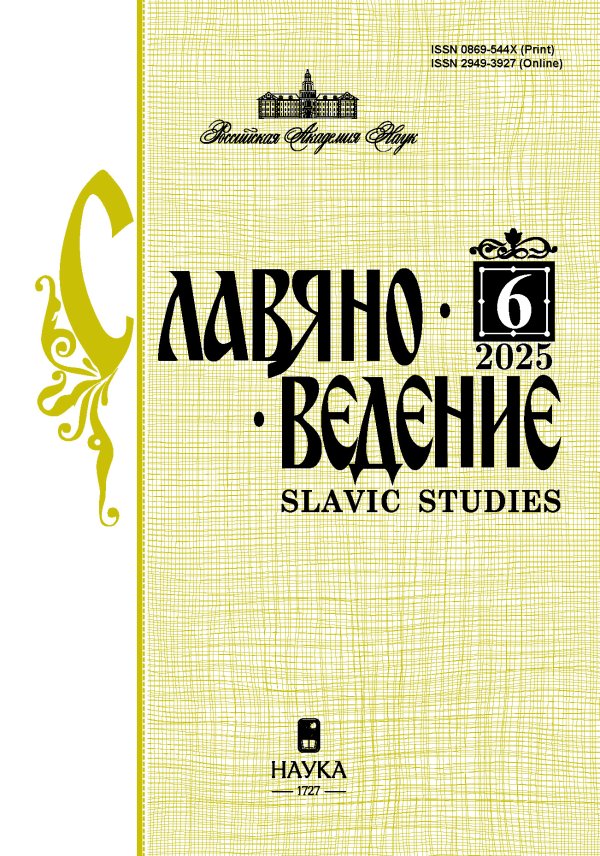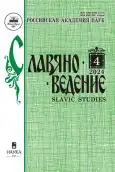The Trauma of Emigration: Language Change (B. Stanišić, V. Čolić, A. Mahmutović, A. Božičević, N. Kulidžan)
- Authors: Shatko E.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 126-136
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/265139
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24040113
- EDN: https://elibrary.ru/WVRDTE
- ID: 265139
Full Text
Abstract
The article is devoted to the problem of choosing a language among modern writers – immigrants from the countries of the former Yugoslavia and it presents four options for «life in another language». A number of authors continue to write in their native language, their works, however, are published, more often in translation into the language of the country of residence, the second category of authors are those who have completely changed their native language to the language of the country of residence, and still others begin their literary career in a non-native, acquired language – the language of the country residence, the last group, the smallest, are authors who began their literary career in a non-native language and, at the same time, not in the language of the country of residence. Loss of home, severance of ties with the homeland, isolation from «one’s own» culture and language are perhaps the most common motives in the texts of migrant authors. Creativity becomes for them a way to reflect on the events of the past (the trauma of war, loss of home) and the present (attempts to adapt to new conditions), which can be interpreted in terms of the therapeutic function of writing as an attempt to overcome trauma. The new space and time gap create a distance that allows one to turn to the inexpressible experience and try to narrativize it. Choosing a non-native language can also create (additional) distance, a mask.
Full Text
Эмигрант – человек, который потерял все, кроме своего акцента 1.
Волна эмиграции из стран бывшей Югославии 1990-х годов, связанная с распадом СФРЮ, считается самой массовой за всю историю региона: на территории от Вардара до Триглава сегодня проживает на три с половиной миллиона человек меньше, чем в 1991 г. В Боснии и Герцеговине население сократилось на четверть, Сербию покинуло более миллиона человек, в Хорватии проживает на одну пятую меньше жителей, нежели в начале распада страны, а Северная Македония потеряла почти десять процентов своего населения 2. Большая часть эмиграции пришлась на 1990-е годы и была связана с военными действиями, однако этот процесс не прекратился с окончанием конфликта, по сути, он продолжается и по сей день.
Миграция подобного масштаба кроме прочего породила и так называемую ex-juga эмигрантскую литературу. Среди тех, кто бежал от войны, были и уже состоявшиеся писатели, и те, кто только начинает писать в изгнании. Независимо от поколения, к которому принадлежит (будущий) литератор, перед ним неизбежно встает вопрос выбора языка: писать на родном, сменить его на приобретенный – язык страны проживания, или же найти менее очевидный путь.
Среди авторов, которые предпочли писать на родном языке, П. Финци (1946, Сараево, Босния и Герцеговина – Великобритания 3), Ж. Радакович (1947, Нови-Сад, Сербия – Германия), Н. Радич (1959, Белград, Сербия – Канада), И. Джерич (1969, Приедор, Босния и Герцеговина – Канада), Б. Сейранович (1972–2020, Брчко, Босния и Герцеговина – Норвегия). Некоторые из этих авторов впоследствии вернулись на родину, например, С. Тончич (1946, Грдановци, Босния и Герцеговина – Германия / Нови-Сад, Сербия), С. Мехмединович (1960, Тузла, Босния и Герцеговина – США / Сараево, Босния и Герцеговина), Д. Дедович (1963, Земун, Сербия – Германия / Белград). К этой же категории можно отнести и тех, кто пишет преимущественно на родном языке: Я. Тешанович (1954, Белград, Сербия – Канада) художественные произведения пишет по-сербски, а нон-фикшн – по-английски и по-итальянски, Б. Станишич (1956, Риека, Хорватия – Италия) написал по-итальянски всего несколько произведений, основной корпус его текстов написан по-сербски, Н. Йованович (1973, Белград, Сербия – Канада) прозу и поэзию пишет на родном языке, а научные исследования – по-английски.
Те, кто эмигрировал в молодые годы, чаще начинают писать уже на языке новой страны: прежде всего это рожденные в 1970-е годы, например, Н. Кулиджан (Мостар, Босния и Герцеговина – США), А. Юрьевич (Риека, Хорватия – США), А. Божичевич (Загреб, Хорватия – США). Авторов, которые сменили язык творчества, значительно меньше: В. Чолич (1964, Оджак, Босния и Герцеговина – Франция) с 2008 г. полностью перешел на французский язык, а А. Хемон (1964, Сараево, Босния и Герцеговина – США) все чаще пишет по-английски, однако не отказывается и от родного языка, в особенности это касается проектов с боснийской проблематикой. Особняком стоит случай А. Махмутовича, иммигрировавшего в Швецию, начавшего свою карьеру, однако, по-английски.
В 2019 г. в Сербии вышла антология «Život na drugom jeziku» («Жизнь на другом языке»), состоящая из ряда эссе, в которых современные авторы разных поколений, эмигрировавшие за пределы стран бывшей Югославии, делятся своим личным опытом в решении вопроса выбора языка, рассуждают о (не)возможности возвращения к языку прежней жизни, о развитии языка, трудностях перевода и т. д. В данной статье приводятся взгляды и стратегии нескольких заметных писателей, по-разному разрешивших языковую дилемму; основным источником для анализа послужила упомянутая антология.
Божидар Станишич родился в Високо (Босния и Герцеговина), изучал югославскую литературу в университете в Сараеве, некоторое время преподавал сербохорватский язык и литературу в Маглае (Швейцария), а с 1992 г. живет с семьей в Италии. Серб из Боснии, он пишет на родном языке, его произведения, однако, преимущественно издаются в переводе на итальянский 4.
Во многих интервью он вынужден отвечать на одни и те же вопросы: откуда он, кем себя ощущает, где живет. Более 15 лет назад Станишич сформулировал ответ: «[я живу] В промежуточном периоде. […] Этот промежуточный период я позднее объяснил в записи о странствиях и языке: когда я действительно, то есть как турист, там, где больше не живу, и говорю что-то о годах после того, всем известного 1992-го, всегда – взгляды, немые и понятные, сообщающие, что я тогда не был там; когда в стране, где я живу, я говорю о чем угодно из периода до того, всем известного года, мне говорят – правда, всегда вежливо – что тогда я не был здесь» 5. Для боснийского общества Станишич из диаспоры, для итальянского – беженец. Сам автор предпочитает не давать прямого ответа. На вопрос, итальянский он автор или сербский, он отвечает «ничей», тут же добавляя, что он автор «своих читателей» 6, и несмотря на то, что подавляющее большинство его текстов написано по-сербски, сам он пишет, что его литературный опус создан на двух языках 7. При этом основным языком он считает родной: «Исходный – идиш, так я назвал сербохорватский, который в 90-е годы, т. е. в период кульминации этническо-идентичностной трагикомедии, получил разные политические имена. […] Второстепенный язык – итальянский, который я не выбирал, это он, как говорят некоторые, выбрал меня» 8. Свой идиш Станишич (по его собственным словам, это lingua bastarda, с сербским и боснийским синтаксисом, в котором могут проявиться и черты хорватской нормы) более 15 лет не использовал в публичных выступлениях, для этих целей писатель чаще обращается к итальянскому, за владение которым регулярно получает высокую оценку, отдавая себе отчет, что эта оценка – высокая только для иностранца 9. Станишич написал по-итальянски одну драму («Il sogno di Orlando») и один сборник рассказов («Piccolo, rosso»). В первом случае выбор был продиктован проблематикой самого текста: кризис движений за мир в Италии и шире – Европе. Во втором писатель поддался искушению и поставил эксперимент, результатом которого стало осознание, что он может писать только на одном языке – своем идише. Станишич переименовывает родной язык, чувствуя себя повсеместно чужим: в Италии он вынужден переводиться, на родине его практически не печатают (издательства даже не отвечают на его письма). Отсылка к гонимому еврейскому народу вряд ли случайна.
Велибор Чолич – пример писателя, начавшего писать на родном сербохорватском языке, но впоследствии сменившего его на другой. Произведения, написанные им до начала войны, утрачены, первые романы во Франции он пишет на родном языке, а с 2008 г. полностью переходит на французский 10. О своей адаптации в новой стране и внутренней трансформации он пишет так: «Преобразование моей манеры одеваться длилось несколько долгих сезонов. […] Путь к ментальной нормализации длился, однако, несколько дольше. С 1993-го г. до сего дня: научиться говорить “спасибо” и “пардон”, всегда и всем. Это вежливо. […] С 1993-го г. до сего дня: научиться тишине. Двигаться без шума, есть в тишине, тихо разговаривать, вежливо писать. С 1993-го г. до сего дня: чертить новые границы. Принимать геополитику как судьбу. Люди вас больше не спрашивают, кто вы или как ваши дела. Они спрашивают просто откуда вы. На это я иногда отвечаю: “Я не откуда, я здесь”» 11.
Первая тяжелая внутренняя перемена в эмиграции для Чолича касалась именно языка: «беженец не говорит на языке, он его проживает» 12. Радость от того, что он сумел выбраться живым, быстро сменилась страхом: будущий писатель в один миг стал неграмотным, немым нелегалом, человеком, не способным ничего сказать, ничего не знающим, плюс к этому – бедным, «неизбежно воспринимаемым как идиот», «человеком-тенью» 13, занимающим много места, но бесполезным. При этом Чолич отдает себе отчет, что у него было и преимущество перед другими беженцами: он был «европейским» иностранцем, невидимым, иностранцем «только из-за невозможности говорить на прекрасном французском языке» 14. Освоение нового языка стало для него одновременно способом выжить, адаптироваться к новым условиям и, в конечном итоге, стать участником франкоязычного литературного процесса. На сегодняшний день он пишет на двух языках, французском и сербохорватском, замечая, однако, что у него есть акцент даже на письме: «Это так. Моя граница – это язык, мое изгнание – это мой акцент. Уже 25 лет я проживаю свой акцент во Франции. Целую жизнь, на самом деле. И чувствую себя хорошо, настолько хорошо, что часто, бывает, думаю: смотри-ка, я француз» 15.
Чолич – пример иммигранта, стремящегося принять новые правила игры, впитать новые нормы, не пытающегося при этом полностью отречься от своего происхождения и скрыть за пеленой молчания свое прошлое: основная проблематика его творчества так или иначе связана с событиями 1990-х годов 16. Он прекрасно понимает, что уже просто его фамилия и имя выдают в нем апатрида 17. И тем не менее его новая страна «старела» вместе с ним, «теперь она удобная, как туфли, купленные год назад» 18, а он сам снова «вооружен», его защищают три воздушные подушки: «время, пространство и язык» 19. Стратегия, выбранная Чоличем, может быть названа мимикрией в понимании Х. Бабы, предложившим данный термин для обозначения копирования норм, образа жизни доминирующей культуры [Хоми Баба 2020, 54].
Поэт20 Ана Божичевич, выросшая в хорватском Задаре и эмигрировавшая в США в 1997 г., начала публиковаться уже на новом для нее, английском, языке. Она пишет о смене языка так: «Когда я приехала в Нью-Йорк в девятнадцатилетнем возрасте, мои стихи на хорватском умолкли. Я не предвидела роковые последствия этого побочного эффекта эмиграции. Писать на хорватском […] как попытка напеть тонкую внутреннюю мелодию, пока огромный нью-йоркский оркестр ревет другую мне в лицо. Именно через музыку […] я уловила ритм английского языка, превратила его в гибридное самовыражение и запела на своем новом языке. На днях я переводила свои английские стихи на хорватский и чувствовала себя Алисой в стране чудес, с искаженной перспективой и неопределенной идентичностью» 21. Интересно, что в стихах Божичевич появляются мотивы двуязычия («[я бы] ползала как змея, та, у которой язык на две части» 22), поисков своего я («На свой день рождения я хочу торт, Что покажет мне цвет моей души» 23), пересмотра прошлого («Такое ночное утро, мне бы хотелось отправиться в прошлое / Чтобы шлепнуть себя по заду, когда я родилась» 24).
Николина Кулиджан, писатель и сценарист 25, в двенадцатилетнем возрасте бежавшая из Герцеговины в Сербию, а спустя еще шесть лет перебравшаяся в США, также начала писать уже по-английски. Однако проблема смены языка / диалекта коснулась ее раньше: «В тот момент, когда мы оставили Мостар, мой язык стал тем, что меня выдавало и обозначало как другую» 26. Первое время она намеренно не меняла свою речь («Если уж я должна быть аутсайдером, то буду полным достоинства аутсайдером» 27). Адаптировавшись в Белграде, Кулиджан постепенно перенимает новую для себя норму, оставляя язык детства только для семейных собраний. После переезда в Америку, оставшись без регулярных контактов с семьей, она постепенно теряет родной язык, а английский при этом остается очевидно выученным: «С английским – меня никогда не примут за носителя. Даже простого “привет”, слова, в котором нет ни одного сложного для меня звука, достаточно, чтобы вызвать неизбежное “а ты откуда?”, вопрос, ответ на который содержит перечень всего, что я на протяжении своей иммигрантской жизни нашла и потеряла» 28.
Кулиджан воспринимает свои годы в Белграде не только как тяжелое время, но и как важный опыт, показавший ей, что «возможно заново отстроить свою жизнь, еще раз создать сообщество, вновь сформировать идентичность», а переезд в Америку для нее становится шансом освободиться от «давления предков, общественных норм своего племени» 29. При этом нельзя сказать, что она полностью отрекается от своих корней и ощущает себя полноценной американкой 30. Наблюдая на собственной свадьбе за веселыми и легкими гостями со стороны жениха и своими угрюмыми, напряженными, неуступчивыми отцом и братом, Кулиджан понимает, что ее «место всегда, в любом случае, будет именно здесь – между» 31. Герои ее дебютного романа 2020 г. «Бесплодная Грейс» так же находятся «между»: между старой и новой жизнью, между родиной и новым домом, между желаемым и невозможностью его обрести.
Аднан Махмутович оригинален в вопросе выбора языка: иммигрировав в Швецию, пишет он по-английски 32. Отвечая на вопрос почему, он говорит: «Потому что моя мама не говорит по-английски. Связь матери и родного языка – слишком интимна. […] Шведский тоже не ее сильная сторона, но зачем рисковать» 33. Другой фактор, повлиявший на это решение – то, что национальные конфликты сделали свое дело, балканские языки менялись и развивались разными путями и под разными влияниями, и Махмутович чувствовал, что он, «новоиспеченный швед, больше не часть этого процесса». В одном из интервью он говорил: с определенного момента «боснийский стал моим вторым языком, как и шведский, а также английский (который является моим третьим или четвертым языком). Итак, теперь у меня есть три вторых языка» 34.
Он вспоминает день, когда накануне войны учительница заявила, что теперь они изучают сербский язык (а не сербохорватский или хорватско-сербский). Он был так ошарашен этим абсурдом, что даже не запомнил ее ответ на вопрос, что же они учили до этого. Рассуждая о родном языке, Махмутович приводит и еще одну причину, по которой он пишет не на нем: его версия боснийского постепенно все больше и больше расходится с тем, как говорят в его родном городе («возможно я говорю с баня-лукским акцентом 90-х, тогда как сейчас у жителей Баня-Луки какой-то другой язык» 35). Пытаясь не утратить богатство родного языка, «который учил сам Гете, чтобы наслаждаться боснийской поэзией», Махмутович забыл ругательства, которые создают особый колорит и живость речи: «Я чувствовал себя каким-то пуританином, потому что перестал использовать даже самое простое “твою ж”, что уж говорить о грамматических выкрутасах, где только каждое второе слово нормальное» 36. С определенного момента посещение родины стало для него только физическим перемещением, перестало быть путешествием в родной язык, который теперь стал еще одним «вторым».
Об этом разрыве между живым языком и его законсервированной эмигрантской версией пишет и философ П. Финци: «Мой “родной” язык – язык моего происхождения – в вакууме, поскольку он не укоренен в ежедневной жизни и постепенно становится “мертвым”, “довоенным” языком, полным архаизмов, анахронизмов и испытывающим на себе сильное влияние английского синтаксиса» 37. Сам Финци, однако, преимущественно пишет на родном языке, хотя и отмечает: скрываясь под маской другого языка, автор может в некоторой степени стать кем-то другим, но он осознает, что «сказал бы все это по-другому на своем родном языке. На нюанс иначе. И в этом, в этом нюансе и есть суть» 38.
Авторы-мигранты в подавляющем большинстве случаев проходят через кризис собственной идентичности: оказавшись в иной среде, они перманентно находятся в динамичном процессе выстраивания нового видения себя в постоянном столкновении ценностных ориентиров исходной и приобретенной культур. Степень интеграции, т. е. степень сохранения определенных черт своей культуры (языка, вероисповедания и других этнических маркеров) и вместе с тем включенности в жизнь общества принимающей страны, зависит от готовности и способности мигрантов приспосабливаться к новому окружению, прежде всего это касается овладения нового языка [Berry 2001, 615–631]. По мнению Х. Баба, в современном мире человека-мигранта ценят не за его приверженность заранее заданным этническим принципам и культурным традициям, а за «силу традиции, которая должна быть заново описана с учетом случайностей и противоречий, которые сопровождают жизнь тех, кто находится в меньшинстве» [Bhabha 1994, 2]. Труднее всего и медленнее адаптируются мигранты первого поколения, однако высокий уровень образования может способствовать облегчению и ускорению процесса. Переселенцы, включенные на том или ином этапе в систему образования, так же более успешно приспосабливаются к новым условиям. По мнению Л. Йовановича, у мигрантов в третьем поколении складывается «двойная принадлежность», ведущая к флюидности, гибридности идентичности, которая формируется на границе между противопоставленными друг другу культурами [Jovanović 2017, 150]. Представляется целесообразным предположить, что мигранты-интеллектуалы с высоким уровнем образования, сменившие место жительства в молодом возрасте и включенные в культурную жизнь новой страны, также могут быть носителями гибридной идентичности (например, Н. Кулиджан и А. Божичевич, и даже В. Чолич, ощущающий себя французом).
Литература, созданная авторами-мигрантами, в современном литературоведении часто обозначается термином «мигрантская» (Migrantenliteratur), который, однако, изначально использовался в немецкоязычных исследованиях в первую очередь для обозначения произведений, написанных трудовыми мигрантами. Со временем термин стал использоваться в более широком значении – корпуса художественных текстов, созданных авторами с опытом переселения 39.
Стоит заметить, что Б. Станишич выступает с резкой критикой выделения мигрантской литературы в отдельную категорию, во-первых, потому что к ней относят все «от простых свидетельств до одиночных рассказов или в особенности стихотворений – как будто каждый мигрант […] может открыть в себе поэтическую жилку, на которой можно сыграть» 40, а во-вторых, потому что история литературы знает немало примеров авторов, принявших язык новой родины как собственный и внесших в него свой вклад (Конрад, Аполинер, Набоков и т. д.), и что их воспринимают как полноправных участников литературного процесса, несмотря на их происхождение. По мнению Станишича, навешивание ярлыка «мигрантской» литературы на творчество того или иного автора провоцирует однобокое восприятие его произведений; также он опасается, что это обозначение рано или поздно начнет распространяться и на мигрантов второго, третьего, а то и четвертого поколений, для которых «приобретенный» язык зачастую единственный, которым они владеют.
Станишич, однако, спорит с бытовым значением термина, тогда как в современной научной литературе существует более четкое понимание того, что относится к мигрантcкой литературе. Так, например, Лесли Адельсон считает, что «литература о миграции пишется не только мигрантами» [Walkowitz 2006, 533], поскольку писателей-мигрантов от немигрантов отличают не географические границы и места, а гибридный характер их произведений. Карин Мардороссян [Mardorossian 2003, 17] предполагает: то, что автор является писателем и мигрантом и даже пишет об опыте миграции, не гарантирует принадлежности к мигрантской литературе, и наоборот – писатели-неиммигранты, изображающие персонажей, преодолевающих географические и культурные границы и демонстрирующих формирование гибридной идентичности через межкультурные конфликты, могут создавать мигрантскую литературу. Биография и воспоминания автора гораздо менее важны, чем то, как писатель проявляет в своем творчестве гибридность, транснационализм и межкультурное взаимодействие [Pourjafari, Vahidpour 2014, 687] на разных уровнях литературного произведения – тематике, нарративе, в выборе языка [Frank 2008, 8].
По сути, творчество всех авторов, о которых шла речь в данной статье, можно отнести именно к «мигрантской» литературе. Все тексты так или иначе на уровне проблематики касаются вопросов утраты, поиска, обретения (двойной, флюидной) идентичности. Эмиграция, с одной стороны, лишает писателей (части) прежней идентичности, а с другой, не позволяет обрести новую, стать по-настоящему своим в новом окружении. Утрата дома, разрыв связей с родиной, оторванность от «своей» культуры и языка – едва ли не самые частые мотивы в текстах авторов-мигрантов 41.
Идентичность, то, как мигранты справляются с новыми условиями, неопределенность, неуверенность и коммуникативные трудности становятся основными темами произведений мигрантов [Pourjafari, Vahidpour 2014, 680]. Более того, мигрантскую литературу стоит отделять от биографий или мемуаров, касающихся лишь воспоминаний автора-мигранта об утраченном прошлом: писатель-мигрант пересматривает собственное прошлое, через опыт гибридизации воссоздает утраченную идентичность. Исследователи сходятся во мнении, что в литературе такого типа выражаются двойственность, множественность, смена идентичностей и интерпретаций, а мигрантская литература часто рассматривается как результат противоречий между желаниями и возможностями человека – как отражение обстоятельств в прошлом и ожиданий от будущего [Ibid., 690].
Творчество становится способом отрефлексировать события прошлого (травму войны, утраты дома) и настоящего (попытки адаптации к новым условиям), что можно трактовать в аспекте терапевтической функции письма как попытку преодоления травмы. Новое пространство и временной разрыв создают дистанцию, позволяющую обратиться к невыразимому опыту и попытаться его нарративизировать. Выбор неродного языка также может создавать (дополнительную) дистанцию, маску, способствующую целительной диссоциации. Этот тезис подтверждают слова А. Махмутовича: «В течение многих лет я чувствовал, что у меня нет языка, который я мог бы назвать своим, поэтому я подумал о том, чтобы попробовать знаменитый лингва-франка. Это сработало, да так хорошо, что я мог писать честно и высмеивать свою историю, не чувствуя зависимости от нации, подразумеваемой в шведском и боснийском языках. Я понимаю, что для постколониальных народов английский не является нейтральным языком, но для меня это так. Меня он освобождает именно потому, что я не имею к этому никакого исторического отношения» 42.
Независимо от того, сменил ли тот или иной писатель язык, не будет преувеличением сказать, что для него верно высказывание П. Финци: «Мой язык выражает мое двойное существование, мой сравнительный опыт, сложность моей жизни: невыносимое присутствие беспомощной ностальгии, неприемлемое отсутствие изгнания. Это двойное давление отражается в двуязычии, в “там” и “здесь”, в “оригинальности” и “эмансипации”, происхождении и интеграции. Идентичность – это сочетание унаследованного, навязанного, усвоенного и завоеванного» 43.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Božičević A. Birthday. URL: https://www.nytimes.com/2023/02/02/magazine/poem-birthday.html (дата обращения: 28.02.2024)
Božičević A. Person. URL: https://www.washingtonsquarereview.com/ana-boievi (дата обращения: 28.02.2024)
Đorđević K. Bivša SFRJ izgubila 3,5 miliona ljudi // Politika. Available at: https://www.politika.rs/sr/clanak/530244/Bivsa-SFRJ-izgubila-3–5-miliona-ljudi (accessed: 28.02.2024).
Jergović M., Mehmedinović S. Transatlantic Mail. Zagreb: V.B.Z., 2009. 337 s.
O'Keefe C. A Kiss Deferred. URL: https://www.wbur.org/modernlove/2019/01/16/kiss-deferred-kulig-kulidzan (дата обращения: 25.02.2024).
Sharma S. A Bosnian refugee who became a great story-teller: Adnan Mahmutovic on what drives him as a person and author. URL: рttps://www.academia.edu/71235922/A_Bosnian_refugee_who_became_a_great_story_teller_Adnan_Mahmutovic_on_what_drives_him_as_a_person_and_author (дата обращения: 28.02.2024)
Život na drugom jeziku. Beograd: Službeni glasnik, 2019. 231 s.
[1] Цит. по Život na drugom jeziku, 112. Здесь и далее перевод мой. – Е.Ш.
[3] В скобках указаны год, место и республика рождения и страна эмиграции.
[4] Он автор ряда сборников рассказов: «I buchi neri di Sarajevo» («Черные дыры Сараево») 1993 г., «Tre racconti» («Три истории») 2002 г., «Bon Voyage» («Счастливого пути») 2003 г., «Il cane alato e altri racconti» («Крылатый пес и другие истории») 2007 г., «La cicala e la piccola formica» («Цикада и маленький муравей») 2011 г., «Piccolo, rosso» («Маленький, красный») 2012 г., «Portacenere» («Пепельница») 2016 г., «Pepeljara i druge priče» («Пепельница и другие истории») 2019 г., «Večera i druge priče» («Ужин и другие истории») 2021 г., последний из них вышел одновременно по-итальянски и по-сербски; поэтических сборников: «Primavera a Zugliano» («Весна в Сульяно») 1993 г., «Non poesie» («Не стихи») 1996 г., «Metamorfosi di finestre» («Метаморфозы окон») 1998 г., «La chiave in mano» / «Klјuč na dlanu» («Ключ в ладони») 2008 г.; романов: «Gost Ivana Nikolajeviča» («Гость Ивана Николаевича» 2017 г.), «Žirafa u čekaonici» 2018 г. / «La giraffa in sala d’attesa» («Жираф в заде ожидания») 2019 г.; радиодрамы «I tre racconti dello zio Beki» («Три сказки дяди Беки») 2020 г. и театральной драмы «Il sogno di Orlando» («Мечта Орландо») 2006 г.
5 Život na drugom jeziku, 74–75.
6 Ibid., 86.
7 Ibid., 79.
10 Его перу принадлежат сборники рассказов «Les Bostoniques» («Боснийцы») 1993 г., «Chronique des oublies» («Хроника забытых») 1994 г., романы «La vie fantasmagoriquement breve et étrange d'Amadeo Modigliani» («Фантасмагорически короткая и странная жизнь Амедео Модильяни») 1995 г, «Mother Funker» («Маза-фанкер») 2001 г., «Les ténèbres denes de la mémoire» («Темная тьма памяти») 2002 г., «Perdido» («Потерянный») 2005 г., «Kod Alberta» («У Альберта») 2006 г., «Archanges» («Архангелы») 2008 г, «Jésus et Tito» («Иисус и Тито») 2010 г., «Sarajevo omnibus» («Сараево омнибус») 2012 г., «Manuel d'exil, comment réussir son exil en trente-cinq leçons» («Руководство по изгнанию, как добиться успеха в изгнании за тридцать пять уроков») 2016 г., «Le livre des departs» («Книга отправлений») 2020 г., драма «Ederlezi. Comédie pessimiste» («Эдерлези. Пессимистическая комедия») 2014 г.
[11] Život na drugom jeziku, 16.
12 Ibid., 14.
[16] Справедливости ради стоит отметить, что есть ряд произведений, посвященных миру музыки, например, роман «Perdido» о Бене Уэбстере, что является своего рода продолжением его довоенной работы, тогда он работал на радио в Загребе и Сараеве и вел передачи о рок-музыке и джазе.
18 Ibid., 14.
19 Ibid., 15.
[20] А. Божичевич автор нескольких сборников стихов: «Stars of the Night Commute» («Звезды ночного путешествия») 2009 г., «Rise in the Fall» («Взлет в падении») 2013 г., «Joy of Missing Out» («Радость выпадения») 2017 г., «Povratak lišća» / «Return of the Leaves» («Возвращение листвы») 2020 г., «New life» («Новая жизнь») 2023 г.
24 Božičević. Person.
25 Автор эссе и сценария к одноименному анимационному фильму «A kiss deferred by Civil War» («Поцелуй, прерванный гражданской войной») 2015 г. и романа «Barren Grace» («Бесплодная Грейс») 2020 г.
26 Život na drugom jeziku, 21.
27 Ibidem.
30 Забавный эпизод описан в интервью по поводу выхода ее эссе «A kiss deferred by Civil War». Кулиджан отмечает разницу менталитетов и даже культур американцев и боснийцев: героиня в соцсети получает сообщение от своей первой любви: «Я твой парень с 5-го класса, позвони мне, чтобы мы решили, что с этим делать», ей, боснийке, было совершенно очевидно, что это шутка, тогда как некоторые читатели восприняли сообщение как попытку возобновить прерванные отношения. См.: O'Keefe C.
31 Život na drugom jeziku, 27.
[32] Он автор романов «[Refuge]e» («Беженец») 2005 г., «How to Fare Well and Stay Fair» («Как жить хорошо и оставаться справедливым») 2012 г., «At the Feet of Mothers» («У ног матери») 2020 г., сборника рассказов «Thinner Than a Hair» («Тоньше волоса») 2010 г. и монографии по литературоведению «Ways of being free» («Пути быть свободным») 2010 г.
[35] Život na drugom jeziku, 70.
37 Ibid., 112.
39 Некоторые исследователи используют термин «миграционная» литература (Migrationsliteratur), который, однако, на сегодняшний день не слишком распространен.
[40] Život na drugom jeziku, 85.
[41] Стоит добавить, что подобная проблематика встречается и у тех авторов, которые не покидали региона, так, например, М. Ергович, крупный хорватский прозаик боснийского происхождения в книге-переписке cо С. Мехмединовичем, эмигрировавшим в США, «Transatlantic mail» («Трансатлантическая почта») пишет: «Ах, Загреб, Загреб – это город, где всегда найдется кто-то, кто напомнит мне хотя бы раз в неделю, что я не из Загреба. […] Если бы мне не напоминали, я бы и не знал, что вполне можно быть ниоткуда. С тех пор как я перестал быть из Сараева, а я уже несколько лет как перестал, меня не покидает ощущение, что я и в этом городе ниоткуда, ведь раз в неделю мне кто-то указывает на это». Jergović, Mehmedinović 2009, 34.
43 Život na drugom jeziku, 113.
About the authors
Evgenia V. Shatko
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: eshatko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9467-8987
Cand. Sc. (Philology), Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Berry J. W. A Psychology of Immigration. Journal of Social Issues, 2001, vol. 57 (3), pp. 615–631.
- Bhabha H. K. The Location of Culture. London; New York, Routledge, 1994, 285 p.
- Frank S. (2008). Migration and Literature: Günter Grass, Milan Kundera, Salman Rushdie, and Jan Kjærstad. New York, Palgrave Macmillan Publ., 2008, 235 p.
- Jovanović L. Konceptualizacija kulturnog identiteta pripadnika treće generacije srpskih radnih migranata u SR Nemačkoj. Etnoantropološki problemi, 2017, vol. 12 (1), pp. 149–173.
- Khomi Baba: ot dekolonizatsii kul’tury k osmysleniiu jeje deglobalizatsii. Afrika: postkolonial’nyi diskurs, koll. Monografiia, otv. red. T. M. Gavristova. Moscow, Institut Afriki RAN Publ., 2020, pp. 50–59. (In Russ.)
- Mardorossian C. M. From Literature of Exile to Migrant Literature. Modern Language Studies, 2003, 32(3), pp. 15–33.
- Pourjafari F., Vahidpour A. Migration literature: a theoretical perspective. The dawn journal, 2014, vol. 3, no. 1, January–June, pp. 679–692.
- Walkowitz R. L. The Location of Literature: The Transnational Book and the Migrant Writer. Contemporary Literature. Wisconsin, University of Wisconsin, 2006, vol. 47 (4), pp. 527–545.