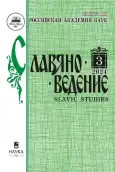Границы, регионы, идентичности в Центральной и Юго-Восточной Европе
- Авторы: Лопатина Е.Б.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 127-135
- Раздел: Научная жизнь
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/262805
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030115
- EDN: https://elibrary.ru/WYKUKJ
- ID: 262805
Полный текст
Полный текст
24–25 января 2023 г. в Институте славяноведения РАН состоялась конференция «Границы, регионы, идентичности в Центральной и Юго-Восточной Европе»1, расширившая проблематику границ и пространств, которая была предметом анализа на круглом столе 2022 г. «Границы и пространства в истории Восточной Европы: от фиксированных до фантомных (вторая половина 1940-х – 1970-е годы)»2. Изменение границ после военных конфликтов XX в. создало новые условия как для развития отношений между странами Центральной и Юго-Восточной Европы, так и для жизни населения пограничных территорий. Не только геополитика и межгосударственные отношения, но и местные, региональные факторы влияли на жизнь локальных сообществ, различных по этническим, конфессиональным и социальным признакам. На конференции, имевшей междисциплинарный характер, были освещены противоречия во внешней политике стран Центральной и Юго-Восточной Европы и межгосударственные споры о границах, специфические черты приграничных регионов и городов пограничья, особенности электорального поведения, отражающие феномен «фантомных границ», а также были затронуты вопросы идентичности сообществ пограничья и повседневной жизни населения при смене власти, обусловленной изменением границ.
Открывала конференцию секция «Границы, территории, пространства: постановка проблемы, терминология и классификация», где была структурирована проблематика исследований о границах. М. В. Дмитриев проанализировал динамику модификаций западных границ «польского мира» в истории Центральной Европы в XIII–XIX вв3., а А. А. Улунян предложил обратить внимание на основные концепты пространственно-политического облика Балкан в конце XX – начале XXI в .4
Во второй секции «Мерцание границ: пограничные споры и противоречия во внешней политике стран Центральной и Юго-Восточной Европы» первым выступил А. П. Сальков с докладом о словацко-венгерских территориальных противоречиях в марте – сентябре 1939 г.5
Тему приграничных споров продолжила Т. А. Покивайлова, которая рассмотрела изменения западных границ Румынии по итогам Венских арбитражей 1940 г. Она отметила, что в течение двух десятилетий межвоенного периода в Венгрии нарастали ревизионистские, реваншистские тенденции, стремление пересмотреть условия Трианонского мирного договора и возвратиться к прежним границам, что сближало ее с гитлеровской Германией. На отошедших к Венгрии по Венскому арбитражу землях начались массовые гонения на румын. Румынская газета «Universul» писала 10 октября 1940 г. о том, что в Северной Трансильвании было убито 300 румын, конфисковано имущества у румынских граждан на два миллиарда лей, 50 тысяч крестьян было согнано с земли, две тысячи чиновников остались без работы. Недовольство Венским арбитражем и потерей части Трансильвании охватило всю страну. Массовые демонстрации прошли в Бухаресте, Брашове, Клуже с лозунгами против Венского арбитража и против короля Кароля II и румынского правительства, принявших условия Венского арбитража. Демонстранты выступали также против политики Германии и Италии, под диктовку которых был проведен Второй венский арбитраж, и Румыния лишилась части Трансильвании. На волне этого недовольства генерал Ион Антонеску организовал государственный переворот. Кароль II был свергнут, и на престол вошел его сын, наследный принц Михай I.
Докладчица подчеркнула, что в результате Второго Венского арбитража в выигрыше осталась гитлеровская Германия, прочно привязавшая к себе как Венгрию, так и Румынию, поочередно обещая решить вопрос в отношении Трансильвании в пользу каждой из сторон, втянув их в войну против Советского Союза.
Выступление А. Ф. Носковой было посвящено польской тематике, а именно проблеме польских границ и власти на переговорах в Москве в августе и октябре 1944 г. После учреждения в Москве в июле 1944 г. ПКНО сформировались условия для переговоров о послевоенных границах Польши и о составе нового польского правительства. 3 августа Сталин принимал польского премьера Миколайчика, для которого приоритетом было восстановление довоенной границы с СССР. Для Сталина проблемой была не граница уже «за плечами» Красной Армии, а факт существования польского двоевластия. Он видел выход в объединении «люблинцев» (членов люблинского ПКНО) и «лондонцев» (членов польского правительства в Лондоне) и 5 августа убеждал в этом ведущих деятелей ПКНО. 6–7 августа состоялась встреча «поляков из Лондона с поляками из Люблина». Спорили по линии прохождения границы с СССР, но особенно обстоятельно и эмоционально о составе объединенного правительства, т. е. о характере новой власти. Никто не хотел уступать свое в нем «большинство».
Поскольку не было получено согласия Миколайчика на границу по линии Керзона, участники переговоров не могли считать итоги переговоров окончательными. Кроме того, поляки не договорились о создании объединенного правительства. Неизбежен был второй раунд переговоров, который завершился 18 декабря 1944 г. беседой Сталина и Миколайчика. Польский премьер, ведя переговоры в Москве и фактически признавая линию Керзона, получил второй реальный шанс начать при поддержке западных союзников восстановление отношений с СССР на условиях социально-политического компромисса левых и либерально-демократических сил в стране и эмиграции. Однако, ничего не добившись в Лондоне, Миколайчик и его кабинет были приговорены к отставке правыми силами.
Подытоживая свое выступление, А. Ф. Носкова отметила, что весной 1945 г. в условиях существования союза Польши с СССР и Временного правительства в стране Миколайчик правильно распорядился третьим шансом. Признав линию Керзона, он два года был вице-премьером Временного Правительства Национального Единства Народной Польши, но после поражения на выборах бежал в Лондон, где оказался «третьим лишним» в польской политической эмиграции.
Вторую секцию «Миграции и мигранты при смене границ и смене власти» открыла И. Н. Шульц докладом, посвященным проблеме идентичности русской эмиграции в послевоенной Чехословакии. Как заметила докладчица, в современном чешском общественном дискурсе укреплен тезис о прекращении деятельности русской эмиграции как единого социального организма с приходом в Чехословакию Красной армии в 1945 г. и связанной с ней депортацией русских эмигрантов в СССР. Не опровергая документальные факты ареста и депортации нескольких сотен русских эмигрантов, но изучив ряд не введенных ранее в научный оборот документов, докладчица утверждала, что русская эмиграция в Чехословакии в первое послевоенное десятилетие не исчезла, а после периода протектората самовоспроизвелась в советской рамке, а именно – в форме Клуба советских граждан в Праге, Брно и ряде других городов словацкой части страны. Не только на волне восхищения победой СССР во Второй мировой войне, но и по иным, часто практическим причинам, русские эмигранты, оставшиеся в Чехословакии, массово принимали советское гражданство. Внутри сообщества выделилась группа людей, нацеленных на отъезд в СССР, тем более такая агитация проводилась Посольством СССР в Чехословакии. Однако докладчица не склонна считать, что решение о реэмиграции люди принимали, только лишь поддавшись пропаганде. Прожив на чужбине четверть века, многие так и не смогли смириться с утратой «потерянного рая» и постоянной необходимостью переопределять себя в условиях иной социокультурной среды. Процесс отъезда происходил постепенно. Первым эшелоном, вместе с перемещенными лицами, которых часто насильственно возвращали в СССР, на родину вернулся последний секретарь Льва Толстого Валентин Булгаков, который оказался в эмиграции, будучи гражданином СССР. Наиболее известным стал состав, отправившийся с реэмигрантами из Праги в Узбекистан в 1955 г. К сожалению, установить, сколько эмигрантов вернулось на родину в первые послевоенные годы, не представляется возможным, так как отдельная статистика по эмигрантам не велась. Деятельность Клуба советских граждан прекратилась в начале 1960-х годов.
И. Н. Шульц пришла к выводу, что эмигранты, оставшиеся в Чехословакии, постепенно утрачивали свою «русскость» под влиянием иной социокультурной среды, поскольку, во-первых, их идентичность была слабее, чем у уехавших, а во-вторых, не все из них хотели подтверждать свою новоприобретенную «советскую идентичность».
Продолжила работу секции А. С. Лубоцкая, которая проанализировала особенности формирования идентичности малоазийских греков после катастрофы 1922 г. Малоазийская катастрофа стала величайшим бедствием в истории молодого греческого государства: ушла в небытие «Великая идея» возвращения исторических территорий, была перечеркнута многовековая история эллинизма Малой Азии, были уничтожены тысячи мирных жизней, а более миллиона малоазийских греков лишились своих корней.
В 1923 г. на Лозаннской мирной конференции был узаконен принудительный обмен населением между двумя странами: греческую землю покидало порядка 380 тысяч мусульман, турецкую – почти 1 100 000 православных греков. Насильственного выселения из своих домов смогли избежать лишь греки Константинополя и мусульмане, проживающие в Западной Фракии. Вопрос с поселением малоазийцев так и не был решен вплоть до конца Второй мировой войны. Не все переселенцы владели греческим языком, многие из них были туркофоны, что, учитывая огромную численность новоприбывших, вызывало негативные, порой даже агрессивные чувства среди местных жителей. Как данность малоазийская Родина все чаще становилась для беженцев утраченным Раем. Ощущение инаковости беженцев, их непохожесть на остальных порождали особые отличительные черты в жизни и деталях быта малоазийцев. В политическом плане новоприбывшие все чаще придерживались левых или либеральных взглядов. Что касается социума, несмотря на интеграцию второго поколения беженцев в греческое общество, переселенцы старались держаться своего круга, своих территориально-исторических корней.
После двух войн – Второй мировой и гражданской – разделение греческого общества на «своих» и «чужих» стало постепенно исчезать. Начался процесс культурной интеграции малоазийцев в греческую семью. За это отвечало в том числе и греческое кино. В 1960–1970-х годах было снято несколько знаковых работ, посвященных беженцам. Основная идея фильмов – потерянный рай, но сквозной смысл картин был намного шире. Это и задача встраивания переселенцев в греческое общество, в общую историю (малоазийцы – такие же потомки древних греков, продолжатели традиций эллинизма), и все та же проблема сохранения памяти.
Подводя итоги, А. С. Лубоцкая подчеркнула, что, с одной стороны, малоазийцы влились в греческую семью, обогатив ее новыми культурными кодами и традициями, с другой – они сохранили память о своих корнях, утерянной Родине и надежду на возвращение. Бывшие беженцы продолжают поддерживать свою историческую общность, бережно собирая и охраняя воспоминания предков.
Завершил работу секции доклад Т. В. Волокитиной о феномене двойной лояльности болгарской диаспоры в румынской Добрудже в контексте взаимных притязаний двух соседних государств на спорную территорию. Болгары Южной Добруджи представляли собой в основном аграрное население. От других региональных сообществ их отличали православное вероисповедание, разговорные болгарские диалекты, традиционные культура и менталитет. Добруджанских болгар характеризовала четко выраженная этнонациональная идентичность. Проживая в родственном государстве с 1913 г., они составляли многочисленное и компактное пограничное меньшинство с определенным ирредентистским потенциалом. В Бухаресте, озабоченном, в первую очередь, бессарабским вопросом и отношениями в связи с ним с Советской Россией, опасались симбиоза болгарского ирредентизма и идеологических установок Коминтерна. И это обстоятельство определило политику Бухареста в Добрудже. Она характеризовалась двойственностью: вытеснением компактного болгарского элемента и румынизацией края, с одной стороны, и намерением интегрировать болгар в румынскую жизнь, что проявлялось в демонстрации толерантного к ним отношения.
Зримое инкорпорирование части местной болгарской элиты в Великую Румынию выразилось в проявлении двойной лояльности. В докладе представлена история подготовки и появления добруджанского «махзара» 1940 г., прорумынской декларации, цель которой – поддержать дипломатические усилия Бухареста по сохранению всей территории Добруджи в границах Румынии, и получившей в болгарских политических кругах остро негативные оценки.
Т. В. Волокитина пришла к выводу, что Добруджанский «махзар» являет собой частный случай феномена двойной лояльности. Однако он интересен еще и тем, что коррелирует в наши дни с контекстом транснационализма, выходящего за национальные и государственные границы. Способствуя политическому, экономическому и культурному развитию и укреплению тесных связей, транснационализм одновременно разрушает функции и роль государств и их идентичность. Проблема выбора единственной лояльности актуализируется в наши дни, в том числе и в связи с нарастанием волн мигрантов и их поведением в странах проживания. Особенно обостряется она в условиях конфликта между родным государством и государством проживания, фактически лишая мигрантов альтернативы.
Завершающую секцию в первый день работы конференции – «Пограничные регионы: внешнее и внутреннее развитие в контексте войн и международных конфликтов» – открывал А. С. Стыкалин докладом, посвященным судьбе карпатской исторической провинции Марамуреш в контексте истории XX в. В сообщении А. С. Стыкалина речь шла о том, как остродраматические перипетии, пережитые Карпатским регионом в XX в., сказались на судьбе края Марамуреш, находившегося на перепутье разных культурных и политических влияний и исторически занимавшего пограничное положение. Венгерский комитат Марамарош, расположенный на крайнем северо-востоке земель «святого Иштвана» (и соответственно венгерской половины дуалистической Австро-Венгрии), после Трианонского договора 1920 г., зафиксировавшего распад исторической Венгрии, трансформировался в пограничный (с образовавшейся на карте Европы Чехословакией) северо-западный румынский уезд по сути с тем же, только румынизированным названием – Марамуреш.
Этот удивительно живописный гористый край непосредственно граничит сегодня с Закарпатской Украиной, территория которой принадлежала до 1918 г. другим северо-восточным венгерским комитатам и дает сходные образцы народной материальной культуры, деревянной архитектуры. Еще в конце XIX в. его облюбовали художники (надьбанская школа – одно из самых заметных течений венгерской живописи). Ее основатель Ш. Холлоши стал профессором мюнхенской художественной академии, у которого учились и русские художники М. В. Добужинский, В. А. Фаворский. В сообщении отмечена роль Мармароша (как называется этот край по-украински) в формировании национального движения закарпатских русин (печально известные Мармарош-Сигетские судебные процессы против его активистов в канун Первой мировой войны), затронуты последствия Холокоста 1944 г. для этнического состава населения и культурного облика этой провинции (родины лауреата Нобелевской премии мира Э. Визеля, посвятившего жизнь раскрытию правды о Холокосте). В 1950-е годы пограничное расположение края сделало сигетскую тюрьму (основанную еще при Габсбургах) оптимальным местом для содержания наиболее потенциально опасных оппонентов коммунистического режима – ведь в случае волнений в Румынии они быстро могли быть переправлены на территорию СССР. Камера, в которой в 1953 г. скончался крупный политик Ю. Маниу, превращена сегодня в музейный зал.
Пограничность региона проявлялась не только в поликультурности и поликонфессиональности, но и в особом стратегическом значении при выстраивании отношений соседних дружественных стран (например, Чехословакии и Румынии между войнами), и в том, что при определенных условиях он мог стать объектом территориальных притязаний соседей, как это произошло в 1945 г., когда руководство Советской Украины предприняло попытку присоединить румынский уезд Марамуреш к перешедшей под юрисдикцию СССР Закарпатской Украине (после 1918 г. входившей в состав Чехословакии) [Стыкалин 2014]. Хотя Сталин не дал на это добро, опасаясь подрыва позиций коммунистов в Румынии, в течение еще нескольких лет Москва вела торг с Бухарестом: за отказ от претензий на г. Сигет и участок железной дороги пытались выторговать некоторые острова в устье Дуная. Следы венгерской и еврейской культур напоминают сейчас лишь о прошлом Марамуреша, этот карпатский край является сегодня местом бесконфликтного сосуществования двух языков и культур – румынской и украинского национального меньшинства.
Н. Н. Приступа продолжила тему пограничья, обратившись к истории Карловарского края в 1945–1989 гг. В докладе было подчеркнуто, что окончание Второй мировой войны кардинальным образом изменило мир карловарцев. Край не обошли стороной социальные потрясения, вызванные сначала насильственным выселением его немецкого населения, а затем строительством социализма в стране. И в том и в другом случае это привело к серьезным социально-экономическим и культурным последствиям. В первые послевоенные годы, прежде всего, реализация положений Кошицкой программы и декретов Бенеша подорвали устоявшийся образ жизни карловарцев. Депортация немцев незамедлительно сказалась и на плотности населения некоторых районов края вплоть до их запустения и одичания. Начавшаяся ускоренная модернизация по советскому образцу продолжила трансформацию социальной структуры Карловарского края (исчезновение одних групп и возникновение других). Население было вынуждено адаптироваться к новым условиям жизни и хозяйствования. После установления власти коммунистов поворотными моментами для них чаще всего становились пятилетние планы развития экономики Чехословакии и их корректировка под влиянием протестных выступлений (как это было, к примеру, в 1950-е годы), а также разработка и последующий отказ от реформ, направленных на либерализацию и демократизацию государства в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
Завершала работу секции А. А. Козлова обобщающим докладом по истории появления и содержанию понятия «Западные Балканы». Докладчица уточнила, что термин «Западные Балканы» используется для обозначения государств, расположенных в западной части Балканского полуострова и не являющихся членами ЕС: Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также территории Косово. До вступления в Европейский союз в 2013 г. Хорватия также включалась в рассматриваемую группу. Данное понятие впервые начало применяться в ЕС в конце 1990-х годов и стало итогом процесса поиска Брюсселем подходящих форматов взаимодействия с государствами, возникавшими в процессе распада СФРЮ. В начале XXI в. термин «Западные Балканы» постепенно вытеснял в документах Евросоюза чуть более ранние определения, появившиеся около 1996 г., такие как «Юго-Восточная Европа-5», «страны, вовлеченные в региональный подход», «страны в Юго-Восточной Европе без Соглашения об ассоциации» и так далее. Данный процесс завершился в 2007 г. с присоединением Болгарии и Румынии к Европейскому союзу.
Понятие «Западные Балканы» на момент появления объединяло страны по двум основаниям: 1) статусу относительно ЕС; 2) их в той или иной степени вовлеченности в процесс распада Югославии. Эту структуру нельзя назвать устойчивой, так как ее границы менялись в ходе продолжающейся на данный момент евроинтеграции рассматриваемой территории, которая делает возможным и дальнейшее сужение границ указанного понятия. Важным представляется тот факт, что объединение частей Западных Балкан в одну категорию происходило не изнутри ввиду объективных процессов сближения входящих в нее субъектов или их самоидентификации в рамках единого географического пространства, а извне.
В заключение был поднят вопрос о том, как можно классифицировать рассматриваемое понятие с опорой на теоретические концепции отечественных авторов [Воскресенский 2012; Регионы и регионализм 2001]. С одной стороны, Западные Балканы слишком малы, чтобы подпадать под категорию международно-политического региона, и скорее могут быть классифицированы как субрегион. С другой стороны, ввиду своей неустойчивости во времени и пространстве, внешнего происхождения, исключения Хорватии, но сохранения ее влияния на процессы на территории бывшей Югославии, можно классифицировать «Западные Балканы» как политическое понятие, а не субрегион.
Второй день работы конференции открыла секция «Пограничный город: история и память», где была рассмотрена проблематика двух городов пограничья – Триеста и Вильнюса.
Первой докладчицей была Н. С. Пилько, которая проанализировала символический смысл Триеста в контексте национальной борьбы словенцев. Докладчица уточнила факты из истории словенцев в Триесте. Первые попытки объединить словенцев Триеста предпринял один из виднейших словенских деятелей того времени Янез Калистер (1806–1864), направлявший значительные личные средства на развитие общественной и культурной жизни. Однако катализатором для развития словенского национального самосознания явился революционный 1848 г., когда словенцы заговорили об объединении всех словенских земель, входивших в состав Австрии, в одну административную единицу.
В годы Первой мировой войны словенское население Триеста и близлежащих территорий опасалось захвата этих земель итальянцами, что в итоге и произошло. После заключения перемирия 3 ноября 1918 г. в Падуе между Австро-Венгрией и Италией итальянская армия получила право от имени Антанты занять все территории до линии, определенной Лондонским договором. В ноябре 1918 г. в специальном обращении на словенском языке от имени итальянского государства словенцам было обещано уважительное отношение к национальным традициям и культуре, которое будет подкреплено созданием большего количества школ, чем во времена Австро-Венгрии. 3 августа 1919 г. все словенские партии на съезде в Триесте объединились в Политическое общество «Edinost» со штаб-квартирой в Триесте. Возглавил общество Йосип Вильфан. Общество позиционировало себя как организацию, отстаивающую интересы словенского и хорватского меньшинства в Италии. В качестве политической цели провозглашалась автономия Юлийской Крайны. После аннексии, которая была ратифицирована в январе 1921 г., итальянское законодательство в полном объеме распространилось на Юлийскую Крайну, в первую очередь это касалось избирательного права [Kacin Wohinz 2005, 520]. 17 октября 1922 г. Юлийская Крайна в качестве единой области стала составной частью Королевства Италия. Королевским решением от 18 января 1923 г. она была разделена на области таким образом, что словенцы нигде не составили большинства.
Н. С. Пилько отметила, что словенцы и по сей день считают несправедливым передачу Триеста Италии. Мэр Любляны Иван Тавчар (1851–1921) сказал, что «Любляна – это сердце Словении, а Триест – ее легкие», и многие словенцы продолжают придерживаться этого мнения.
Во втором докладе, сделанном М. С. Павловой, были рассмотрены описания Вильнюса как приграничного города на примере польской и литовской традиций. В межвоенное двадцатилетие спор о принадлежности Вильно (Вильнюса) и прилегающих к городу территорий, на которые претендовали Польша и Литва, стал главной составляющей конфликта двух государств. Из военно-политического противостояния с Польшей в 1919–1920-х годах за независимость и собственную национально-культурную идентичность Литва вышла победителем, но потеряла свою столицу. Вильнюс из политического и культурного центра литовского государства превратился в провинциальный городок Второй Речи Посполитой, город, через который проходила непризнанная государственная граница, и одновременно – в один из главных субъектов национальных культур Польши и Литвы.
Основателем традиции описания Вильнюса как пограничного города считается его уроженец Ч. Милош («Родная Европа»), а одной из последних работ по представлению Вильнюса как воображаемого города с «мерцающей» государственной и культурной принадлежностью – монография литовско-канадского историка культуры Л. Бриедиса «Вильнюс. Город странников» [Бриедис 2021].
В докладе отмечается, что Л. Бриедис, продолжая традицию Ч. Милоша и отчасти Л. Даррела, приходит к выводу, что Вильнюс – это город, существующий более в пространстве памяти и воспоминаний, нежели реальности. Одновременно в работе Л. Бриедиса сложно не заметить влияния метода Л. Вульфа, который первым стал применять к Восточной Европе концепцию ориентализма Э. Саида, предполагающую, что «Восток» или «Ориент» был сконструирован Западом для собственной идентификации как «конституирующий другой» и одновременно для подчинения себе Востока. Бриедис, исследуя образ Вильнюса через воспоминания путешественников, открывает многие ориенталистские клише в отношении Вильнюса. Однако в то же время приведенные тексты свидетельствуют, что в пограничном городе сочетаются «несколько Европ», а колониальный подход к исследованию пограничного города Восточной Европы не всегда применим.
В следующей секции «Пограничные нарративы: идентичность и репрезентация» выступила Н. М. Куренная с докладом о национальной идентичности в зеркале современной белорусской литературы. Границы белорусских земель, их государственная принадлежность на протяжении столетий неоднократно менялись, что закономерно отразилось на формировании национальной идентичности народа, населявшего белорусский край. Резкие повороты, происходившие в общественно-политической жизни Белоруссии в течение последних 30 лет, нашли свое отражение в динамично меняющейся белорусской картине мира. Эти трансформации с неизбежностью сказались на художественном, идеологическом и структурном развитии национальной культуры, в первую очередь – литературы. Наблюдающаяся поляризация мнений по поводу развития и функционирования родного языка (мовы), а также сосуществования в обществе двух языков – русского и белорусского, наиболее значимых маркеров национальной культуры, отразились и на определенном тематическом и стилевом многообразии белорусской словесности.
Предшествующие поколения белорусских литераторов в своем творчестве также немало внимания уделяли проблемам белорусской идентичности и распространению родного языка как нациосберегающего и объединяющего фактора. С течением времени интерпретация этих непреходящих животрепещущих тем приобрела новые черты и смыслы, а писатели, глубокого погруженные в современный, социально-политический и культурный контекст, все более активно формировали собственные варианты собирательного образа белоруса, расширяя для этого арсенал новых художественных средств и приемов, учитывая общественные запросы и проблемы.
Анализ самых разнообразных писательских версий образа белоруса показал не только их фундаментальную национально-мифологическую основу, но и выявил важную роль долгого пребывания белорусов в составе больших политических агломератов – Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи и СССР в становлении их национальной идентичности. Очевидно, что и инонациональная среда в той или иной степени не могла не влиять на трансформацию поведенческих тактик и характерных психологических черт белорусского народа.
Подытоживая свое выступление, Н. М. Куренная отметила, что в творчестве современных белорусских писателей можно выделить несколько наиболее «горячих» тем, таких как бытование и распространение в современных условиях родного белорусского языка, исследование основных специфических стереотипов и символов национальной картины мира, отношения с соседними народами. Все эти мотивы и темы, по существу, призваны на литературном уровне отразить современный этап процесса белорусской идентификации. Представляется, что коллективно созданный многоголосьем авторских поэтик, мотивов и стилей, портрет собирательного белоруса, несомненно, будет более точным, более приближенным к его подлинному образу.
Работу секции завершил доклад Е. В. Байдаловой о концепте «граница» в творчестве Сергея Жадана. Сергей Викторович Жадан (род. 1974) – выдающийся украинский поэт и прозаик, эссеист, драматург, переводчик. Будучи уроженцем Востока Украины, с самого начала творческого пути писатель выбрал языком своего творчества украинский язык, демонстрируя в том числе сложность и неоднозначность общественно-политических и нациообразующих процессов, протекающих на приграничных территориях Востока Украины.
Начиная с ранних поэтических сборников, в поэзии Сергея Жадана появляется один из наиболее важных для всего дальнейшего творчества (поэзии, романов, эссеистики, драматургии) писателя художественный концепт границы/межи/кордона/порога. Он тесно связан с мотивом путешествия, дороги, вечного движения, ведущего в том числе из города и в город, на границу и от границы. Отчасти поэтому в раннем и дальнейшем творчестве писателя так много разных городов, которые играют важную роль в формировании личности человека, его самосознания и идентичности. Данный концепт представлен главным образом такими языковыми единицами, как «кордон» и «межа», а также смежными с ними «порiг», «ворота», «дверi», может включать в себя лексему «остров» как ограниченное пространство и «вокзал» как метафорические ворота, место границы для выхода в другое пространство.
В прозе и поэзии 2010-х годов концепт границы становится более глубоко и фундаментально связан с геополитическими, историческими, этнопсихологическими реалиями, находящимися вне литературного произведения, что характерно в целом для творчества Жадана, совмещающего остро социальные, злободневные вопросы современной действительности и мифологизм. Основные границы в поэзии и прозе Жадана – не территориальны. Они проходят между жизнью и смертью, свободой и зависимостью, земным и небесным, телесным и духовным, видимым и невидимыми, центральным и маргинальным и т. д. Герои его произведений практически всегда находятся на онтологической границе.
Последнюю секцию «Границы европейской интеграции и электоральное поведение в странах ЕС» открывал доклад А. К. Александровой о европейской интеграции Греции. Греция – первая страна на Балканах, которая присоединилась к европейскому интеграционному проекту: уже в 1981 г., т. е. более 40 лет назад, страна вступила в Европейское экономическое сообщество. Это предопределило впоследствии роль Греции как государства, работающего над расширением границ ЕС в регионе. Вместе с тем Греция неизбежно сталкивалась как с внутренними проблемами, так и с внешними вызовами, влияющими на процесс ее собственной интеграции в Евросоюз и трансформации ее европейской идентичности. Членство в Экономическом и валютном союзе ЕС, с одной стороны, открыло для Греции, по словам занимавшего тогда пост премьер-министра Костаса Симитиса, новую эру безопасности и стабильности, развития и процветания, а с другой – стало одной из главных предпосылок глубокого кризиса суверенного долга, возникшего менее чем десятилетие спустя, под тенью которого в Греции прошли почти все 2010-е годы и который до сих пор негативно влияет на развитие греческой экономики. Долговой кризис стал катализатором распространения в Греции, пусть и умеренных, евроскептических настроений: многие греки разочаровались в европейской перспективе страны и призывали к выходу из состава еврозоны и даже ЕС.
Одновременно с начала XXI в. шел активный процесс включения других балканских государств в Европейский союз, и это обусловило изменение имиджа Греции на международной арене: ранее она являлась «балканским государством в ЕС», а теперь считалась «европейским государством на Балканах». Расширение границ ЕС и углубление европейской интеграции на Балканах (не всегда и не везде успешное) в течение первых двух десятилетий XXI в. является важнейшим фактором текущего и будущего развития региона, и Греция играла и играет далеко не последнюю – однако не всегда однозначную – роль в этом процессе.
А. К. Александрова резюмировала, что границы европейской интеграции Греции в XXI в. имеют по меньшей мере два измерения – внутреннее, определяющее место самой Греции внутри ЕС, и внешнее, показывающее роль Греции как европейского государства на Балканах.
Тема европейской интеграции была затронута А. Р. Лагно, которая проанализировала базовые личные ценности и политические установки как мотивы поддержки поляками Европейского Союза. Несмотря на антиевропейскую риторику польских лидеров (достаточно вспомнить фразу президента А. Дуды, которую он сказал в пылу предвыборной гонки 2020 г.: «ЕС – это какое-то воображаемое сообщество»), 72% поляков позитивно оценивает факт членства в ЕС. Связь между поддержкой или не поддержкой ЕС искали в политических предпочтениях избирателей, приверженности их левой или правой идеологии. Ряд исследователей полагает, что теория израильского ученого Ш. Шварца [Schwartz 2012, 663–664] наилучшим образом подходит для объяснения отношения индивидуума к ЕС. Шварц с коллегами разработали Портретный ценностный опросник. Респондентам предложили оценить каждый из 21 ценностных портрета по шестибалльной шкале: от «очень похож на меня» до «совсем не похож». Этот ценностный портрет включен в European Social Survey, который проводится с 2002 г., данные находятся в открытом доступе.
В одном из последних исследований, проведенных группой ученых из разных европейских стран, предполагается, что различия в поддержке ЕС объясняются не политическими, а психологическими предрасположенностями, такими как личные ценности человека. Они попытались предсказать результаты голосования в гипотетических референдумах о членстве в ЕС в 13 странах, в том числе в Польше. Ученые пришли к выводам, во-первых, Кипр и Ирландия выбиваются из общей картины. Респонденты разделяют ценности универсализма, но при этом голосуют против членства в ЕС. Возможно, из-за партийной системы, которая исторически включает сильные левоцентристские проевропейские партии, хотя имеются и левые евроскептичные партии. Угроза территориальной целостности приводит к эффекту, когда индивиды более разделяют ценности сохранения и хотят при этом остаться членами ЕС. Во-вторых, нет разделения между Востоком и Западом Европы: Болгария и Польша хорошо вписываются в теоретические рамки этого исследования и подтверждают другие работы о сближении государств Центральной и Восточной Европы с «западными» ценностями. А. Р. Лагно подытожила, что ценности являются косвенными движущими силами, стоящими за одобрением европейцами, в том числе поляками, ЕС.
Е. Б. Лопатина продолжила польскую тематику, рассмотрев региональные особенности электорального поведения в Польше в XXI в. Она отметила, что обширная литература по фантомным границам и культурным рубежам не случайно посвящена Польше, чья современная территория сформировалась в результате разделов конца XVIII в. и сдвига границ по итогам Первой и Второй мировых войн. Внутренние границы Польши до сих пор прослеживаются и в характере хозяйства, и в уровне благосостояния населения, и в нормах организации политической жизни. Они же заметны на картах распределения голосов на выборах. Польские ученые, в том числе Т. Зарыцкий [Zarycki 2015, 108–109], выделяют региональные кластеры голосования и их влияние на результаты выборов в Польше. Исследователями предложено немало моделей, объясняющих устойчивость этих различий и базирующихся на двух основных подходах – структурном и нормативном. Сторонники структурного подхода утверждают, что исторически сформированные социальные структуры определяют реальные практики и их идеологическое обеспечение. Например, отставание восточных («российских») воеводств связано с исторически сложившейся слабостью инфраструктуры, а опережающие темпы экономического роста западных – с близостью к европейским рынкам. Нормативный же подход ориентирован на нормы и ценности, доминирующие в разных частях страны, унаследованные от политических традиций держав, которым польские земли принадлежали в XIX в., и сложившиеся в результате перемещений населения после Второй мировой войны. В итоге «фантомные границы» разделяют зоны с разными типами политической культуры, которые проявляются в географии голосования на общенациональных и местных выборах.
Е. Б. Лопатина пришла к выводу, что исторические границы Польши все еще оказывают влияние на электоральное поведение ее жителей. На избирательной карте Польши можно выделить районы, которые входили в состав России, Австрии и Пруссии во времена разделов, а также области, включенные в состав Польши после Второй мировой войны. Несмотря на то что политические границы не разделяют эти земли уже несколько десятков или даже несколько сотен лет, ментальные границы оказываются стойкими и остаются видимыми, в том числе на картах, отражающих географию распределения голосов на общенациональных выборах, независимо от того, какие основные политико-идеологические системы сталкиваются во время голосования – левые против правых, проевропейские против антиевропейских, консервативные против либеральных.
Подводя итоги конференции, А. Р. Лагно указала, что заслушанные доклады подтвердили научную значимость и актуальность проблематики пограничья в исследованиях по Центральной и Юго-Восточной Европе. Выступавшие затронули широкий круг вопросов – от обобщения теорий о «фантомных» и «мерцающих» границ до практических сюжетов по истории регионов Центральной и Юго-Восточной Европы, которые пролили свет на специфику территориальной и политической идентификации населения этих регионов. Изучение указанных проблем продолжается, тематика границ и территорий остается в актуальной повестке дня научно-исследовательской работы Института.
1 Программа конференции доступна на сайте Института славяноведения. URL: https://inslav.ru/conference/24-25-yanvarya-2023-g-granicy-regiony-identichnosti-v-centralnoy-i-yugo-vostochnoy-evrope (дата обращения: 30.01.2024).
2 Программа круглого стола доступна на сайте Института славяноведения. URL https://inslav.ru/conference/25-yanvarya-2022-g-granicy-i-prostranstva-v-istorii-vostochnoy-evropy-ot-fiksirovannyh-do (дата обращения: 30.01.2024).
3 Славяноведение. 2024. № 2. С. 34–54.
4 Славяноведение. 2024. № 3.
5 Славяноведение. 2024. № 1. С. 54–69.
Об авторах
Елена Борисовна Лопатина
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: ellolebo@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7718-400X
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Бриедис Л. Вильнюс. Город странников. М.: ИД ВШЭ, 2021. 336 с.
- Воскресенский А. Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и региональных трансформаций в современных международных отношениях // Сравнительная политика. М.: 2012. № 2. С. 30–58.
- Регионы и регионализм в странах Запада и России / отв. ред. Р. Ф. Иванов. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2001. 260 с.
- Стыкалин А. С. Почему не реализовались новые планы по расширению Советской Украины за счет Румынии в 1945 г. // Славянский мир в третьем тысячелетии. Человек, общество, народ в истории, языке и культуре. М.: ИСл РАН. 2014. С. 202–214.
- Kacin Wohinz M. Slovenci v Italiji // Slovenska novejša zgodovina.1848–1992. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2005. S. 515–540.
- Schwartz S. H. et al. Refining the theory of basic individual values // Journal of Personality and Social Psychology. APA, 2012. P. 663–688.
- Zarycki Т. The electoral geography of Poland: between stable spatial structures and their changing interpretations // Erdkunde. Bonn, University of Bonn, 2015. Vol. 69. № . 2. P. 107–124.