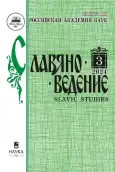Доклад В. М. Турока-Попова на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР 1964 г. о задачах советского славяноведения
- Авторы: Назаров С.О.1
-
Учреждения:
- Архив Российской академии наук
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 108-118
- Раздел: Из истории славистики
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/262801
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030083
- EDN: https://elibrary.ru/WYYTVS
- ID: 262801
Полный текст
Аннотация
В данной статье показан вклад В. М. Турока-Попова в критическое осмысление методологических проблем советской исторической науки, в том числе советского славяноведения, в период оттепели. Из документов личного фонда ученого, хранящегося в Архиве РАН, впервые публикуется его доклад о задачах славяноведения для заседания Секции общественных наук Президиума АН СССР 1964 г., цель которого заключалась в разработке методологических вопросов истории. По материалам заседания был издан сборник «История и социология» (1964), однако доклад Турока-Попова в него включен не был, что ограничило круг лиц, которые могли бы с ним ознакомиться. К публикации прилагается письмо В. В. Альтмана, в котором передана реакция на доклад участников заседания и указываются некоторые причины отсутствия его текста в сборнике.
Ключевые слова
Полный текст
В Архиве Российской академии наук хранится фонд Владимира Михайловича Турока-Попова (1904–1981) (Ф. 2134), доктора исторических наук, специалиста по Новейшей истории Австрии и Германии, проблемам мирового коммунистического и рабочего движения, истории национальных движений в Центральной и Юго-Восточной Европе. Фонд примечателен как своей наполненностью, так и содержанием документов: в него вошли научные, научно-популярные и публицистические работы В. М. Турока-Попова, различные материалы к трудам, личные документы, фотографии и изобразительные материалы, документы о редакционно-издательской, научно-организационной и международной деятельности, а также обширная переписка с учеными и общественно-политическими деятелями, в том числе с иностранными коллегами. Немалая ценность фонда заключается в том, что значительная его часть представлена документами жены В. М. Турока-Попова – Коки Александровны Антоновой (1910–2007), доктора исторических наук, специалиста по истории Индии в Средние века и Новое время. Долгие годы ученые прожили вместе, разделяя все невзгоды и радости судьбы. Кока Александровна оставила после себя интереснейшие воспоминания, из которых были опубликованы: «В. М. Турок (к 90-летию со дня рождения)» [Антонова 1995], «Один из первых советских индологов Н. М. Гольдберг (1891–1961)», «Александр Михайлович Осипов (1897–1969): Мы его звали Дедом» [Антонова 1998], «Мы – востоковеды…» [Антонова 1999]. В 2010 г. памяти К. А. Антоновой вышла книга «В России надо жить долго…» [«В России…» 2010], в которую в том числе были включены ее воспоминания о детстве и стихотворения. В 2013 г. издан сборник «Владимир Михайлович Турок – историк и его время» [«Владимир Михайлович Турок» 2013], включивший также воспоминания Коки Александровны. Однако анализ обширного научного и мемуарного наследия К. А. Антоновой требует отдельного исследования.
В настоящее время фонд В. М. Турока-Попова находится на завершающей стадии научного описания и ждет утверждения экспертной комиссией. Целью данной статьи является освещение вклада ученого в разработку методологических проблем советской исторической науки и публикация его доклада о задачах славяноведения для заседания секции общественных наук Президиума АН СССР 1964 г.
Жизненный путь Владимира Михайловича был полон невероятными событиями, соответствующими масштабу эпохи XX в. Во многом именно факты биографии ученого определили его научные интересы. В 1920 г. юный Владимир Попов был вынужден эмигрировать с родителями (отец – купец 2-й гильдии) из охваченной Гражданской войной России в Константинополь, а оттуда – в Вену. Поступив в Венский университет на специальность «экономист», будущий историк сблизился с группой коммунистически настроенных студентов и в 1921 г. вступил в Коммунистическую партию Австрии, что стало поводом к разрыву отношений с семьей. До 1925 г. Владимир Михайлович проживал в бараке для студентов в небольшом районе Гринцинг, работая корреспондентом Российского телеграфного агентства по Болгарии. За этот период В. М. Турок-Попов познакомился с такими известными деятелями коммунистического движения Восточной Европы, как И. Реваи, М. Ракоши, А. Бараль, Г. Димитров, Ф. Фюрнберг, Г. Гуаперт1. Желая скрыть свое социальное происхождение, Владимир Михайлович представлялся как приехавший в Австрию «из Турции», что послужило поводом к появлению прозвища «Турок», которое на некоторое время стало его псевдонимом, а позднее двойной фамилией – Турок-Попов [Антонова 1995, 92–93].
После возвращения в 1925 г. в Советскую Россию, Владимир Михайлович остался жить в Москве и предпринял попытку перевестись из Коммунистической партии Австрии в ВКП(б), но получил отказ (документы о переводе сохранились в фонде ученого и включают справки, выписки протоколов заседаний комиссии и рекомендации однопартийцев по Коммунистической партии Австрии). С тех пор политическая деятельность была завершена, но началась активная научная работа. До Великой Отечественной войны В. М. Турок-Попов работал в Международном аграрном институте при Коминтерне и в Институте национальностей при ЦИК СССР.
В 1943 г., после реэвакуации из Ташкента, В. М. Турок-Попов поступил в аспирантуру Института истории АН СССР. По воспоминаниям К. А. Антоновой, свое решение Владимир Михайлович мотивировал следующим образом: «Я буду заниматься тем же, чем занимался всю жизнь, только тогда это была текущая политика, а теперь эти же события уже история» [Антонова 1995, 95]. В 1946 г. под научным руководством Ф. И. Нотовича он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Локарнская конференция 1925 г.», на основе которой в 1949 г. была издана монография «Локарно». После защиты В. М. Турок-Попов стал младшим научным сотрудником Института истории АН СССР.
Знание немецкого, французского, английского, итальянского, испанского, болгарского, сербского и польского языков позволяло Владимиру Михайловичу свободно работать с источниками по темам его исследований. Он написал более 20 научных статьей, опубликованных в журналах «Вопросы истории», «Известия АН СССР», «Советское славяноведение» и других, статьи по Новейшей истории и истории международных отношений для Большой советской энциклопедии и публицистические статьи в «Литературной газете». В 1955 г. была издана монография ученого «Очерки по истории Австрии (1918–1929)», на ее основе в 1957 г. он защитил докторскую диссертацию. В 1961 г. В. М. Турок-Попов перешел из Института истории АН СССР в Институт славяноведения АН СССР, а в 1962 г. увидела свет его книга «Очерки истории Австрии (1929–1938)», которая представляла собой второй том монографии.
Научные заслуги Владимира Михайловича были признаны и в Европе. В 1960–1970 гг. по приглашению иностранных коллег ученый посетил Болгарию, Германскую Демократическую Республику, Австрию, Венгрию, регулярно участвовал в конференциях по истории рабочего движения в г. Линц (Австрия), о чем свидетельствует обильное количество документов, сохранившихся в фонде. В 1972 г. В. М. Турок-Попов по инициативе канцлера Австрии Бруно Крайского был включен в состав Комиссии по исследованию истории Австрии в 1919–1938 гг. В том же 1972 г. его избрали почетным членом Исторического общества Венгерской академии наук, а в 1977 г. в Вене ему вручили Почетный крест «За науку и искусство» I класса Австрийской республики за усилия по ознакомлению советских людей с историей Австрии. Также ученый был награжден болгарским орденом Георгия Димитрова.
Несколько отличной от основной сферы интересов в истории, но не второстепенной по значению, в научной биографии Владимира Михайловича стала тема методологии исторической науки. Турок-Попов в первые годы оттепели смело выступил с критикой преобладавшего в советской историографии однотипного повествования об исторических событиях, замкнутого в строгие схемы, игнорирующего специфические особенности того или иного региона, индивидуальных действий исторических личностей, повседневной жизни простых людей. Эти положения он изложил в статье «Историк и читатель», опубликованной в «Литературной газете» № 16 от 4 февраля 1961 г. Подтверждая свою аргументацию примерами из двух учебных пособий для студентов, вышедших в 1959 г., ученый констатировал, что «под пером некоторых авторов крестьянская трагедия при капитализме становится скучной схемой обязательных правил разорения и обнищания на том или ином этапе общего кризиса капитализма», а «крестьянство превращается в безликую массу» [Турок 1961, 2]. Историк не снимал ответственности и с рецензентов и редакторов, нередко закрывавших глаза на недостаточность живости и занимательности изложения материала, пропустивших подобного рода книги к изданию.
Статья вызвала бурную реакцию как профессиональных историков, так и простых читателей и послужила поводом к обсуждению вопросов языка и стиля научных работ по общественным дисциплинам в разных научных инстанциях, в том числе в Институте истории АН СССР. В этих обсуждениях Владимир Михайлович принимал активное участие. Как отметила К. А. Антонова: «После этой статьи и ее обсуждения имя Турока стало известным среди интеллигенции Москвы и Ленинграда» [Антонова 1995, 101].
Другой возможностью для ученого донести свою позицию касавшуюся выработки подходов и новых задач в советской исторической науке стало знаменательное заседание Секции общественных наук Президиума АН СССР, проходившее 3–6 января 1964 г., на котором присутствовали 155 историков, социологов и философов2. На заседании с пленарным докладом «О разработке методологических вопросов истории» выступили академик П. Н. Федосеев и член-корреспондент АН СССР Ю. П. Францев. Заседание завершилось постановлением Президиума АН СССР, первым пунктом которого значилось: «Считать одной из первостепенных задач всех научных учреждений и научных советов Секции общественных наук Президиума Академии наук СССР в области истории всестороннюю разработку методологических вопросов, обратив особое внимание на разработку таких узловых проблем, как взаимосвязь исторического и социологического, соотношение общих закономерностей всемирно-исторического процесса и особенностей развития отдельных стран и групп стран, научная периодизация исторического процесса (соотношение между понятиями формация, историческая эпоха и исторический этап и др.)»3.
Красной нитью всех выступлений участников заседания проходило признание пагубного влияния культа личности И. В. Сталина на развитие исторической науки и необходимость преодоления его последствий, в первую очередь навязанного культом догматизма в науке и, как следствие, непомерного цитатничества и схематизма [Альтман, Куманев 1964, 7]. Не подвергая сомнению статус марксистско-ленинской концепции истории как единственно правильной, ученые попытались наметить те методологические проблемы, разработка которых, по их мнению, требовала особого внимания. Так, одной из ключевых проблем заседания стала проблема соотношения единичного и всеобщего, типического и особенного в истории. Такого соотношения, благодаря которому можно было бы уйти от схематического изложения, но и не отказаться от формационного подхода. Единого мнения по этому вопросу не было. Если, например, В. Г. Трухановский призывал максимально приблизиться к личности в истории, «писать историю, не схематичную, а именно живую историю, с плотью, с кровью, с эмоциями и страстями» [Там же, 134], то М. Я. Гефтер был убежден в необходимости исторического синтеза, который мог быть реализован в разработке марксистской концепции всемирно-исторического процесса, соединяющей национально-особенное с всеобщим, но «очищенной от второстепенного и случайного» [Там же, 148].
Значимость проведения данного мероприятия для советской исторической науки сложно переоценить. Несмотря на многочисленные восхваления заслуг советских историков в борьбе с буржуазной наукой, участники заседания не ограничились критикой схематизма и цитатничества, но были вынуждены признать и низкий уровень разработки методологии истории, что не могло не способствовать плодотворной саморефлексии и поиску новых концепций. Однако заседание Секции общественных наук Президиума АН СССР 1964 г. не стало началом необходимого поиска, а знаменовало собой закат оттепели в историографии, поскольку в новых политических реалиях проведение подобного рода собраний с широким представительством и смелыми критическими замечаниями в адрес собственных методологических концепций было невозможно.
По документам из фонда В. М. Турока-Попова стало известно, что историк присутствовал на заседании как представитель Института славяноведения и подготовил доклад к обсуждению заявленной темы. К сожалению, пока не удалось выяснить, смог ли ученый выступить перед коллегами или с содержанием доклада участники заседания ознакомились самостоятельно. В свою очередь, материалы заседания с докладом П. Н. Федосеева и Ю. П. Францева, текстами выступлений участников обсуждения и постановление Президиума АН СССР были опубликованы в книге «История и социология» (М., 1964) под редакцией В. В. Альтмана и В. А. Куманева. В содержание книги вошли тексты выступлений 22 ораторов и 10 участников, не сумевших выступить в прениях, но изложивших свои соображения в письменной форме (в их числе – М. В. Нечкина, П. А. Жилин, Ю. А. Аверниев и др.). Был опубликован и доклад К. А. Антоновой, посвященный вопросам восточного феодализма и генезиса капитализма на Востоке [Там же, 274–284]. Однако текст доклада Владимира Михайловича в данное издание по неясным причинам включен не был, в результате чего участие историка в заседании осталось нигде не отмеченным.
Обнаружение текста доклада В. М. Турока-Попова и письма В. В. Альтмана восполняет эту историческую несправедливость. Доклад примечателен содержанием, поскольку в сравнении с другими участниками, его автор сделал акцент на постановке задач и методологических рекомендаций специально для советского славяноведения, а не исторической науки в целом, к тому же обошелся без цитирования классиков марксизма-ленинизма и настаивал на продуктивности связей с некоторыми «буржуазными» историками. В свою очередь, приложенное к докладу письмо В. В. Альтмана, кандидата исторических наук, давнего приятеля В. М. Турока-Попова и одного из редакторов книги «История и социология», дает представление о реакции современников на текст доклада и несколько разъясняет причины его отсутствия в книге, но, к сожалению, не проясняет ситуации в целом.
Доклад В. М. Турока-Попова и приложенное к нему письмо В. В. Альтмана представляют собой авторизованные машинописные тексты. Документы публикуются с соблюдением современной орфографии и пунктуации 4 (см. приложение).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР – Академия наук Союза советских социалистических республик.
АРАН – Архив Российской академии наук.
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
КНР – Китайская Народная Республика.
КПК – Коммунистическая партия Китая.
КПСС – Коммунистическая партия Советского союза.
ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет Союза советских социалистических республик.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АРАН Ф. 1731. Секция общественных наук Академии наук СССР. Оп. 1. Ед. хр. 12.
АРАН Ф. 2134. Турок-Попов Владимир Михайлович (1904–1981). Оп. 1. Ед. хр. 6.
Приложение
Доктор исторических наук
В. М. Турок
(Институт славяноведения)
Все выступавшие высказывали, конечно, свою личную точку зрения, а не мнение того Института, в котором они работают. Это и естественно, поскольку в ходе дискуссии возникают некоторые спорные или еще не решенные вопросы. Один из этих вопросов мне хотелось затронуть. Речь идет о круге вопросов, изучаемых советскими славяноведами. В годы Великой Отечественной войны и в первый период после разгрома гитлеровской Германии задача советских славяноведов заключалась прежде всего в опровержении и разоблачении расового бреда гитлеровцев о «расе господ», о том, что славянских народам якобы суждено самой природой находиться в подчинении у немцев, что славяне будто бы не в состоянии были создавать собственную государственность без посторонней помощи и т. д. Все это, конечно, не имело ничего общего с наукой, а имело целью создание лживой и человеконенавистнической системы аргументации для того, чтобы оправдать вторжение германского империализма в страны Восточной и Юго-восточной Европы. Задачу разгрома этих утверждений историки-слависты успешно выполняли как конкретно-историческими работами, иногда по самым детальным сюжетам, так и публикацией крупных обобщающих трудов по истории отдельных стран восточной и юго-восточной Европы. Многотомные издания Института славяноведения по истории Болгарии, Польши, Чехословакии, Югославии, большая коллекция «Ученых записок», «Кратких сообщений» и индивидуальных монографий вошли в общий фонд идеологической борьбы против германского фашизма и помогли укреплению и развитию национального сознания славянских народов, освобождавшихся с помощью Советской армии от гитлеровского господства. Молодой коллектив Института славяноведения создал большую и полезную библиотеку по истории славянских стран.
Однако в новых условиях, когда марксистское славяноведение развилось и окрепло, когда в странах народной демократии возникли квалифицированные кадры историков-славистов, возникает необходимость обсудить некоторые методологические проблемы.
Прежде всего тяжелые последствия культа личности отразились и на советском славяноведении. Сталинско-догматические искривления в национальном вопросе приводили к тому, что при изучении истории славянских народов и их взаимоотношений с другими народами Европы классовый анализ кое-где уступал место изложению и даже восхвалению межнациональных конфликтов, идеализации феодального прошлого, неправильной трактовкой взаимных культурных влияний. В результате этого, интернационалистские позиции в ряде случаев подменялись проповедью национальной исключительности, погоней за ложно понятным приоритетом и противопоставлением наций друг другу.
Мешало развитию науки также принятие в качестве абсолютной истины для всех времен и народов догматического определения нации, которое было дано И. В. Сталиным и приняло характер обязательной директивы5. А обязательные директивы, если они оказываются неправильными, задерживают развитие науки, ибо сковывают творческую мысль марксизма-ленинизма. Сталинское определение нации было схематическим и неправильным и, например, на основе этого определения историческая литература в течение долгого времени продолжала считать австрийцев немцами, а это в свою очередь искажало картину взаимоотношений между народами Центральной и Юго-восточной Европы. Для дальнейшего развития советского славяноведения необходимо обсудить и уточнить определение нации. Это особенно важно в обстановке, когда догматические поклонники И. В. Сталина из числа китайских руководителей пытаются использовать сталинские определения и сталинский догматизм в целом для противопоставления национально-освободительных движений международному рабочему движению6.
В этих условиях особенно большое значение приобретает борьба против проявлений национализма и шовинизма в западноевропейской литературе. При этом историкам-славистам, вероятно, придется обратить внимание и на некоторые смежные науки. Так, например, бросается в глаза факт, недостаточно изученный историками и литературоведами: на протяжении последних лет на Западе происходит своеобразное возрождение литературы на немецком языке, возникшей в течений первых двух (без малого) десятилетий XX в. на территории Австро-Венгрии и продолжавшей развиваться в последующем в государствах-наследниках. При этом буржуазная публицистика и литературоведение популяризируют далеко не всех авторов этого периода. Например, в буржуазной литературе остается почти забытым такой талантливый автор, как Эгон Эрвин Киш7, явно по той простой причине, что его произведения содержат страстный призыв к борьбе против социальной несправедливости и угнетения. С другой стороны, шумную рекламу получают произведения, авторы которых погибли, так и не найдя выхода из окружающей их страшной действительности капитализма. Настроения безнадежности, фрейдистского предопределения человеческой судьбы в итоге непреодолимых, как бы врожденных инстинктов были присущи многим писателям времен распада монархии Габсбургов и первых лет экономического и политического хаоса после окончания мировой войны 1914–1918 гг. Именно эти настроения безнадежного и пассивного пессимизма и привлекают буржуазных историков литературы, многие из которых хотели привить эти же настроения своим современным читателям.
Внимание славяноведов должно, в частности, привлечь то обстоятельство, что особенно широко популяризируются на буржуазном Западе произведения Пражского кружка писателей8. При этом литературоведческий анализ буржуазных критиков стремится приглушить социальное звучание произведений этих писателей, а то обстоятельство, что, находясь в Чехии, они писали на немецком языке, использовать для разжигания национальных антагонизмов.
Западногерманский литературный критик Гюнтер Андерс 9 писал еще лет десять тому назад о Кафке: «Как еврей, он был своим в христианском мире. Как индифферентный еврей – ибо таковым Кафка был вначале – он не был своим среди евреев. Как человек, говорящий по-немецки, он не был своим среди чехов. Как говорящий по-немецки еврей, он не был своим среди немцев. Как богемец, он не был вполне австрийцем»10. Это определение на один волосок отстоит от изображения писателя человеком без рода и родины. Конечно, советская наука не может идти по пути этой замены социального анализа национальным.
Однако попытки разжигания шовинистических страстей требуют от советских славяноведов внимания и отпора, ибо эти попытки далеко не единичны и облегчаются тем, что значительная группа писателей, живших в Праге, были людьми немецкого языка. Поэтому их творчество, как правило, не попадает в поле зрения славяноведов. Между тем жизнь и деятельность этой группы писателей не могут быть поняты без изучения той социальной среды в Чехии и в Австро-Венгрии, в которой они сложились как писатели. Но для изучения этой среды историки и литературоведы-слависты должны будут преодолеть рамки чисто локальной тематики, основанной на страноведческом разделении труда. На данном этапе развития славяноведения возникает неизбежность более широкой тематики. Нельзя изучать историю Хорватии или хорватской литературы вне всего комплекса национальностей, с которыми приходилось иметь дело хорватам на различных этапах своей истории. И прежде всего славяноведам придется интенсивнее, чем до сих пор, изучать историю Австро-Венгрии в целом. А это требует гораздо более широкого кругозора, чем занятие локальной историей. Это, конечно, отнюдь не означает отказа от изучения по страноведческому признаку, но требует дополнения к страноведению.
Другой важной задачей, которой в последнее время занимаются славяноведы, является борьба с той отраслью буржуазной исторической науки, которая входит в так называемый «остфоршунг»11. Однако для определения правильного направления и задач этой борьбы необходимо, наконец, найти дефиницию того, чем же является «остфоршунг». Различные советские авторы дают разнообразные и иногда взаимно исключающие друг друга определения. Нельзя же в конце концов считать «остфоршером» любого буржуазного историка, который изучает историю стран Восточной Европы.
Необходимо также окончательно преодолеть встречающиеся у некоторых авторов догматическое представление, что каждого буржуазного автора, изучающего историю Восточной Европы, надо заранее рассматривать как врага и соответственно с ним обращаться. Во время культа личности Сталиным внедрялось представление, что опаснее всего не прямые и открытые реакционеры, а буржуазные авторы, прикидывающиеся либералами или, чего доброго, левыми. Против этих последних и направлялся главный удар. Это было отражением вреднейшей сталинской теории о фашизме и социал-фашизме, как близнецах. Из этих сталинских догм и родились представления нынешних сектантов и догматиков, что в период общего кризиса капитализма не бывает либералов и что против буржуазных авторов, выражающих либеральные взгляды, следует бороться теми же или более острыми методами, что и против самых бешеных реакционеров.
Отбрасывая догматические представления старого, опираясь на решения XX и XXII съездов КПСС, ведя упорную борьбу с догматиками, советское славяноведение отбрасывает и прежние догматические представления о либералах, как главных врагах. В борьбе против представителей «остфоршунга» советские славяноведы, как и все советские историки, конечно, дифференцируют буржуазных ученых и стремятся привлечь на свою сторону попутчиков и союзников, нейтрализовать безразличных и решительно изолировать противников из антикоммунистического стана.
В. Турок
Ф. 2134. Оп. 1. Ед. хр. 6. Авторизованная машинопись с правкой
Письмо В. В. Альтмана В. М. Туроку-Попову (1964 г.)
Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
Я чувствую себя виноватым перед Вами (хотя, по совести говоря, не виноват) из-за того, что Ваше выступление осталось втуне. Сейчас уже идут гранки, но, поскольку у меня даже нет Вашего текста, я ничего сделать не могу. А жаль, потому что Ваше выступление мы читали с большим интересом и, если бы Вы согласились на устранение некоторых чрезмерностей (а Вы, наверное, согласились бы на это) выступление было бы в книге «История и социология» одним из наиболее ценных: ведь по вопросам методологии славяноведных исторических исследований так никто и не говорил.
С самым искренним приветом
В. Альтман
Ф. 2134. Оп. 1. Ед. хр. 6. Авторизованная машинопись
1 Подробнее об этом периоде жизни В. М. Турока-Попова см.: [Турок 1965; 1966].
2 АРАН. Ф. 1731. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 5–6.
3 Там же.
4 Там же. Ф. 2134. Оп. 1. Ед. хр. 6.
5 В статье 1913 г. «Марксизм и национальный вопрос» И. В. Сталин дает следующее определение нации: «Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» (см.: [Сталин 1946, 290–367]). В. М. Турок-Попов выступал с критикой статьи И. В. Сталина и позднее, в том числе, этой теме он посвятил статью для журнала «Народы Азии и Африки» [Турок 1970] и доклад на присуждении ему звания почетного члена Исторического общества Венгерской академии наук в Будапеште в 1973 г.
6 Критика культа личности И. В. Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г. и провозглашение Н. С. Хрущевым концепции «мирного сосуществования» привели к ухудшению отношений между СССР и КНР. В 1963 г. между КПСС и КПК развернулась так называемая полемика о генеральной линии международного коммунистического движения («великая полемика»). Конфликт состоял из обмена многочисленными письмами, в которых КПСС и КПК обвиняли друг друга в отступлении от марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма.
7 Киш Эгон Эрвин (1885–1948) – чешско-немецкий писатель, журналист еврейского происхождения. В 1918 г. был одним из основателей Австрийской коммунистической партии и командиром красной гвардии в Вене. В 1937–1938 гг. был бойцом интернациональных бригад в Испании. Во время Второй мировой войны проживал в Мексике, сотрудничал с газетой «Freies Deutschland» («Свободная Германия»), органа Национального антифашистского комитета «Свободная Германия», издававшейся на территории Советского Союза с 1943 г. В. М. Турок-Попов также написал о Э. Э. Кише в своих воспоминаниях: [Турок 1966, 154–155].
8 «Пражский кружок писателей» или «Пражская школа» – литература на немецком языке, возникшая в Праге на рубеже XIX–XX вв. К этому направлению относят таких писателей, как Франц Кафка, Франц Верфель, Лео Перуц, Макс Брод и др. Э. Э. Киш также принадлежал к данному направлению, представляя его левое крыло.
9 Андрес Гюнтер (1902–1992) – австрийский писатель, философ немецко-еврейского происхождения, литературный критик, активный участник антиядерного и антивоенного движения. Автор книг «Устарелость человека» (1956), «Человек на мосту» (1959), «Надпись на стене» (1967).
10 Цитата из книги Андреса Гюнтера «Кафка. За и против» (1951).
11 «Остфоршунг» (нем. Ostforschung – изучение Востока) – научное направление по изучению стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, которое возникло во второй половине XIX в. в Австрии и Германии. В начале XX в. и в период нацистского режима результаты «Остфоршунга» использовались властями Германии в качестве идеологической базы доктрины «Натиск на Восток» (нем. Drang nach Osten).
Об авторах
Сергей Олегович Назаров
Архив Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: sergey_nazarov13@mail.ru
и.о. научный сотрудник, Архив РАН
Россия, МоскваСписок литературы
- Антонова К. А. Один из первых советских индологов Н. М. Гольдберг (1891–1961); Александр Михайлович Осипов (1897–1969): Мы его звали Дедом // Слово об учителях. Московские востоковеды 30–60-х годов. М.: ГРВЛ, 1988. С. 167–177; С. 200–206.
- Антонова К. А. Мы – востоковеды… // Восток. 1991. № 1. С. 140–152; № 4. С. 124–136; № 5. С. 131– 146; 2000. № 4. С. 16–131.
- Антонова К. А. В. М. Турок (к 90-летию со дня рождения) // Славяноведение. 1995. № 1. С. 92–105.
- «Владимир Михайлович Турок – историк и его время» / сост. и отв. ред. Л. Б. Алаев, Т. Н. Загородникова. М.: Степаненко А. Ю., 2013. 420 с.
- «В России надо жить долго…»: памяти К. А. Антоновой (1910–2007) / сост. и отв. ред. Л. Б. Алаев, Т. Н. Загородникова. М.: Восточная литература, 2010. 470 с.
- История и социология / под ред. В. В. Альтман, В. А. Куманев. М.: Наука, 1964. 341 с.
- Сталин И. В. Сочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946. Т. 2. 428 с.
- Турок В. Историк и читатель // Литературная газета. 1961. № 16. С. 2.
- Турок В. М. Страницы истории рабочего движения в Австрии на Балканах (из книги «Улица Коминтерна…») // Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. М.: Наука, 1965. С. 146–180.
- Турок В. М. Мое знакомство с революционерами и цареубийцами // Международные отношения в Центральной и Восточной Европе и их историография. М.: Наука, 1966. С. 151–171.
- Турок В. М. В. И. Ленин о Брюннской программе (1899 г.) по национальному вопросу // Народы Азии и Африки. 1970. № 6. С. 42–57.