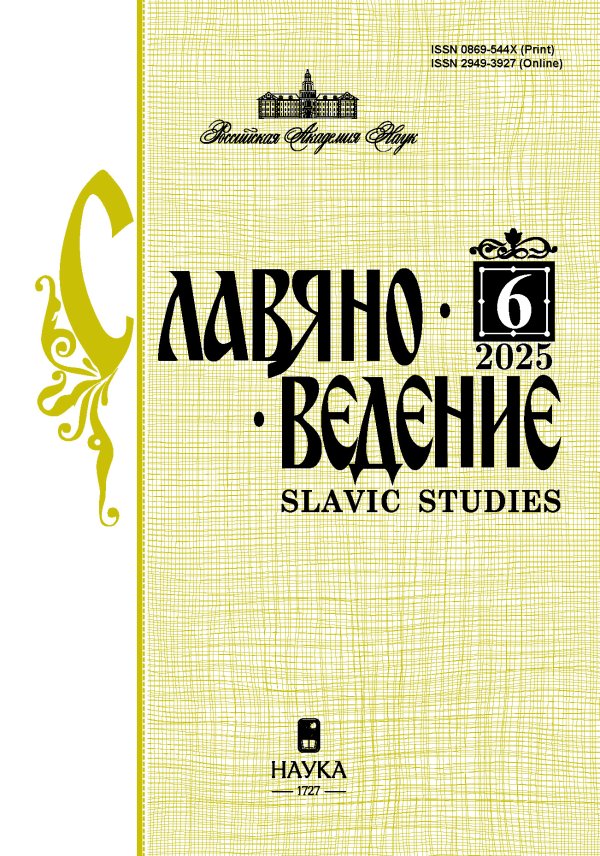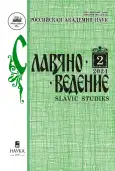G. P. Melnikov. Czech socio-historical thought of the Middle Ages and Early Modern Times. Moscow: Indrik, 2022. 536 p.
- Authors: Galyamichev A.N.1
-
Affiliations:
- Saratov State University
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 142-145
- Section: Reviews
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-544X/article/view/258423
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24020139
- EDN: https://elibrary.ru/zcrmuo
- ID: 258423
Full Text
Full Text
Выход в свет монографии по истории Чехии в Средние века и раннее Новое время сам по себе является заметным событием в нашей исторической науке уже по причине немногочисленности монографических исследований российских историков, посвященных средневековому прошлому чешского народа.
Значимость появления рецензируемой работы определяется также и тем, что она принадлежит перу одного из крупнейших в современной России знатоков чешской истории, известного многочисленными публикациями по широкому кругу проблем исторической богемистики.
Тема монографии Г. П. Мельникова представляет большой интерес в силу исключительного богатства чешской историографической традиции, включающей многочисленные и весьма разноплановые по форме и содержанию произведения. С другой стороны, важность ее изучения определяется огромной ролью, которую историческая память сыграла в судьбе чешского народа: пережив в XVII–XVIII столетиях «эпоху Тьмы», когда под вопрос было поставлено само будущее Чехии, сохранение языка и самобытной культуры чехов, страна вступила в первые десятилетия XIX в. в период Национального возрождения. В это время особое звучание обрели исторические сочинения средневековых хронистов и писателей раннего Нового времени, ставшие одной из важнейших опор становления и развития чешского национального самосознания. Историческая память выступила при этом в качестве ядра формирования политической идеологии национально-освободительного движения.
Отмеченные обстоятельства определили выбор автором предмета исследования, которое задумывалось как попытка анализа особенностей развития общественно-исторической мысли в Средние века и раннее Новое время.
Работа Г. П. Мельникова обладает рядом очевидных достоинств. Прежде всего следует отметить охват огромного материала (Х–XVII вв.), представленного обширными и насыщенными фактами и идеологическими конструкциями нарративных памятников. Можно назвать лишь одно исследование в отечественной науке, которое содержит сопоставимый по объему изученного материала объект историографического анализа [Вайнштейн 1964]. Широкий охват материала сочетается в рецензируемой монографии с тщательностью анализа нарративных источников, учитывающего особенности их языка, композиции, литературного жанра. Автор хорошо ориентируется в ведущих тенденциях развития современной, прежде всего, чешской историографии, опираясь на ее достижения, а в ряде случаев вступая в научную полемику.
Работа Г. П. Мельникова состоит из пяти глав-очерков, посвященных важнейшим страницам развития общественно-исторической мысли Чехии.
Первая глава посвящена анализу начальных страниц чешского летописания, в памятниках которого (в «Чешской хронике» Козьмы Пражского и его продолжателей, а также в Легенде Кристиана) содержится первый вариант изложения истоков истории Чешского государства. Особое внимание автора обращено при этом на характер освещения в хрониках проблемы соотношения верховной власти чешского монарха и властных полномочий знати. Хронисты XI–XII вв., как показал автор, осуждали мятежные выступления знати и восхваляли тех князей, которые успешно боролись за усиление центральной власти. Г. П. Мельников оценил такое мышление «как ретроспективно-историческое и этногосударственное, а также, учитывая отношение к Империи, как государственно-патриотическое и этнопатриотическое» (c. 76).
В хрониках XI–XII вв. содержатся первоначальные версии тех сюжетов чешской истории, которые на протяжении последующих столетий имели первостепенное значение для разработки общей картины прошлого чешского народа, характеристики его настоящего и взгляда в будущее. Вторая глава монографии посвящена одному из классических сюжетов чешской историографии – преданиям о происхождении княжеского (затем королевского) рода Пршемысловцев.
Автор проследил, с одной стороны, процесс развития и содержательного обогащения чешской этатизационной легенды с момента ее возникновения вплоть до второй половины XIV в., а с другой – обосновал вывод о том, что она «всегда выполняла функцию главного предания чехов, в котором объединились элементы этнического, государственного, исторического сознания Средневековья, сфокусированного на династии Пршемысловцев» (c. 115).
В главе содержится немало ценных наблюдений, хотя, с моей точки зрения, здесь несколько нарушена логика исследования, выстроенного по преимуществу в хронологическом порядке. Это в первую очередь касается оценок взглядов хронистов XIV в., систематическое и подробное рассмотрение произведений которых содержится в третьей главе монографии, специально посвященной этому этапу развития общественно-исторической мысли средневековой Чехии.
Глава открывается подробным анализом стихотворной хроники так называемого Далимила, написанной, по-видимому, в начале XIV в. Далимил, как показал автор, в отличие от хронистов XI–XII вв., рассматривал историю Чехии с точки зрения идеалов шляхты – ведущей политической силы, имевшей право выступить против монарха, если тот не выполнял ее требований (с. 146), но при этом Далимил «несколько опередил свое время, сформулировав доктрину этнопатриотизма» (c. 143), нашедшую продолжение в общественно-исторической мысли последующих времен.
Основное же содержание третьей главы монографии Г. П. Мельникова составил анализ наследия чешской историографии времен правления императора Священной Римской империи и короля Чехии Карла IV из династии Люксембургов (1346–1378), отмеченного появлением большого количества исторических сочинений, которые, по вполне обоснованному мнению автора, представляли вершину развития общественно-исторической мысли Чехии в Средние века. Трудно не согласиться и с высказанным Г. П. Мельниковым положением о том, что «по разнообразию тематики и степени проработки идеологем чешская мысль середины – второй половины XIV в. занимает лидирующее положение в Центральной и Восточной Европе и даже в Европе в целом» (с. 147). Большой интерес представляют страницы, посвященные вкладу короля и императора Карла IV в развитие общественно-исторической мысли, которого, как резонно отметил автор, «мы должны считать крупнейшим политическим мыслителем Европы XIV в., создателем четко продуманной концепции чешского государства и всей империи, концепции, не имеющей аналогов в европейской мысли позднего Средневековья» (с. 147).
В работе Г. П. Мельникова содержится подробная характеристика концепции богемоцентризма, являвшейся направляющей нитью внешней и внутренней политики Карла IV. Чехия становилась в ее рамках сердцем Священной Римской империи, а чешский народ обретал черты богоизбранности (с. 206).
Обоснован вывод Г. П. Мельникова, подводящий итог третьей главы: «Чешская общественная мысль […] представляется в европейском контексте XIV в. наиболее развитой, рафинированной и, что самое главное, инновационной, поскольку смогла создать уникальную в Европе позднего Средневековья концепцию единства власти и общества, правителя и социума на христианской сакральной основе, включавшей в себя историко-патриотическую чешскую традицию» (с. 262).
Гуситский период в истории средневековой Чехии оставил далеко не самое богатое наследие в области историографии, что вполне объяснимо многолетним ожесточенным противостоянием сторонников учения Яна Гуса как с силами феодально-католической Европы, так и с противниками гуситов внутри самой Чехии. Поэтому посвященная гуситской эпохе глава отличается и по привлекаемым источникам, и по их содержанию. Она – в полной мере новаторская, поскольку поднимает круг проблем, не затрагивавшихся ранее в отечественной гуситологии. Прежде всего автор проследил произошедшее в гуситское время изменение в содержании понятия «чешский народ»: если раньше под «нацией», «народом» понималось «дворянство и отдельные личности из других слоев, поднявшиеся до понимания идей патриотизма, то теперь, начиная с речи Иеронима Пражского в 1409 г., в понятие “чешский народˮ стали входить все его члены, то есть этносоциальная трактовка сменилась чисто этнической» (с. 337).
Анализ памятников гуситской идеологии позволил автору выявить основные черты происходившего в годы гуситских войн сложного синтеза этнического и религиозного сознания, в итоге которого сформировались представления об особой роли чешского народа во всемирной истории, его ведущей роли в христианском мире на пути к обретению подлинной сути учения Христа.
Автор отметил и некоторые негативные последствия «средневекового национализма» (термин чешского историка Ф. Шмагеля, использованный Г. П. Мельниковым), вылившегося в «своеобразный гуситский религиозно-идеологический шовинизм» (с. 340), хотя при этом «по степени развития национальной идеологии Чехия XIV–XV вв., особенно в гуситский период, обогнала Западную Европу» (с. 342).
Важной видится прослеживаемая Г. П. Мельниковым в годы гуситских войн интерпретация общественно-исторической мысли в среде умеренных гуситов, с одной стороны, и католической шляхты – с другой. Это «раздвоение» особенно проявилось в общественно-исторической мысли Чехии послегуситского времени, анализу вершинных достижений которого посвящена пятая глава монографии Г. П. Мельникова.
Исторические труды чешских авторов этого периода – «Чешская хроника» ученого католического монаха Вацлава Гаека из Либочан (с. 343– 435) и трактат видного представителя Общины чешских братьев, вынужденного покинуть родину после белогорской катастрофы Павла Странского «Чешское государство» (с. 436– 497) – исследованы Г. П. Мельниковым весьма обстоятельно.
Следует отметить высокую степень научной новизны подробного анализа хроники Гаека из Либочан (1499(?)–1553), которая по сложившейся в российском славяноведении традиции оставалась за пределами внимания исследователей, поскольку содержит большое количество вымышленных сюжетов. Г. П. Мельникова же привлекли именно фантастические моменты «Чешской хроники», так как являлись важнейшим звеном процесса создания национального исторического мифа.
Трактат Павла Странского (1583/1587–1657) – произведение иного жанра, также специально изучался чешскими и отечественными славистами мало, но Г. П. Мельникову позволил доказать, что «идеологема чешского патриотизма, содержащаяся в трактате, опередила свое время» (с. 492).
Подробный анализ выдающихся памятников общественно-исторической мысли привел автора к важному и не вызывающему возражений выводу: «Оба исторических сочинения – Гаека и Странского – при всех их различиях, прежде всего в конфессиональном плане, имеют одно общее основание – чешский патриотизм, точнее этнопатриотизм. Именно эта идеологема, глубоко проникшая в чешское общество XVII– XVIII вв., позволила чехам как нации со своим языком и государственно-историческим преданием (мифом) выжить в условиях универсализма державы Габсбургов и стать нацией в современном смысле слова уже в XIX в.» (с. 497).
Следует отметить, что в круг использованных автором источников вошли не только произведения чешских хронистов, но также документальные, эпистолярные и юридические тексты. Особый интерес представляет опыт обращения Г. П. Мельникова к произведениям изобразительного искусства, памятникам архитектуры и градостроительства, поскольку они также нередко выступали в качестве средства выражения общественной и исторической мысли (с. 80, 234–260, 325–328, 430–435), а иллюстративный материал, присутствующий в монографии, позволяет наглядно подтвердить аргументацию автора.
На мой взгляд, автору следовало бы уделить некоторое внимание чешской хронистике XIII в. (Вторым продолжателям Козьмы Пражского), в особенности яркому и эмоциональному повествованию «О злых годах после смерти Пржемысла Оттокара II» («Zlá léta po smrti krále Přemysla Otakara II»), которое содержит немало интересных суждений о характере взаимоотношений чехов и немцев и нашло отражение в художественном творчестве (в этой связи прежде всего вспоминается знаменитая опера Б. Сметаны «Бранденбуржцы в Чехии»).
Работа Г. П. Мельникова может представлять большой интерес для зарубежных, прежде всего, чешских историков, поскольку предметом исследования в ней выступают сюжеты, остающиеся недостаточно изученными в чешской историографии. В этом состоит ее несомненное достоинство и важнейшая составляющая научной новизны.
В ряде случаев, особенно в рамках первой главы монографии, историографические и исторические экскурсы автора позволяют составить достаточно ясные представления о ведущих тенденциях развития чешского общества (например, определение места XII в. в истории Чехии (с. 29–30), размышления «об эволюции чешской знати, дружины, клира, крестьянства в XII в., об изменении экономической базы страны и трансформации самого социума» (с. 34–36), генезисе чешской шляхты (с. 41–43) и др.). Но этого, на мой взгляд, недостаточно, особенно применительно к истории гуситского движения. Г. П. Мельников придерживается концепции и периодизации гуситских событий, утвердившейся в последние десятилетия ХХ – первые десятилетия ХХI в. в чешской историографии, однако на русском языке с ней можно познакомиться лишь благодаря учебному пособию Л. П. Лаптевой, вышедшему в свет в 1990 г. [Лаптева 1990] и остающемуся малодоступным для широкого круга читателей. Они могут пользоваться научно-популярной работой Б. Т. Рубцова [Рубцов 1955], концепционные моменты которой принципиально расходятся с оценками современной чешской историографии и трактовкой гуситских событий Г. П. Мельниковым.
Представляется, что назрела необходимость подготовки нового обобщающего труда по истории Чехии в Средние века и раннее Новое время, который мог бы служить основой для формирования у российского читателя подробных, ясных и глубоких представлений об историческом пути, пройденным чешским народом.
Обширная библиография (с. 303–318) имеет самостоятельное значение, прежде всего, для молодых исследователей, обращающихся к истории Чехии соответствующего периода.
В целом можно сделать вывод, что российская историческая славистика пополнилась новым обстоятельным исследованием, выполненным в контексте наиболее перспективных направлений развития современной историографии.
About the authors
Aleksandr N. Galyamichev
Saratov State University
Author for correspondence.
Email: galyamichev57@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9508-0901
DSc. (History), Professor
Russian Federation, SaratovReferences
- Lapteva L. P. Gusitskoje dvizhenije v Chekhii XV veka [The Hussite movement in the Bohemia of the XV century]. Moskow, Izdatel’stvo MGU Publ., 1990, 95 p. (In Russ.)
- Rubtsov B. T. Gusitskije vojny (Velikaja krest’anskaja vojna XV veka v Chekhii) [Hussite Wars: (The Great Peasant War of the XV century in the Bohemia]. Moskow, Gospolitizdat Publ., 1955, 324 p. (In Russ.)
- Vajnshtejn O. L. Zapadnoevropejskaja srednevekovaja istoriografija [Western European Medieval Historiography]. Moskow; Leningrad, Nauka Publ., 1964, 483 p. (In Russ.)