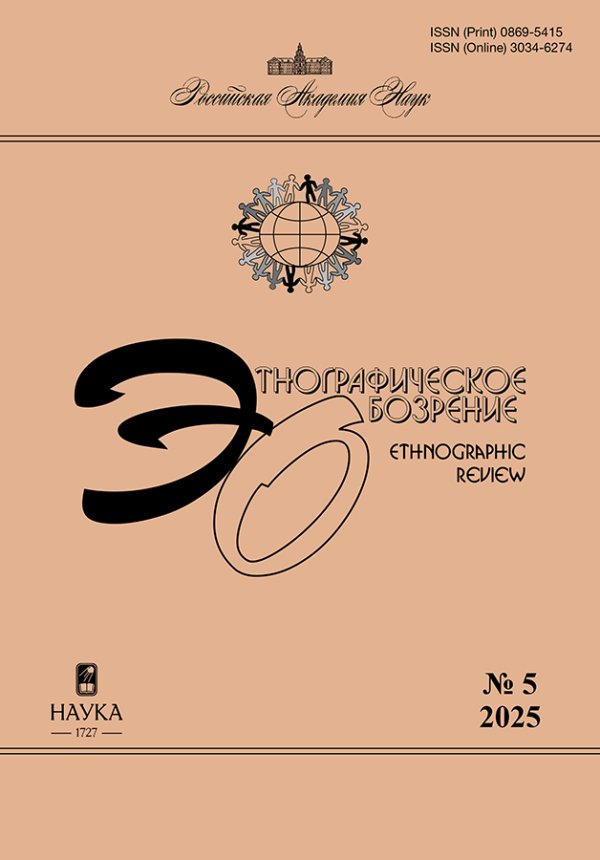Pot breaking in the wedding ritual of Don Cossacks: areal variations in the semantics and pragmatics of action
- Authors: Grevtsova T.E.1
-
Affiliations:
- Federal State Budgetary Institution of Science “Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences” (SSC RAS)
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 201-220
- Section: Research Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5415/article/view/268471
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524030116
- EDN: https://elibrary.ru/BRBIZO
- ID: 268471
Cite item
Full Text
Abstract
The breaking of dishes at weddings is known to all Slavs. It accompanies the most important stages of the ritual and symbolizes the change of the young couple’s social status. This action in the Don wedding tradition reveals a number of meanings, which are united by the symbolism of the ritual transition of the wedding participants, especially the bride, as well as the newlywed and their mothers. Often “pot beating” is part of the whole micro rites, including various manipulations with dishes and its fragments. Sweeping up the shards of broken crockery is the most stable element of the ritual, which can be combined with other components and performed as an independent action. In the memory of old residents of Don villages and farms for a long time there were actions (breaking a pot on the belly of the mothers-in-law, putting a chicken or a rooster into it, throwing crock-pots into the fire and jumping over it), behind which there are archaic folk beliefs related to the conclusion of marriage. However, the general orientation of breaking dishes in the Don tradition changes in the direction of increasing entertainment and competition.
Keywords
Full Text
Разбивание посуды в ходе свадебного обряда распространено у всех славян (Гура 2012; Топорков 1995), оно встречается также у немцев, австрийцев, французов, итальянцев, греков, албанцев, евреев (Иванова и др. 1988: 71, 202, 221; 1989: 21, 22, 28, 32, 52, 127, 128, 204; Сумцов 1996: 156). При этом разбивание посуды как значимое ритуальное действие является полифункциональным актом (Чистов 1974: 80), может по-разному объясняться в различных локальных традициях, а его семантика в каждом конкретном случае зависит от обстоятельств (Толстая 1996: 95; Гура 2012: 380).
Н.Ф. Сумцов отмечал, что в древнее время разбивание сосудов совершалось в конце жертвоприношения, поскольку после этого они уже не могли служить людям (Сумцов 1996: 156). А.Л. Топорков объясняет семантику действия через осмысление в народном сознании человека как сосуда и выражение через его разрушение символики переломных моментов жизни (Топорков 2009: 217). У восточных славян разбивание горшков символизировало совершение первой брачной ночи, сохранение или утрату невестой девственности до брака, окончание гуляний, служило своего рода обеспечением благополучия новой семьи; на черепках гадали, сколько детей будет у молодоженов; подметание осколков было условным испытанием хозяйственных умений молодой жены (Топорков 1995: 180–181; Гура 2012: 366, 380, 512, 528, 620). При этом даже в одной областной традиции символика битья посуды может отличаться пестротой (см. об этом, напр.: Ларина 1990: 53; Бузин 2015: 486–487), что обусловлено акциональностью этого элемента обряда, получающего разные значения, вплоть до амбивалентных, в зависимости от других «логически подчиненных ему элементов, его “актантов”» (Толстая 1996: 89).
В свадебном обряде восточнославянского населения территории бывшей Области войска Донского “разбивание посуды” обнаруживает целый набор значений, который включает в том или ином виде практически все смыслы этого действия, отмеченные у славян. Варьирование ритуальной семантики данного акта определяется временем и местом совершения, его участниками, дальнейшими манипуляциями с осколками, приговорами и обрядовой лексикой, а также “прагматическими смыслами”, которые “обусловлены отношением к действию его исполнителей, их интенциями и мотивировками совершаемого ритуального акта” (Там же: 94). Пестрота значений “разбивания посуды”, помимо акциональности, обусловлена и особенностями формирования традиционной духовной культуры населения региона – вторичной по отношению к культуре “материнских”, в первую очередь южнорусских территорий, складывавшейся под влиянием образа жизни донских казаков, обычаев соседних неславянских народов, а также малороссийских крестьян, переселявшихся на Дон (Проценко 1998: 80–82). Основным источником изучения разбивания посуды на донской свадьбе стали материалы диалектологических и этнолингвистических экспедиций Южного федерального университета (до 2006 г. – Ростовский государственный университет) в Ростовскую и Волгоградскую области (далее – РО и ВО соответственно) в 1976–2014 гг. (с 2008 г. экспедиции проводились совместно с Южным научным центром РАН), личные архивы полевых материалов ростовских исследователей и автора настоящей статьи, опубликованные полевые материалы и работы по свадебному обряду донских казаков. Было проанализировано более 150 текстов о разбивании посуды на свадьбе из 22 районов РО и 14 районов ВО, территория которых входила до революции в Область войска Донского.
В дореволюционных источниках по донской свадьбе разбивание посуды упоминается не часто, однако уже в них зафиксированы разные значения этого действия. А.В. Терещенко писал, что у донских казаков во время свадебного пира разбивали стеклянные бокалы и посуду, чтобы жизнь новобрачных была счастливой (Терещенко 2014: 837). Встречается в публикациях приуроченность данного ритуального акта к бужению новобрачных на второй день свадьбы (Никулин 2019: 91) и объявлению “честности” молодой (Харузин 1885: 201–202). Отмечено битье посуды во время завершающих свадьбу эпизодов (Пономарев 1876: 3; Харузин 1885: 204; Номикосов 1884: 315), в том числе при изображении родов свекрови или тещи с разбиванием горшка у нее на животе (Антонов 2019: 96; Харузин 1885: 205).
В работах современных исследователей тоже встречаются описания изображения родов в свадебном обряде донских казаков (Анашкина 1976: 119; Литвиненко 1997: 103–104; Рудиченко 2000: 93; Капля 2003: 54). Б.Н. Проценко также фиксировал разнообразие обрядовой семантики “битья горшков” у донских казаков – от празднования “честности” молодой до ее испытания на второй день свадьбы (Проценко 2004: 33). Хотя в ходе свадебного обряда на Дону разбивали преимущественно горшки, могли бить и другую посуду (тарелки, стаканы, кувшины) и то, что осмыслялось в славянской народной культуре и в народном сознании как вместилище, сосуд (напр., тыкву) (Чёха 2012: 335). Комплексного анализа этого акционального компонента донской свадьбы ранее не проводилось. Представляется, что исследование варьирования его семантики в географическом ключе будет способствовать более точному выделению региональных типов свадебного обряда донских казаков и формированию представлений о его генезисе.
Несмотря на то что имеющиеся полевые материалы по большей части отражают достаточно позднее состояние традиционной духовной культуры донского казачества (начиная с 1920-х годов), характеризующееся сокращением и объединением свадебных эпизодов, забвением семантики обрядовых действий и тяготением их к развлекательному смыслу, экспедиционные записи конца XX – начала XXI в. показывают не только значительное варьирование семантики “разбивания посуды” на свадьбе, но и сохранение прагматики этого действия в памяти старожилов. На основании контекста “разбивания посуды” были выделены несколько основных вариантов содержания данного ритуального действия в свадебном обряде Дона:
- Наиболее распространено разбивание посуды для испытания новобрачной/новобрачных, которое встречается и в других русских областях (Матлин 2016). Чаще всего оно совершается на второй день свадьбы, но может происходить и в первый день после раздачи каравая или во время заключительных эпизодов обряда, называемых хорони́ть концы́, завива́ть (залива́ть) ови́н, туши́ть пожа́р. Здесь акцент делается не на самом нарушении целостности посуды, а на следующем за ним подметании черепков молодой или обоими молодыми. Поэтому разбивали любую посуду: горшки, тарелки, кувшины, а иногда тыкву (кабак). Использование тыквы в этом обрядовом акте также обусловлено ее символикой и ролью в других эпизодах свадьбы (выражение отказа сватам с помощью тыквы; поднесение тыквы матери “нечестной” невесты) (Чёха 2012: 337; Гура 2012: 619). “Горшок жалко разбить, а кабак-то у каждого есть” (ПМ Проценко 1990).
Часто подметание осколков разбитой посуды сопровождалось бросанием гостями мелких денег, которые новобрачные должны были собрать. При этом молодую подвязывали фартуком и давали ей веник, а молодому – кочергу.
Горшки бьють, ну, там корча́жка или махо́тка. Щас же корчажек нету. Приходют и берут, и бьють в круг, а тут все, тут музыка играет, все танцуют и по этим по горшкам. Кто тыклу разобьёт. А кидают мелочь. А жаних и нявеста собирают. Нявеста в фартук, жаних с кочаргою, там же тыклы и деньги. Глядишь, насбирают чёй-то (ПМДЭ 2004)1.
Каждый хоче, кабы вдарить горшок. Ему денег туда. А невеста с женихом всё чи́сточки копеечки собирають, в карман кладуть или куды там. Заве́ску такую подцепють невесте. Она вот эти деньги – и жаних же – собираеть. А горшки же эти надо все отгресть – она веником, а он с кочерёжкою. Дають жениху кочерёжку, он гребёть всё чисточки, чтобы деньги видно было (ПМ Проценко: б. г.).
Кочерга символически связана с огнем и очагом, может выступать как предмет, посредством которого происходит приобщение к дому и хозяйству (Белова 1999: 635–636). У восточных славян в похожих обрядах использовались и другие предметы. Так, в Тамбовской области новобрачному давали лопату, “чаплю” (Бузин 2015: 497), в Свердловской – ухват (Липовецкая 1982: 138). В этом отношении интересно связывание перед сватовством помела и кочерги у русских (Белова 1999: 637; Ларина 1990: 160), помела, кочерги, вил, ухвата и веника у белорусов (Гура 2012: 151).
Носителями традиции подметание черепков объясняется проверкой молодой супруги и ее хозяйственных умений: “не слепая ли”, “какая хозяйка”, “как она умеет прибирать, мести”:
А невеста должна веник, всё это собирать, горшки битые собирать, деньги, а жених ей помогаеть. И вот значить там говорять: “О, сляпая, сляпая невеста, вон не подняла!” Там начинают тоже шутки по-всякому (ПМ Н.А. Власкиной 2009б);
…это бить горшки, бьють, пошла свекру́ха танцавать, вдарила, рассыпались, тарелку или горшок, танцуеть, а все деньги кидають, мелочь и иголки, что невеста слепая или нет, увидить иголку или нет. Вот они танцують все, хто мелочь, хто рубль, а она веником метёть (ПМДЭ 1992: К.Д. Онищенко).
Исследователи восточнославянской свадьбы видят в подобных эпизодах второго дня с подметанием мусора и черепков разбитой посуды «разновидность обрядности “перехода”» и трактуют их семантику как необходимое возвращение новобрачной из “потустороннего мира”, в том числе через “открытие” органов чувств, важнейшим из которых являются глаза (ср. частое объяснение: “не слепая ли”) (Бузин 2015: 487, 498), а также как приобщение молодой к домашнему пространству дома мужа (посредством подметания, принесения воды, приготовления пищи, приведения в порядок печи) (Бузин 2015: 500; Байбурин 1993: 87). М.Г. Матлин считает, что в этом обрядовом акте соединились разбивание посуды для бужения молодых в знак совершения брачной ночи и подметание новобрачной пола на второй день свадьбы (Матлин 2016: 61).
Собранные деньги подсчитывали; считалось, что у кого из новобрачных их больше, тот и будет “хозяином в семье” (“А потом же вроде кто больше собрал, кто больше хозяин” [ПМ Проценко 1990]). Поэтому подметание осколков разбитой посуды и подбирание денег становилось соревнованием молодых, которое вписывалось в ряд других распространенных на Дону испытаний и состязаний послевенчальных дней (принесение воды, разрезание каравая, распределение спиртного из связанных бутылок – быков). Эти деньги становились частью всего поднесенного супружеской паре на свадьбу и осмыслялись как продолжение подарков первого дня, что подтверждается в том числе и донской обрядовой терминологией (ср.: кидать на горшки – “бросать деньги во время подметания черепков разбитых горшков” и кидать на каравай – “дарить подарки на свадьбе” [БТСДК 2003: 209]):
Горшок били… и мелочь кидали, я собирала, а тут танцавали по этой мелочи, не давали собирать по полу ногами, все пляшуть. И вот я собирала, фартук надела и собирала эту мелочь, и жаних помогал мне, кидал мне в фартук. Когда надарили нам, и вот в горшок это всё ссыпа́ли, и горшок, как вда́рить яго, и он рассыпался весь, и эту мелочь всю топтали, и вот мы эту мелочь собирали, сколько на горшок кидали нам (ПМА 2009).
В данном обрядовом акте обратим внимание на одну деталь, которая обычно остается за рамками анализа, но является достаточно частотной в воспоминаниях информантов: во время разбивания посуды присутствующие танцуют около подметающих новобрачных, иногда прямо на черепках. В Верхнедонском районе РО посуду бросали прямо под ноги танцующим гостям (Литвиненко 1997: 103–104). Танец здесь, как и в других региональных вариантах славянской свадьбы, с одной стороны, имеет продуцирующее значение и знаменует бесповоротность заключенного брака (Агапкина 2012: 231–237), с другой – является одним из способов помешать молодым (Матлин 2016: 62–63). При этом упоминания о каких-то иных, распространенных в других русских регионах препятствиях, чинимых гостями новобрачным, встречаются на Дону достаточно редко:
Тут же ж им не дають собирать, и по рукам, и всё бываеть (ПМ Проценко: 1990);
Горшки бьють – это невесту оценивають. Горшки, посуду побьють, а должна невеста, и мелочь насыпют, как она быстро соберёт. Это значит, разворотливость, суетливость невесты определяют. Она хватаеть, курей пускають, курицу поймать. Вот такие вот игры, сыпют они, в общем мешают ей, она подбирает (ПМЭЭ 2010: Бурындин).
- На Дону объясняют разбивание посуды во время различных эпизодов свадьбы пожеланием счастья молодым. У казаков-некрасовцев после венчания били стаканы, из которых новобрачные пили вино, поднесенное батюшкой: “разобьётся, значит, жить будут хорошо” (ПМ Власкиной 2007). В Семикаракорском и Усть-Донецком районах РО во время встречи свадебной процессии в доме жениха “на счастье” разбивали тарелку, на которой лежали хмель, зерно, мелкие деньги, конфеты, орехи для осыпания молодых:
Приехали [молодые], родители же встрещають его, мы же к жениху приехали. Встрещали, этот полотенец, пирог сладкий же, ну и это вот теперь у нас орехи… кидають конхфеты, когда молодых ведуть, тарелку разбивають, ну закон же такой был, кидають на деньги. И кидають же на молодых и скрозь деньги там, серебро, медь, и конхфеты, кидають, а люди же подбирають, такой закон (ПМДЭ 1992: Евдокия Иосифовна).
Черепки разбитой посуды в этом эпизоде продолжают множественность других предметов, используемых для продуцирования богатства и плодородия в новой семье (хмель, зерно, орехи, деньги). Например, в пос. Чернышки ВО били тарелку на второй день свадьбы; считалось, что чем больше будет осколков, тем больше будет счастья у новобрачных (ПМДЭ 2011). А.К. Байбурин трактует мотивировку разбивания посуды для пожелания счастья молодым как один из ритуальных способов наделения их долей. При этом черепки могут ассоциироваться с детьми, горшок – с воплощением цельности, а его разбивание – с бесповоротностью свершившегося (Байбурин 1993: 83).
Разбивание посуды “на счастье” у донских казаков может быть приурочено к другим значимым в структуре ритуала моментам свадьбы и отмечать важный этап обрядового перехода молодых людей. В станице Мелиховской Усть-Донецкого р-на РО били посуду, в которой принесли каравай (ПМ Проценко: середина 1980-х годов). В станице Маркинской Цимлянского р-на РО после даров спрашивали у молодого, “чей он зять”, а у молодой, “чья она”. После их ответа били тарелки, танцевали, сыпали на пол деньги. Затем новобрачная меняла свадебный наряд на повседневную одежду (ПМ Проценко: 1992). В станице Краснокутской Боковского р-на РО горшок били “на счастье” в конце свадьбы (ПМЭЭ 2010: Белоножко). В некоторых местах считалось (сохранились упоминания об этом), что осколки от разбитой “на счастье молодым” посуды нельзя выбрасывать, их нужно закапывать (ПМА 2017; Анашкина 1976: 119), как и другие предметы, наделяемые сакральным смыслом (Байбурин 1993: 42, 172).
- Посуду разбивали в случае сохранения невестой девственности до свадьбы. Такая семантика фиксируется от станицы Мариинской Константиновского р-на РО и выше по течению Дона (в Волгодонском, Обливском, Шолоховском районах РО, Иловлинском, Котельниковском, Кумылженском, Серафимовичском, Суровикинском, Урюпинском, Чернышковском районах ВО): “Потом утром встают, подымать про́стыну, какая она, чистая или грязная. Эт позорно, если грязная, эта было не к чаму [выносить простыню]. И вот если она [молодая] цельная, бьють горшки” (ПМЭЭ 2008). В Иловлинском районе ВО в случае “честности” новобрачной били целую посуду, а в случае “нечестности” – “худую”: “А утром подсвашка и дружко спрашивають у жаниха: честная ли невеста. Простыню показывали всем. Если честная – били хорошую посуду, если нечестная – плохую, дырявую, и всем объявляли, что нечестная” (Рыблова и др. 2020: 11).
Ниже по Дону в знак “честности” молодой преимущественно носили калину (Гревцова 2022: 115). В Котельниковском, Суровикинском и Чернышковском районах ВО совершали обряд бить (играть) кали́ну (кали́нку), который можно рассматривать как комбинацию разбивания посуды и определенных действий с калиной, в случае сохранения невестой девственности до брака: на второй день свадьбы гости становились в круг, свекровь в центре круга разбивала тарелку, на которую до этого присутствующие клали деньги и иногда ягоды калины. При этом исполняли песню про калину. Новобрачные, подметая черепки, собирали монеты (СДГВО 2011: 44; ПМДЭ 1993; ПМДЭ 2011; ПМ Власкиной 2011: Захарова, Горячева, Берозко, Донская).
Вот на второй день калину-то играют, честная или нечестная: “Калинушка, калина”. Бьют тарелку, и вот сва́шка должна бить тарелку: “На горочке калина, / На горочке калина” [поет]. Бьют тарелку и тогда то́пщуть и тут кидають деньги и всё: “Ну что ж, кому дело, калина, / Ну кому какое дело, калина” [поет]. Вот это вот на второй день играют калину, и тарелку бьють, и топщуть мелочь. И тут с веником, дають невесте, жениху, собирают деньги, и эти склянки, всё собирають в заве́ски. И кто сколько набрал, сколько жених набрал, сколько невеста набрала. Нащинают считать, посчитали: вот сколько на калину накидали денег… Бывает и сухая калина, красная, сушёная калина, и вот там её с деньгами всё это сыпють, шоб они подметали (ПМ Власкиной 2011: Горячева).
Районы Среднего Дона, где зафиксирован обряд играть (бить) калину (калинку), можно считать переходным ареалом распространения двух способов демонстрации “честности” молодой у донских казаков: действиями с калиной (с веткой, ягодами калины или украшенной красной материей веткой другого дерева) и разбиванием посуды.
На Дону отмечено и противоположное значение “разбивания посуды”: для демонстрации “нечестности” новобрачной, но оно встречается гораздо реже и главным образом в районах, население которых преимущественно составляют потомки малороссийских крестьян (Миллеровский, Тарасовский районы РО): “Если же невеста потеряла честь до свадьбы, тогда не калину кидають, не рубашки, а бьють горшки. Кидають горшки матери, в лицо бросають, горшки кидають, чашки, ложки” (ПМДЭ 1991). Появление такой семантики разбивания посуды в районах с казачьим населением (в Весёловском районе РО и Иловлинском районе ВО) может быть обусловлено влиянием соседней традиции малороссийских крестьян (Кабакова 2001: 182; Топорков 1995: 181; Терещенко 2014: 728). Развитие амбивалентных значений одного действия – разбивания посуды – в разных региональных вариантах обряда связано с позицией “утрата девственности”. В русских областях били посуду во время или после брачной ночи, нередко о двери помещения, где спали новобрачные, или около него (Гура 2012: 528; Бузин 2015: 460; Топорков 1995: 180–181). У донских же казаков приуроченность разбивания посуды к брачной ночи молодых встречается редко. Например, битье горшков в это время зафиксировано в г. Урюпинске ВО (Головачев, Лащилин 1947: 158).
- Наиболее символически нагруженным является разбивание горшка во время изображения родов старшей участницы обряда – свекрови или тещи (Гревцова 2022: 139–141). Женщину клали на лавку, ставили ей на живот горшок, при этом она изображала родовые муки. Один из присутствующих, часто переодетый во врача, разбивал горшок. Иногда горшком накрывали курицу (петуха), и птица вылетала после того, как он раскалывался. Носители традиции часто объясняют, что это означает, что свекровь “родила себе невестку/дочку/молодуху” (Рыблова и др. 2020: 70, 81, 136, 171; ПМЭЭ 2006: Парамонова; Харузин 1885: 204–205):
Вот я бяру себе сноху и мне жавот правять, я родила, значит, дочку сабе. Ложуть на лавку, врач тут у нас во всем белом стоить. Белый халат одеваеть, берёть палку и подходить к этой свекрови и начинаеть живот править. В шутки все, а когда разобьют горшки, а там и курица сидить в горшке (Рыблова и др. 2020: 70);
А потом ещё свекровью качають. Она кричить:
– Ой, живот болить!
Останавливають и над ней горшок бьють. Она:
– Ой, ну таперь мне легко – горшок накинули.
Это она вроде как опросталась, родила – это ж она молодуху к себе берёть (Там же: 81).
В Белокалитвинском районе РО говорили, что свекровь родила “близнецов”, “двойнят”, имея в виду новую супружескую пару (Анашкина 1976: 119; Рудиченко 2000: 93). Данный обрядовый акт чаще всего приходился на второй или третий день свадьбы. В Алексеевском районе ВО изображение родов происходило после отъезда молодых на венчание перед обрядом заливания овина (Капля 2003: 54). “…когда невесту забирають – увозят, у матери начинаются схватки. Ей ставят горшок на живот и разбивают его. Всё, живот не болит” (Рыблова и др. 2020: 65). Иногда упоминается о том, что разбивание горшка на животе у свекрови совершалось только в том случае, если невеста сохранила девственность до брака (СДГВО 2011: 44). Нередко после этого молодая или оба новобрачных подметали осколки и бросаемые мелкие деньги, а гости танцевали (Рыблова и др. 2020: 91, 92, 171; Токмакова 2018; ПМДЭ 2010: Ржевская; ПМДЭ 2003). Очевидно, что все это варианты одного обрядового акта, поскольку основное действие (разбивание горшка на животе у свекрови или тещи) и его ритуальная семантика (“рождение” женщины в новой семье) одинаковы. Такое значение разбивания горшка легко реконструируется даже без упоминания носителями традиции изображения родов: “ложуть мать на лавку и бьють или горшок, или тарелку. Это конец уже свадьбы” (ПМДЭ 2010: Ржевская); “Тешшу кладуть на лауку, становють гаршок на пузу и бьють, а зять дорить новыи тухли” (БТСДК 2003: 45); “А когда заканчивають – бьють у жениховой матери на животе горшки” (Рыблова и др. 2020: 92).
В славянской традиционной культуре петух и курица – символы мужского и женского начал, а в свадебном ритуале – жениха и невесты: “Петух наделяется мужской сексуальной символикой, а курица – символикой плодовитости” (Гура 2012: 308). В обрядах, имеющих матримониальные смыслы и сопровождающих заключение брака, эти птицы могут использоваться живыми, подаваться в составе ритуальных блюд или присутствовать в виде изображений, их упоминают в свадебных песнях и приговорах (Там же: 308–315). В донском варианте разбивания горшка фигурируют и курица (Рыблова и др. 2020: 70, 91; ПМДЭ 1992: А.С. Аникеева; ПМЭЭ 2006: Агапова, Кузнецова), и петух (Рыблова и др. 2020: 133, 136; Рыблова 2022: 238; ПМДЭ 2008).
М.А. Рыблова присутствие петуха в этом эпизоде соотносит с юношеской сексуальной силой, а курицу трактует как символ женского начала и плодородия (Рыблова 2022: 113–114). Однако мне хочется предложить и другое объяснение использования в этом обряде именно петуха, а не курицы, являющейся ритуальным двойником невесты (Гура 2012: 310). В народной культуре петух ассоциируется с огнем – стихией, которая в свадебном ритуале имеет продуцирующую, инициальную, апотропеическую символику (Гура, Узенёва 2009: 28; Белова, Узенёва 2004: 516–517). Разбиваемая посуда в свадебном обряде донских казаков также обнаруживает разнообразные связи с огнем (битье горшков в обрядах тушения пожара, заливания овина, зажигание платков в горшке, бросание черепков в огонь, сгребание их кочергой и др.), в появлении которых, видимо, не последнюю роль играет ассоциация горшка (наиболее часто упоминаемого предмета в описаниях этого обряда) с печью и очагом (Топорков, Толстой 1995: 526).
Каравай поднесли, а они должны горшки бить. Кладут свекровь на лавку и горшком. И по горшку палкой бьют, а она кричит:
– Ой, рожать хочу!
Иногда петуха посодят в горшок и держут. Как он вдарит палкой, этот горшок разбился – петух выскочит из горшка. Ну, и свекровь шумит:
– Ой, дочку родила, дочку родила! (Рыблова и др. 2020: 136).
“Освобождение” курицы или петуха из-под разбиваемого горшка можно рассматривать не только как символическое рождение молодой в семье мужа, о чем прямо говорили донские старожилы, но и в контексте распространенного у славян использования этих птиц, особенно петуха, в знак дефлорации невесты (Гура 2012: 313–314; Гура, Узенёва 2009: 32–33). Таким образом, у донских казаков изображение родов, сопровождавшееся разбиванием горшка с курицей или петухом, вписывается, с одной стороны, в обрядовую семантику битья посуды, символизирующую “честность” новобрачной, а с другой – в парадигму действий с курицей/петухом в послесвадебные дни: соединение живой курицы с украшенной веткой калины, которую носили в случае сохранения невестой девственности до брака; кража кур ряжеными в цыган гостями; приготовление лапши на курином бульоне утром второго дня свадьбы; называние курником свадебного деревца (Гревцова 2022: 117, 128, 131–132); битье куриных яиц в конце всех свадебных гуляний (Пономарев 1876: 3). Кроме того, разбивание горшка на животе у матери одного из новобрачных знаменует и ее обрядовый переход в социовозрастную группу женщин, женивших/выдавших замуж своих детей (Кабакова 2001: 185).
У восточных славян разбивание посуды на свадьбе в знак совершения брачной ночи или для обеспечения благополучия молодых было достаточно широко распространено (Топорков 1995), а вот для изображения родов этот элемент обряда встречается редко (напр., в Ульяновской области, где роженицу изображал мужчина, а после “родов” происходили “поиски ярки” [Матлин 2019: 276]). Главным образом фиксации такого действа локализуются в украинском и белорусском Полесье. В Гомельской области на второй день свадьбы “молодицы разбивали палкой на животе у свекрови горшок; это означало, что теперь у нее двое детей – сын и невестка” (Топорков 1990: 85). На Волыни во время заключительного свадебного эпизода – перезвы или после него били горшок на животе у одной из участниц обряда, чаще всего у свекрови. В Рогачевском уезде Могилевской губернии шуточные роды устраивали во время обеда после привезения приданого невесты в дом будущего мужа, перед первой брачной ночью: одна из женщин изображала роженицу; “новорожденного” (котенка) пеленали, назначали ему отца и крестных, а для роженицы – “бабку”; рожающая причитала, что у нее болит живот, и ее “лечили”. Разбивание посуды в этом описании не упоминается (Шейн 1890: 316–317).
Сделанные наблюдения позволяют выдвинуть две гипотезы о происхождении этого обрядового акта в донской традиции. Согласно первой, выходцы с полесских территорий, возможно, принимали участие в заселении тех донских хуторов и станиц, где зафиксировано битье посуды на животе матери невесты или свекрови. Согласно второй, это обрядовое действие относится к числу архаических. Вероятно, в прошлом оно было широко распространено на территории Славии, но впоследствии сохранилось преимущественно на ее периферии. В поддержку такой гипотезы служит предложенный Н.И. Толстым принцип “инновации (центр) – архаика (периферия)”. Проанализировав культуру романских и славянских народов, исследователь причислил к славянским архаическим зонам Полесье, Русский Север и ряд южнославянских регионов (Толстой 1995: 41–60). Примечательно, что ряд элементов традиционной культуры донских казаков обнаруживает параллели именно с этими регионами (ср.: обряд “бабья каша”; бытование термина пращур в значении “праправнук”; былички о повитухах, предсказывающих судьбу ребенка; и др. [Власкина 2011: 180–182, 207–208, 216–226]).
- В ряде районов Дона посуду били в конце свадьбы во время обрядов тушить пожар, завивать (заливать) овин, хоронить концы, которые были описаны еще в дореволюционных работах («Заканчивается свадьба своеобразным обычаем “заливания пожара”. Гости, приглашенные на свадьбу, собираются в последний раз в доме родителей жениха и изрядно выпивают. Берут затем платок, смоченный в водке, и зажигают его, а после льют воду и разбивают горшок или тарелку [Номикосов 1884: 315]). Описания этих обрядов могут быть весьма разнообразными и включать, помимо разбивания посуды, подметание молодыми ее осколков (ПМ Власкиной 2009; Рыблова и др. 2020: 39; СДГВО 2011: 601) и изображение родов (ПМ Проценко: 1990; ПМДЭ 1992: А.С. Аникеева; Токмакова 2018). В населенных пунктах, расположенных на севере Усть-Донецкого района РО по р. Кундрючья, обряд хоронить концы включал только разбивание посуды, часто сопровождаемое зажиганием огня, перепрыгиванием через него и его тушением (ПМА 2007):
Потом же костёр жгуть вот так. Соломы наложуть, загорится и в хорошей одёже пряда́ють через этот огонь, через пыль, зола. Тогда у этот, горшок какой-нибудь, видите, можеть, черепня́ какая-нибудь. Как неко́лоную, так полбеды, а то целую. Вот горить этот огонь, раз, и разбили. <…> Концы́ хоро́нють называется, это концы. Сожгли, разбили, всё, готово. Невеста не ваша, а наша (ПМА 2007: Савкина).
В Нехаевском районе ВО завиванием овина назывался обряд конца свадьбы, когда молодая разбивала кидаемые ей стаканы (СДГВО 2011: 44). У донских малороссов Миллеровского района РО били тарелки во время заключительного свадебного эпизода – забивания чопа: “У нас в доме не забивали [чоп], вот мы как женились, у нас прям вот тут вот на ворота́х забивали, тут и тарелки били” (ПМА 2011). Таким образом, разбивание посуды в конце всех свадебных гуляний, как и другие символические действия со значением уничтожения или закрывания (тушение огня, забивание чопа), было знаком окончательной смены социального статуса молодых, завершения их, прежде всего новобрачной, ритуального перехода.
Значения “разбивания посуды” в свадебном обряде были нанесены на карту Области войска Донского, что позволило выявить ареалы их распространения. Практически повсеместно на исследуемой территории (кроме Нижнего Дона) отмечается подметание осколков новобрачными, а само действие нарушения целостности посуды уходит на второй план. Битье горшков в знак “честности” невесты распространено от станицы Мариинской Константиновского р-на РО и выше по течению Дона вплоть до самых северных районов проживания потомков донских казаков. На севере Области войска Донского, преимущественно в населенных пунктах по р. Хопер, имеется ареал, где довольно частотно фиксируется разбивание посуды при изображении родов у свекрови или тещи. В некоторых населенных пунктах по р. Северский Донец и в прилегающем Тацинском районе РО также зафиксировано битье посуды при имитации родов. Разбивали посуду “на счастье молодым” в станицах и хуторах Семикаракорского района РО, в Урюпинском районе ВО; остальные фиксации точечны (см. Рис. 1).
Рис. 1. Карта распространения значений разбивания посуды в свадебном обряде донских казаков (сост. Т.Е. Гревцова)
Таким образом, “разбивание посуды” в донской свадебной традиции обнаруживает несколько значений, которые объединяет символика ритуального перехода участников ритуала – новобрачных (в первую очередь молодой) и их матерей. Нередко это действие входит в состав микрообряда, включающего ряд манипуляций с посудой и ее осколками: разбивание посуды в знак “честности” невесты и последующее подметание молодыми черепков; битье горшка в процессе изображения родов, часто также завершающееся сметанием осколков; и т. п. Эти микрообряды зачастую имеют общее наименование: хоронить концы/заливать овин/тушить пожар. Одним из наиболее устойчивых их элементов является подметание частей разбитой посуды, которое может как объединяться с другими элементами, так и совершаться как самостоятельное действие. Некоторые акты, сопровождающие разбивание посуды, могут производиться и как отдельные (без “битья горшков”): зажигание и тушение огня, подметание молодыми мусора и мелких денег.
Следует отметить хорошую сохранность на Дону обрядовых действий (разбивание горшка на животе у свекрови или тещи; сажание в горшок курицы или петуха; бросание черепков в костер и перепрыгивание через него; и др.), за которыми стоят архаичные народные представления о ритуальном переходе. При этом в памяти старожилов сохраняется и ритуальная прагматика разбивания посуды (“невеста не наша, а ваша”, “свекровь родила себе дочь” и т. д.). Однако сегодня разбивание посуды в донской традиции все больше становится развлекательным и соревновательным элементом свадьбы – возможно, это и стало одним из факторов консервации таких обрядовых актов. В наибольшей степени утрачена семантика дефлорации в первую брачную ночь, что коррелирует с угасанием бытования и других действий, отмечающих “честность” невесты у донских казаков (“ношения калины”, демонстрации простыни и др.).
Источники и материалы
БТСДК 2003 – Большой толковый словарь донского казачества: ок. 18 000 слов и устойчив. словосочетаний. М.: Русские словари; Астрель; АСТ, 2003.
Головачев, Лащилин 1947 – Головачев В.Г., Лащилин Б.С. Народный театр на Дону / Ред. и вступ. ст. В.А. Закруткина. Ростов-на-Дону: Ростовское областное книгоиздательство, 1947.
Номикосов 1884 – Номикосов С.Ф. Статистическое описание Области Войска Донского. Новочеркасск: Областная войска Донского типография, 1884.
ПМ Власкиной 2007 – Полевые материалы с. н. с. ЮНЦ РАН Нины Алексеевны Власкиной. Экспедиция в Приморско-Ахтарский район Краснодарского края, 2007 г. (информант: Ф.Я. Блохина, 1935 г. р.).
ПМ Власкиной 2009 – Полевые материалы с. н. с. ЮНЦ РАН Нины Алексеевны Власкиной. Экспедиция в Даниловский район ВО, 2009 г. (информант: А.Я. Чумакова, 1914 г. р.).
ПМ Власкиной 2011 – Полевые материалы с. н. с. ЮНЦ РАН Нины Алексеевны Власкиной. Экспедиция в Чернышковский район ВО, 2011 г. (информанты: Л.М. Берозко, 1940 г. р.; М.Н. Горячева, 1934 г. р.; О.В. Донская, 1973 г. р.; М.М. Захарова, 1948 г. р.).
ПМ Проценко – Полевые материалы Бориса Николаевича Проценко. Коллекция личных документов Б.Н. Проценко в ЮНЦ РАН: середина 1980-х годов – экспедиция в станицу Мелиховскую Усть-Донецкого р-на РО (Тетрадь № 13, информант: А.Н. Яковлева, 1909 г. р.); 1990 г. – экспедиция в станицу Краснодонецкую Белокалитвинского р-на РО (Тетрадь МАРДГ-5, информант: М.М. Чикомасова, 1899 г. р.); 1992 г. – экспедиция в Цимлянский р-н РО (информанты: О.Г. Кулыгина, 1906 г. р.; В.Г. Чернозубова, 1908 г. р.); б. г. – экспедиция в Верхнедонской р-н РО, год записи неизвестен (информант: В.И. Назарова, 1915 г. р.).
ПМА 2007 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Усть-Донецкий район Ростовской обл., 2007 г. (информанты: А.И. Бакулина, 1937 г. р.; Т.Н. Герасимова, 1936 г. р.; Е.М. Круглова, 1935 г. р.; Н.К. Круглова, 1943 г. р.; З.А. Никитина, 1922 г. р.; В.П. Наумова, 1927 г. р.; В.Ф. Пятницкова, 1924 г. р.; Т.К. Рыковская, 1928 г. р.; Н.Е. Савкина, 1929 г. р.).
ПМА 2009 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Кумылженский район ВО, 2009 г. (информант: Л.К. Ермилова, 1948 г. р.).
ПМА 2011 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Миллеровский район РО, 2011 г. (информант: Р.И. Ермашева, 1941 г. р.).
ПМА 2017 – Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Гуково РО, 2017 г. (информант: А.В. Кравченко, 1953 г. р.).
ПМДЭ 1991 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Ростовского государственного университета в Веселовский район РО, 1991 г. (информант: П.Ф. Бондаренко, 1907 г. р.).
ПМДЭ 1992 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Ростовского государственного университета 1992 г. в Милютинский район РО (информант: К.Д. Онищенко, 1916 г. р.), в Семикаракорский р-н РО (информант: Евдокия Иосифовна [фамилия неизвестна], 1913 г. р.), в Шолоховский р-н РО (информант: А.С. Аникеева, 1942 г. р.).
ПМДЭ 1993 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Ростовского государственного университета в Суровикинский р-н ВО, 1993 г. (информанты: М.Л. Пилкина, 1914 г. р., Ф.Н. Попова, 1913 г. р.).
ПМДЭ 2003 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Ростовского государственного университета в Тарасовский район РО, 2003 г. (информант: М.Н. Антифеева, 1922 г. р.).
ПМДЭ 2004 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Ростовского государственного университета в Верхнедонской район РО, 2004 г. (информант: Е.Л. Козырева, 1926 г. р.).
ПМДЭ 2008 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Южного федерального университета и ЮНЦ РАН в Нехаевский район ВО, 2008 г. (информант: А.Д. Бирюков, 1929 г. р.).
ПМДЭ 2010 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Южного федерального университета и ЮНЦ РАН в Тацинский район РО, 2010 г. (информант: О.А. Ржевская, 1948 г. р.).
ПМДЭ 2011 – Полевые материалы диалектологической экспедиции Южного федерального университета и ЮНЦ РАН в Чернышковский район ВО, 2011 г. (информант: Г.П. Пономарева, 1938 г. р.).
ПМЭЭ 2006 – Полевые материалы этнолингвистической экспедиции Южного федерального университета в Алексеевский район РО, 2006 г. (информанты: Л.В. Агапова, 1934 г. р.; Н.А. Кузнецова, 1939 г. р.; В.А. Парамонова, 1930 г. р.).
ПМЭЭ 2008 – Полевые материалы этнолингвистической экспедиции Южного федерального университета и ЮНЦ РАН в Урюпинский район ВО, 2008 г. (информант: А.Л. Топилина, 1926 г. р.).
ПМЭЭ 2010 – Полевые материалы этнолингвистической экспедиции Южного федерального университета и ЮНЦ РАН в Боковский район РО, 2010 г. (информанты: Л.М. Белоножко, 1930 г. р., П.А. Бурындин, 1928 г. р.).
Пономарев 1876 – Пономарев С. Луганская станица (этнографический очерк): о праздниках, рукобитье, подвеселках и свадьбе Луганской станицы // Донские областные ведомости. 1876. № 50. С. 2–3.
СДГВО 2011 – Словарь донских говоров Волгоградской области / Авт.-сост. Р.И. Кудряшова, Е.В. Брысина, В.И. Супрун; под ред. Р.И. Кудряшовой. Волгоград: Издатель, 2011.
Токмакова 2018 – Токмакова О.С. Свадебный обряд станицы Краснодонецкой Белокалитвинского района Ростовской области // Культура.рф. 20.04.2018. https://www.culture.ru/objects/3447/svadebnyi-obryad-stanicy-krasnodoneckoibelokalitvenskogo-raiona-rostovskoi-oblasti
Харузин 1885 – Харузин М.Н. Сведения о казацких общинах на Дону. Материалы для обычного права. Вып. 1. М.: Тип. М.П. Щепкина, 1885.
Шейн 1890 – Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. I. Ч. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1890.
Примечания
1 В диалектных текстах из личных полевых архивов ростовских исследователей и в текстах, собранных в экспедициях Южного федерального университета, сохраняется оригинальная орфография с характерными чертами донских говоров; буквой г передается γ (г-фрикативное). Материалы из других экспедиционных архивов или опубликованных текстов приводятся в том виде, в каком они представлены в источнике.
About the authors
Tatyana E. Grevtsova
Federal State Budgetary Institution of Science “Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences” (SSC RAS)
Author for correspondence.
Email: tanyar_2@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7512-9528
к. филол. н., старший научный сотрудник лаборатории филологии
Russian Federation, 41 Prospect Chekhova, Rostov-on-Don, 344006References
- Agapkina, T.A. 2012. Tanets [Dancing]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 5: 335–337. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Anashkina, S. 1976. Svadebnaia obriadnost’ donetskikh kazakov [Wedding Ritual of the Donets Cossacks]. In Traditsionnoe i sovremennoe narodnoe muzykal’noe iskusstvo [Traditional and Contemporary Folk Music Art], edited by B.B. Efimenkova, 113–136. Moscow.
- Antonov, A. 2019. Iz Kamenskoi stanitsy (Donskie oblastnye vedomosti. 1875. № 84) [From Kamenskaya Stanitsa (Don Regional News. 1875. No. 84)]. In Donskaia svad’ba [Don Wedding]. Vol. 1, Materialy arkhivov i publikatsii XIX veka [Materials from Archives and Publications of the 19th Century], edited by M.A. Ryblova and A.V. Kogitina, 94–96. Volgograd: Izdatel’stvo Volgogradskogo instituta upravleniia – filiala RANKhiGS.
- Baiburin, A.K. 1993. Ritual v traditsionnoi kul’ture. Strukturno-semanticheskii analiz vostochnoslavianskikh obriadov [Ritual in Traditional Culture: Structural and Semantic Analysis of Eastern Slavic Rites]. St. Petersburg: Nauka.
- Belova, O.V. 1999. Kocherga [Poker]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 2: 635–637. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Belova, O.V., and E.S. Uzeneva. 2004. Ogon’ [Fire]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 3: 513–519. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Buzin, V.S. 2015. Rozhdenie, vstuplenie v brak i smert’ v traditsionnoi yuzhnorusskoi obriadnosti (Lipetskaia, Tambovskaia, Penzenskaia oblasti) [Birth, Marriage and Death in the Traditional South Russian Rituals (Lipetsk, Tambov, Penza Regions)]. St. Petersburg: Nestor-Istoriia.
- Chekha, O.V. 2012. Tykva [Pumpkin]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 5: 335–337. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Chistov, K.V. 1974. Problemy kartografirovaniia obriadov i obriadovogo fol’klora. Svadebnyi obriad [Problems of Mapping Rites and Ritual Folklore: Wedding Ritual]. In Problemy kartografirovaniia v yazykoznanii i etnografii [Problems of Mapping in Linguistics and Ethnography], edited by S.I. Bruk, 69–84. Leningrad: Nauka.
- Grevtsova, T.E. 2022. Svadebnyi obriad donskikh kazakov: areal’noe issledovanie [Wedding Ritual of the Don Cossacks: An Areal Study]. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo YNTs RAN.
- Gura, A.V. 2012. Brak i svad’ba v slavianskoi narodnoi kul’ture: semantika i simvolika [Marriage and Wedding in the Slavic Folk Culture: Semantics and Symbolism]. Moscow: Indrik.
- Gura, A.V., and E.S. Uzeneva. 2009. Petukh [Rooster]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 4: 28–35. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Ivanova, Y.V., M.S. Kashuba, and N.A. Krasnovskaia, eds. 1988. Brak u narodov Tsentral’noi i Yugo-Vostochnoi Evropy [Marriage among the Peoples of Central and Southeastern Europe]. Moscow: Nauka.
- Ivanova, Y.V., M.S. Kashuba, and N.A. Krasnovskaia, eds. 1989. Brak u narodov Zapadnoi i Yuzhnoi Evropy [Marriage among the Peoples of Western and Southern Europe]. Moscow: Nauka.
- Kabakova, G.I. 2001. Antropologiia zhenskogo tela v slavianskoi traditsii [Anthropology of the Female Body in Slavic Tradition]. Moscow: Ladomir.
- Kaplia, O.V. 2003. Svadebnyi obriad khoperskikh kazakov Alekseevskogo raiona Volgogradskoi oblasti [Wedding Ritual of the Khoper Cossacks of the Alekseevsky District of the Volgograd Region]. In Fol’klor: traditsii i sovremennost’ [Folklore: Traditions and Modernity], edited by M.C. Larionova, 49–55. Taganrog: Izdatel’stvo Taganrogskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta.
- Larina, L.I. 1990. Terminologiia svadebnogo obriada Kurskogo regiona v etnolingvisticheskom aspekte [Terminology of Wedding Ritual of Kursk Region in Ethnolinguistic Aspect]. PhD diss., Kursk State Pedagogical Institute.
- Lipovetskaia, I.R. 1982. Svoeobrazie russkoi ural’skoi svad’by kontsa XIX nachala XX veka [The Peculiarity of the Russian Ural Wedding of the end of 19th and Beginning of 20th Century]. In Fol’klor Urala [Folklore of the Ural]. Vol. 6, Fol’klor gorodov i poselkov [Folklore of Cities and Towns], 130–140. Sverdlovsk: Ural’skii gosudarstvennyi universitet.
- Litvinenko, O.V. 1997. K voprosu o svadebnoi obriadnosti v severnyh raionah Rostovskoi oblasti [To the Question of Wedding Rituals in the Northern Districts of the Rostov Region]. Izvestiia Rostovskogo oblastnogo muzeia kraevedeniia (Rostov-na-Dony) 7: 96–105.
- Matlin, M.G. 2016. “Pakhat’ pol”: svoeobrazie semantiki svadebnogo termina [“Plowing the Floor”: The Peculiarity of the Semantics of the Wedding Term]. Nauchnyi dialog 1 (49): 59–69.
- Matlin, M.G. 2019. Smekh v russkoi narodnoi svad’be XIX – nachala XXI vv.: tipologicheskii i funktsional’nyi aspekty [Laughter in the Russian Folk Wedding 19th – Early 21th Centuries: Typological and Functional Aspects]. PhD, Ulyanovsk State Pedagogical University Named after I.N. Ulyanov.
- Nikulin, P. 2019. Narodnye yuridicheskie obychai donskikh kazakov 2-go okruga. Okonchanie (Donskaia gazeta. 1875. № 87) [Folk Legal Customs of the Don Cossacks of the 2nd District. Ending (Don Newspaper. 1875. No. 87)]. In Donskaia svad’ba [Don Wedding]. Vol. 1, Materialy arkhivov i publikatsii XIX veka [Materials from Archives and Publications of the 19th Century], edited by M.A. Ryblova and A.V. Kogitina, 89–94. Volgograd: Izdatel’stvo Volgogradskogo instituta upravleniia – filiala RANKhiGS.
- Protsenko, B.N. 1998. Etnolingvisticheskaia kontseptsiia proiskhozhdeniia i kharaktera dukhovnoi kul’tury donskikh kazakov [Ethnolinguistic Concept of the Origin and Character of the Spiritual Culture of the Don Cossacks]. In Nauka o fol’klore segodnia (k 70-letnemu yubileiu Fedora Martynovicha Selivanova). Tezisy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Moskva, 29–30 oktiabria 1997 g.) [Science of Folklore Today (To the 70th Anniversary of Fyodor Martynovich Selivanov): Theses of the International Scientific Conference (Moscow, October 29–30, 1997)], edited by T.B. Dianova et al., 80–82. Moscow: Dialog-MGU.
- Protsenko, B.N. 2004. Svadebnyi obriad donskikh kazakov vo vremeni i prostranstve [Don Cossacks’ Wedding Rituals in Time and Space]. Traditsionnaia kul’tura 4: 26–34.
- Rudichenko, T.S. 2000. Osobennosti svadebnogo rituala kazach’ikh poselenii yuga Donetskogo okruga (po ekspeditsionnym materialam) [Peculiarities of Wedding Ritual of Cossack Settlements in the South of Donetsk District (On Expeditionary Materials)]. In Itogi fol’klorno-etnografi cheskikh issledovanii etnicheskikh kul’tur Kubani za 1999 god. Dikarevskie chteniia (6), 14–16 maia 1999 g. [Results of Folklore-Ethnographic Studies of Ethnic Cultures in Kuban in 1999: Dikarev Readings (6), May 14–16, 1999], edited by M.V. Sementsov, 91–95. Krasnodar: Kuban’kino.
- Ryblova, M.A. 2022. Kazaki i kazachki v obriadovoi i trudovoi zhizni donskoi obshchiny [The Cossack Men and Women in the Ritual and Labour Lives of the Don Community]. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo YNTs RAN.
- Ryblova, M.A., V.S. Kubrakova, and V.A. Shilkin, eds. 2020. Donskaia svad’ba [Don Wedding]. Vol. II, Materialy etnograficheskikh i fol’klornykh ekspeditsii 1983–2017 gg. [Materials from Ethnographic and Folklore Expeditions 1983–2017], edited by M.A. Ryblova, V.S. Kubrakova, and V.A. Shilkin. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo YNTs RAN, 2020.
- Sumtsov, N.F. 1996. Simvolika slavianskikh obriadov: izbrannye trudy [Symbolism of Slavic Rites: Selected Works]. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Tereshchenko, A.V. 2014. Byt russkogo naroda: V 2 t. [The Life of the Russian People, in 2 vols.], edited by A.V. Frolova and O.A. Platonov I (I–III). Moscow.: Institut russkoi tsivilizatsii.
- Tolstaia, S.M. 1996. Aktsional’nyi kod simvolicheskogo yazyka kul’tury: dvizhenie v rituale [Actional Code of the Symbolic Language of Culture: Movement in Ritual]. In Kontsept dvizheniia v yazyke i kul’ture [Concept of Movement in Language and Culture], edited by T.A. Agapkina, 89–103. Moscow: Indrik.
- Tolstoi, N.I. 1995. Yazyk i narodnaia kul’tura. Ocherki po slavianskoi mifologii i etnolingvistike [Language and Folk Culture: Essays on Slavic Mythology and Ethnolinguistics]. Moscow: Indrik.
- Toporkov, A.L. 1990. Domashniaia utvar’ v pover’iakh i obriadakh Poles’ia [Domestic Utensils in the Beliefs and Rituals of Polesie]. In Etnokul’turnye traditsii russkogo sel’skogo naseleniia XIX – nachala XX v. Vyp. 2 [Ethno-Cultural Traditions of the Russian Rural Population of the 19th – Early 20th Century. Iss. 2], edited by T.V. Staniukovich, 67–135. Moscow: IEA RAN.
- Toporkov, A.L. 1995. Bit’e posudy [Smashing Dishes]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 1: 180–182. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Toporkov, A.L. 2009. Posuda [Dishes]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 4: 215–218. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Toporkov, A.L., and N.I. Tolstoi. 1995. Gorshok [Pot]. In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’: V 5 t. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary. 5 vols.], edited by N.I. Tolstoi, 1: 526–531. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Vlaskina, T.Y. 2011. Domashnii mir na slome epokh. Ocherki traditsionnoi kul’tury donskikh kazakov (konets XIX – seredina XX vv.) [The Home World on Demolition of Epoch: Essays on the Traditional Culture of the Don Cossacks (the Late 19th and the Mid-20th Centuries)]. Rostov-on-Don: Izdatel’stvo YNTs RAN.
Supplementary files