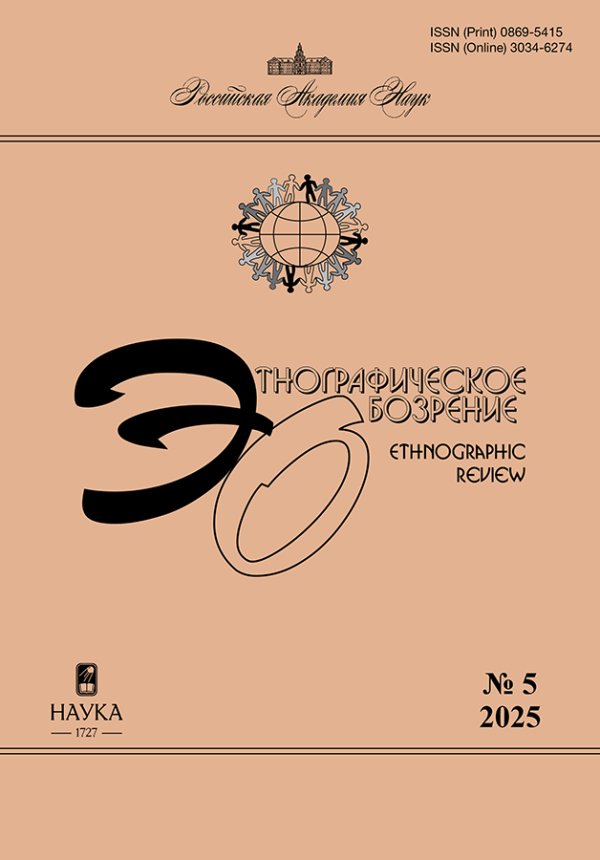“Горизонты воображения” Винсента Крапанзано
- Авторы: Назарук М.А.
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 222-227
- Раздел: Критика, обзоры, рецензии
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5415/article/view/271297
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524040124
- EDN: https://elibrary.ru/AXTFCO
- ID: 271297
Цитировать
Полный текст
Полный текст
Винсент Крапанзано известен как один из ярких представителей направления так называемой литературной антропологии (“literary anthropology”) – направления, активно развивавшегося в период общего расцвета интерпретативной антропологии, но все реже вспоминаемого в сегодняшние дни. Крапанзано внес большой вклад в продвижение той междисциплинарной области изучения культуры и человека, где пересеклись нарративные и автобиографические методы, психология и философия, поэтика и феноменология. Неизвестный автор словарной статьи о Крапанзано в Википедии довольно грамотно пишет, что последний “часто отзывается о культурной антропологии как о дисциплине философской – во всяком случае такой, какая может давать своего рода корректирующий ориентир академической философии с ее этноцентризмом”. Он упоминает, что однажды, когда Крапанзано спросили о различии между антропологией и социологией, тот ответил, что понимает “антропологию как науку об интимном”. В этнографических работах, написанных в разные периоды его научной карьеры, Крапанзано, как замечает автор, почти всегда фокусировался на проблемах личности: “в ранних работах – с психоаналитических позиций, в последующих – с диалектических, в совсем поздних – с критико-феноменологических, где акцент ставился на интерсубъективность” (Vincent Crapanzano 2021).
Я бы добавила, что Крапанзано обращается к поэтике и поэзии как к инструментам, с помощью которых он искусно выражает нюансы и тонкости жизненного мира людей, которых он изучает. В творчестве Крапанзано мы часто встречаем одно специфическое выражение – горизонты воображения (или воображаемые горизонты; в оригинале – “imaginative horizons”). Это выражение, вошедшее в заголовок его книги 2003 г. (Crapanzano 2003), в широком смысле описывает то, как мы конструируем и осмысливаем свой опыт, и указывает на зыбкие и неопределенные границы, отделяющие наше понимание мест и событий от того, что лежит за их пределами (как и собственно за пределами горизонтов нашего воображения).
В данном выражении как бы в кристаллизованном виде отражаются многие дилеммы этнографа как исследователя. Если мы рассмотрим ранние этнографические работы Крапанзано (см., напр.: Crapanzano 1972, 1973), где этнопсихологический подход является путеводной методологией, раскрывающей перед нами истории марокканцев и индейцев навахо, то мы должны будем заметить, что этнограф в конце концов попадает в ловушку собственного метода, когда начинает рефлексивно переосмысливать эти истории, которые сам же и рассказывает. Этнопсихологический подход при изучении “Другого” неизбежно приводит исследователя на путь самоанализа, заставляя его применять к собственным интерпретациям те же методологические приемы, что он применял и к объекту своего исследования. В антропологии о подобного рода субъективной инверсии нередко говорят с точки зрения “дискурсивного поворота”, т. е. тенденции отхода от практики этнографического описания, всецело сфокусированного на объекте исследования, в пользу практики автобиографического описания, где центр внимания оказывается смещен в сторону субъекта исследования.
При автобиографическом описании, однако, этнограф неизбежно задается дальнейшим вопросом о том, является ли его описание искренним, справедливым и этичным по отношению к затронутым в исследовании людям. Можно понять, почему рефлексивность стала таким важным аспектом антропологии как дисциплины и почему самые разные исследователи (как в рамках дисциплины, так и вне ее) прилагали и прилагают столько усилий к тому, чтобы деконструировать определенные стереотипы, связанные с практикой этнографической репрезентации. В процессе описания исследуемых людей, даже из самых лучших побуждений, этнограф часто производит на свет их “фотографически застывший”, стереотипизированный образ, и в этом состоит так и не разрешенная проблема репрезентации в антропологии.
Необходимо упомянуть и известную проблему понижения образа “Другого” на временнóй (исторической, эволюционной) шкале в процессе антропологической репрезентации. Конечно, в сегодняшней антропологии практика “временнóго понижения” больше не приветствуется. Временнóе понижение происходит тогда, когда исследуемый объект предстает позиционируемым в некоем прошлом относительно антрополога-исследователя и его коллег-современников (которым адресуется продукт антропологической работы). Такое искажение образа исследуемых людей или их культуры является примером того, что Й. Фабиан однажды назвал тенденцией к “шизогенной визуализации” (Fabian 1983). Данный термин Й. Фабиана указывал на множественность приемов и способов, с помощью которых или в результате которых образ “Другого” кодировался визуально, нарративно и дискурсивно как объект, предстающий удаленным во времени и заодно концептуально инструментализированным, поскольку он оказывался отделенным от реального контекста и превращенным в нечто формализованное. В антропологическом дискурсе практика подобного временнóго понижения часто находила выражение в так называемом мифе о доблестном дикаре, который использовался для придания научности разнообразным нарративам о характере социального взаимодействия в мире исследуемых этнографами людей.
Крапанзано в своей работе непосредственно затрагивает и практику временнóго понижения, и миф о доблестном дикаре, поскольку в последнем, в частности, метафорически выражен тот образ, в котором и происходило познание “примитивного” человека в западной науке. По мысли Крапанзано, новые “горизонты воображения” нам необходимы именно для того, чтобы преодолеть традиционные архетипы антропологической практики и чтобы принять новые научные рамки, в которых исследуемый нами, антропологами, человек рассматривался бы скорее не как “исторический” субъект (т. е. оцениваемый с точки зрения прогресса и соответствующей социальной иерархии), а как субъект “философский” (т. е. как субъект мыслящий, находящийся в своем собственном экзистенциальном пространстве в контексте своих собственных представлений о дуализме духовного и телесного).
В соответствии с данными рамками строится и сама работа Крапанзано, в которой первостепенное значение приобретает душевный или эмоциональный опыт человека, с точки зрения которого переосмысливается материализм “телесного”. Телесное, согласно Крапанзано, является таким же дискурсивным аспектом, как и душевное/эмоциональное, поскольку находит свое выражение в знаковой сфере культуры. Последняя, таким образом, должна внимательно исследоваться в антропологии, и здесь Крапанзано обращается к трудам Ж. Лакана и Д. Батлер, которые помогают ему осмыслить такие феномены, как, например, боль или травма, прибегая к семиотическому анализу перекрестий языка, музыки, танца и других перформативных элементов жизни.
Крапанзано часто говорит о тенденции “соскальзывания” (в старое комфортное русло мифа о доблестном дикаре) как об одной из общих проблем, преследующих антропологов по сей день. Это концептуальное соскальзывание неизбежно, считает он, если объект исследования продолжает рассматриваться как находящийся на некой исторической шкале, и само по себе является продуктом существующих горизонтов воображения в антропологии. Анализу и критике данного (концептуального, теоретического или нарративного) соскальзывания применительно к изучению индейских народов из групп навахо и апачи Крапанзано отводит немало места на страницах своих работ. Он указывает, что бороться с ним можно с помощью привнесения философско-социологической перспективы в антропологические исследования, а именно с помощью обращения к изучению таких регистров существования, какие одинаково значимы и для исследуемых людей, и для нас как их современников (“телесное” и “эротическое”, например, представляют собой подобные регистры, не зависящие от “временнóй оси” существования). Эти регистры в чем-то схожи с измерением “прав человека”, так как в этом измерении тоже всё уравнивается на единой шкале существования.
Крапанзано говорит о том, что между реальностью и сферой ее знакового культурного отображения (“означаемым” и “означающим”, по терминологии Ж. Лакана) существует разрыв, который невозможно устранить. Идея “горизонтов воображения” призвана помочь нам по крайней мере уменьшить этот разрыв. Проблема телесного, в частности, выходит здесь на первый план, ибо всегда есть несоответствие между телом, которое мы видим, и телом, которое мы ощущаем. Проблема культурного понимания телесного упирается, по сути, в проблему того, что знак и связанный с ним референт на самом деле не точно соответствуют друг другу. Крапанзано в анализе этой проблемы опирается опять же, с одной стороны, на мысли Д. Батлер (согласно которой тело конституируется повторяющимися перформативными актами, представляющими собой выражения отношений власти в том смысле, который последним придавал М. Фуко); а с другой – на положения Ж. Лакана (согласно которому у бессознательного есть свой собственный язык). Телесное, как указывает Крапанзано, это то, что не может быть адекватно выражено символическими или знаковыми средствами – для его обозначения начинает использоваться образный язык, фигуративные смыслы, которые и подлежат антропологической интерпретации. В соответствии с этой точкой зрения можно понять, почему именно литературный анализ в антропологии представляется столь важным для Крапанзано. Мы видим интерес к синтезу литературных и антропологических методов анализа не только в его исследованиях навахо и апачи, но и в его более ранних этнографических работах, посвященных Марокко или Алжиру, где он стремится понять культуру как текст, в котором заложена некая “кодировка цивилизации” (очевидно, что здесь просматривается влияние К. Гирца, но можно также упомянуть и идеи Ж. Деррида о том, что язык предшествует опыту).
В антропологическом изучении навахо, которое проводит Крапанзано, содержится своего рода парадокс. С одной стороны, он показывает нам историю навахо как частную, локальную историю, пролегающую на общем горизонте исторических возможностей; с другой – он пытается дать нам взглянуть на историю навахо как на нашу собственную историю (иными словами, дать нам понимание этой истории, которое, выражаясь языком М. Хайдеггера, “опережает само себя”, показывает не столько прошлое, сколько потенциальные возможности). Рассказ о навахо превращается в рассказ о нас самих, и прошлое навахо предстает как наше будущее. Если согласно М. Хайдеггеру изучение языка важно, поскольку язык – это “дом всего существования”, а изучение поэзии важно, поскольку последняя помогает раскрывать саму суть этого существования, то согласно Крапанзано язык и поэзия таким же образом помогают нам осмыслить не только изучаемую культуру, но и сам опыт нашей полевой этнографической работы.
Однако проблема как раз в том, что поэтизация навахо тоже может привести к фетишизации объекта исследования и, даже независимо от наших намерений, способствовать его превращению в доблестного дикаря, существующего в пространстве, удаленном от нашего собственного. Увы, “соскальзывание” в практику “временнóго понижения” всюду сопровождает этнографическое описание. Когда Крапанзано привлекает к сравнительному анализу исторического прошлого навахо такие понятия, как японское ма, китайское чи или восточное барзах, он сам риторическими приемами дистанцирует, удаляет, отчуждает “Другого” от наблюдателя. Он “мифологизирует” прошлое навахо, воссоздавая в уме читателя архетипическую ностальгию по “давнему”, по “первоначалам”, которую описывал еще М. Элиаде (Eliade 2001 [1949]).
Другой пример применения литературного анализа в работе Крапанзано – это его интерпретация роли топонимов (или, шире, практики наименования мест и связанных с ней языковых выражений, известных в антропологической литературе как place-names) среди индейских групп апачи. Опираясь во многом на аргументацию статьи К. Бассо (Basso 1988), Крапанзано стремится показать, что каждый топоним – каждое place-name – является средоточием коммуникационного мира в обществе и культуре апачи. В этих “именах мест” закодировано не только отношение людей к окружающему их ландшафту, но и их общее понятие о том, что такое привязанность к земле, гордость за своих соплеменников, уверенность в себе и т. д. В языке повседневного общения данные “имена мест” приобретают своего рода референтную функцию, они помогают выражать сложные абстрактные понятия – такие как, например, “ценность”, “духовность”, “коллективное существование”. Семиотический анализ этих топонимов, таким образом, дает антропологу возможность понять глубинную психологию народа, поскольку они представляют собой, если воспользоваться выражением К. Бассо, “инструменты мышления и средства целенаправленного поведения” (Basso 1988: 102). Крапанзано как исследователь видит в них собственные методологические инструменты, с помощью которых он может совершить этнографическое путешествие в историческое прошлое народа, географическое пространство народа, а также и эмоциональное пространство народа. Он находит в них ключ к эмоциональной жизни апачи, так как в коммуникационной сфере эти топонимы выступают как своего рода аффективные триггеры и несут разнообразные культурные коннотации. Они, по меткому выражению К. Бассо, позволяют человеку “выразить много, говоря мало” (Там же: 103). Они же, соответственно, позволяют исследователю получить доступ к сфере “коллективного бессознательного” народа. Здесь, впрочем, мы сталкиваемся с несколько “эзотерическим” аспектом исследования, но от этого никуда не деться, ибо антропологический анализ, по мнению Крапанзано, всегда в конечном итоге упирается в анализ всего того, что “фрагментировано, разобщено, не имеет очевидных мотивов” (Crapanzano 2004: 40).
Анализ вышеуказанного возможен единственно за счет нашей способности к воображению. Именно оно позволяет исследователю так или иначе заполнить лакуны, всегда остающиеся в любом исследовании. Горизонты воображения антрополога, таким образом, непосредственно вторгаются в язык исследования, в его дискурсивные и риторические механизмы, в отношения власти, отраженные в нем. К концепции “горизонтов воображения” Крапанзано можно продуктивно подходить, как мне представляется, с точки зрения идей В. Изера (представителя так называемой школы рецептивной эстетики) о “тексте”, “игре” и роли воображения читателя в заполнении лакун текста, который всегда характеризуется не столько заданными значениями, сколько потенциальными возможностями. Стратегией “текстовой игры”, подобной той, что анализирует В. Изер, на мой взгляд, пользуется и сам Крапанзано как автор (ей же, как мне кажется, пользовался, например, и Б. Малиновский, но эту гипотезу я разовью в другом месте).
Крапанзано импонируют рассуждения о “размытых” или “нечетких” горизонтах воображения, его всячески занимает мысль о пространстве, которое отделяет его самого от “Другого” и которое выступает как посредник, “медиатор”, определяющий складывающиеся отношения между ним и “Другим”. Отсюда в его языке появляются такие характерные термины, как “границы”, “линии водораздела”, “рубежи” и т. д. (borders, boundaries, frontiers), которые он определяет по-разному. (Надо сказать, что эти его языковые упражнения интересны в рамках конкретно английского языка, но они не обязательно сохраняют аналогичное значение при попытке их переложения на какой-либо другой язык.)
На мой взгляд, идеи и работы Крапанзано заслуживают внимания и по-прежнему актуальны, несмотря на падающий интерес (по крайней мере, в текущий момент) к области литературной антропологии в целом. Крапанзано проводил исследования не только среди навахо, апачи и марокканцев, но и среди южноафриканцев в период апартеида, а также в сообществах христианских фундаменталистов и правоконсервативных представителей современных технологических корпораций США, где он изучал культуру того, что называется “консервативным буквализмом” в сегодняшней социальной жизни. Этому, в частности, посвящена его книга “Служа слову” (Crapanzano 2001). В определенном смысле идеи, высказанные в “Горизонтах воображения”, можно рассматривать и как его ответ на заигрывание с тенденциями буквализма в социальных науках.
Пер. с англ. А.Л. Елфимова
Источники и материалы
Vincent Crapanzano 2021 – Vincent Crapanzano. 18.11.2021 / Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Crapanzano
Об авторах
Майя Александра Назарук
Автор, ответственный за переписку.
Email: majanazaruk.me@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5114-9740
независимый исследователь
Канада, МонреальСписок литературы
- Basso K.H. ‘Speaking with Names’: Language and Landscape among the Western Apache // Cultural Anthropology. 1988. Vol. 3. P. 99–130.
- Crapanzano V. The Fifth World of Forster Bennett: A Portrait of a Navaho. N.Y.: Viking, 1972.
- Crapanzano V. The Hamadsha: A Study in Moroccan Ethnopsychiatry. Berkeley: University of California Press, 1973.
- Crapanzano V. Serving the Word: Literalism in America from the Pulpit to the Bench. N.Y.: New Press, 2001.
- Crapanzano V. Imaginative Horizons: An Essay in Literary-Philosophical Anthropology. Chicago: Chicago University Press, 2003.
- Eliade M. Le mythe de l’éternel retour. Paris: Folio Essais, 2001 [1949].
- Fabian J. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. N.Y.: Columbia University Press, 1983.
Дополнительные файлы