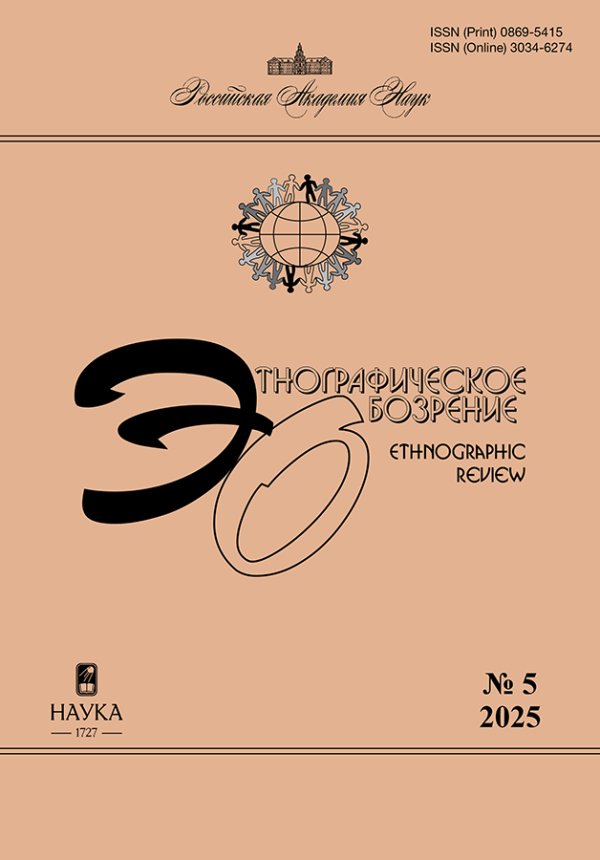Образы промышленных городов Татарстана в видении лидеров городских сообществ и простых жителей
- Авторы: Макарова Г.И.1
-
Учреждения:
- ОСП ГНБУ “АН РТ” “Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ”
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 183-204
- Раздел: Статьи и материалы
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5415/article/view/271290
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524040102
- EDN: https://elibrary.ru/AXWZLC
- ID: 271290
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрены вербально фиксируемые доминанты видения и выстраивания образов нестоличных промышленных городов Татарстана их ведущими акторами, принимаемые и по-своему описываемые простыми горожанами. Они дополнены личными наблюдениями автора и анализом закрепленных в городской символике и топонимике, монументальной пропаганде и произведениях искусства смыслов. Проведенные в 2021–2022 гг. в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске экспертные интервью и проблемно-ориентированные интервью в семьях показали, что их индустриальная специализация (и обозначение как города машиностроителей, химиков, нефтяников, кораблестроителей соответственно), как и связанные с ней особенности менталитета жителей, продолжают определять образы поселений. Причем завод становится в них неким незримым “партнером” каждого горожанина, задавая ритм и стиль жизни, ключевые моменты исторической памяти. В то же время их индивидуальность складывается под влиянием особенностей формирования населения, социокультурных пространств и городской культуры, в том числе этнокультурной специфики.
Полный текст
Глобальные вызовы сделали очевидной значимость развития промышленных городов России. Их социальная устойчивость связана с укреплением не только производственных, но и исторических, социокультурных оснований локальной идентичности, с пониманием перспектив и желаемого направления изменений. Все это делает актуальным обращение к проблематике их образов, складывающихся в повседневном взаимодействии жителей и под влиянием деятельности ведущих участников городских процессов. Данные образы могут выступать основой стратегий поселений, пробуждая активность социальных субъектов через осознание того, чем для них является Город и как он связан с такими смыслами, как Любимое дело, Завод, Регион, Страна.
Случай Татарстана интересен тем, что это развитый в экономическом плане субъект РФ, в котором имеются разного типа индустриальные центры, связанные с машиностроением, добычей и переработкой сырья, нефтехимией, оборонной промышленностью и функционирующие во взаимодействии с новыми точками высокотехнологичных производств. Важно рассмотреть, в какой мере их сохраняющаяся промышленная специфика сказывается на представлениях горожан о городе и какое значение приобретает складывающийся социокультурный ландшафт (в том числе его этническая составляющая). Также это регион, который прошел основные этапы советской и российской истории и сегодня успешно осуществляет ряд современных социальных проектов, в том числе связанных с благоустройством территорий. В связи с этим важно выяснить, как все это проявляется в формате вербальных описаний специфики нестоличных промышленных городов республики, рассмотрев их в контексте закрепляемых в городской символике, топонимике, искусстве смыслов.
Теоретические подходы, методика исследования
Возникшие в советский период промышленные города представляют собой особый социокультурный феномен. Они стали активно изучаться в 1970–1980-е годы (Г.Ф. Куцевым, Ж.А. Зайончковской и др.), причем раскрывались их преимущества и недостатки. В то же время главный фокус исследования всех городов был сконцентрирован тогда (на этапе ускоренной модернизации) на проблематике “город и труд”, особое внимание уделялось взаимоотношениям предприятий и города, роли производств в совершенствовании качества жизни горожан.
В 1990-е – начале 2000-х годов в центр внимания отечественных ученых выходит человек. Исследователи (Ю.Л. Пивоваров, Л.Б. Коган, позже В.Л. Глазычев и др.) начинают писать о городах как “очагах культуры”, о важности предлагаемого ими жителям разнообразия форм деятельности. Однако промышленные поселения переживают в этот период кризис в связи с закрытием (приостановкой) градообразующих предприятий, ведущим к росту безработицы и социальной девиации. В последние десятилетия во многих из них отмечается новое укрепление позиций ведущих производств и одновременно расширение сфер приложения труда, а также поиск своего “лица” (Карачурина 2012). Моногорода изучают М.Г. Меерович, В.П. Зимин, Н.В. Зубаревич и др. На социокультурных аспектах проблематики, формировании их имиджа и брендов концентрируют внимание Ю.Л. Балюшина, П.А. Путинцев и Т.А. Быстрова, Л.Э. Старостова, В.П. Столбов и Э.П. Литова и др.
Цель статьи – определить видение акторами городского развития (лидерами муниципальной власти, ведущих производств, бизнеса, креативных индустрий, общественных организаций) и “рядовыми” горожанами образов промышленных городов Татарстана, выделить в них типическое (общее) и отличающее каждый из них, представив в широком историческом и современном социокультурном контекстах. Под акторами в данном случае понимаются субъекты, которые имеют устремления и возможности выступить в роли интеграторов сообществ, формирующих в городе повестку дня, определяющих его функционирование и инициирующих изменения.
Первыми к образам современных городов обратились социологи – М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Д. Харви, М. Кастельс и др. Наиболее последовательный анализ этого сложного феномена находим в работах представителей чикагской школы – Р. Парка, Л. Вирта, Э. Берджесса. Отмечая увеличение численности и плотности населения, неоднородности американских городов и отход в них от традиционной культуры первичных групп, они по сути представили обобщенный образ большого промышленного города. О характерной для городских поселений загруженности и калейдоскопичности писали У.Х. Уайт и Дж. Джейкобс, ратуя за сохранение в них разнообразия.
Вопрос о восприятии пространства города был впервые поставлен специалистом по городскому планированию Кевином Линчем. Выделяя элементы структуры и разрабатывая метод картирования, он понимал под образом города коллективное видение его пространственной формы. Для нас в такой трактовке важно то, что этот образ был рассмотрен с позиции оценок и отношения индивидов (традицию продолжает Дж.Л. Назар). Данные и другие подходы отражены в книге “Города разума. Образы и темы города в социальных науках” (Rodwin, Hollister 1984).
Сегодня – в условиях деиндустриализации – в странах Запада промышленные города больше рассматриваются в аспекте конструирования их имиджей. Причем в одних случаях, как показывает пример Белфаста (где, несмотря на закрытие верфей и маргинализацию рабочих, продолжает эксплуатироваться образ индустриального прошлого родины “Титаника”), имеет место несоответствие данного имиджа социальной реальности (Hodson 2019). В других – формируются новые образы: “креативного города” (Harcup 2000), места возрождения сельских практик (Э. Бурити), привлечения свободного капитала (Дж.Р. Шорт, Л.М. Бентон и др.). Раскрывается влияние продвигаемых образов на городские ландшафты – У. Дж. Маллетт, А. Господини (Gospodini 2006) и др. И в этом контексте кейс промышленных городов Татарстана, как и ряда других регионов России, интересен тем, что в них производственный профиль сохраняется, поэтому новые смыслы появляются не взамен, а наряду с прежними, индустриальными.
Опираясь на работы российских исследователей, охарактеризуем далее различия в подходах к пониманию образов городов, характерные для представителей разных наук. Так, трактовка данного понятия социальными и культурными антропологами, как и некоторыми гуманитарными географами, историками, философами, культурологами, базируется на изучении историко-культурных аспектов поселений, рождающихся в сознании горожан в ходе повседневного взаимодействия смыслов, запечатленных в городских мифах, персонажах и знаковых местах, топонимах и т. д. Тем самым образ города предстает сквозь призму “самопонимания и самоощущения его жителей” (Шабаев и др. 2018: 262), воспроизводящих городские нарративы и создающих их (Карасева 2022). Методика исследователей В.В. Абашева, А.С. Бреславского, К.Д. Бугрова, Н.В. Дранниковой, Д.Н. Замятина, Н.Ю. Замятиной, М.Л. Лурье, М.Ю. Тимофеева, Ю.П. Шабаева, авторов книги “Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест” (Малькова, Тишков 2012) строится в данном случае на наблюдениях, а также на анализе культурных, исторических и современных текстов.
Социологи, а также ряд социальных психологов, экономгеографов, политологов рассматривают социально-экономические и социокультурные факторы формирования образов городов (Е.А. Корчак, М.В. Назукина и др.) и то, какими их видят представители разных социальных групп (Ю.А. Пидодня, Г.В. Еремичева и др.). Они изучают их в контексте проблематики неравенства, структурирования городского пространства, деятельности сообществ (С.Ю. Барсукова, И.А. Скалабан, Е.В. Тыканова, Э.К. Наберушкина) и социальных сетей (С.В. Пирогов и др.), конструирования городской идентичности (О.А. Богатова, Р.В. Евстифеев и др.), в том числе с использованием механизмов брендирования (Д.В. Визгалов, Н.Ю. Власова, А.Ю. Согомонов и др.). Методика базируется на массовых опросах и интервью, анализе официальных документов и интернет-ресурсов, касающихся городского развития.
Третье направление берет начало в работах градостроителей и урбанистов. Продолжателем К. Линча – в плане изучения роли “застройщиков” в формировании городских образов – применительно к российским городам выступил В.Л. Глазычев. Для него (как и А.Э. Гутнова, В.А. Филина и др.) они связываются в первую очередь с планировкой и градостроительной композицией, а также с искусством. О важности оптимального соотношения исторического облика города и задач формирования комфортной городской среды пишут Е.В. Хохрин и С.А. Смольков, об историко-архитектурных ресурсах индустриального наследия – Н.С. Солонина и О.А. Шипицына, на визуальных характеристиках городов и их воплощении в художественном творчестве делает акцент Ю.Р. Горелова (Горелова 2019). Эти авторы опираются как на документы по развитию городской застройки и художественные произведения, так и на формируемые людьми ментальные карты.
Большинство представителей всех обозначенных направлений рассматривают образ города в настоящем с отсылками к прошлому. В то же время важность определения векторов его дальнейшего развития подчеркивают представители мыследеятельностного подхода (Ю.В. Громыко), а метод прогнозного социального проектирования городского развития был разработан Т.М. Дридзе (Дридзе 1994: 7).
В данном случае рассмотрение образа города будет выстраиваться на пересечении социально-антропологического и социологического подходов. В связи с этим в качестве инструментального, опираясь на характеристики, данные рядом исследователей, мы будем ориентироваться на следующее его определение. Образ города – это совокупность (синтез) формирующихся в сознании населения и продвигаемых акторами городского развития представлений о нем (Замятин 2013: 14), о его социокультурной специфике, связанных с “пространственными компонентами среды” (Пидодня 2010), с его прошлым, настоящим и будущим, с опытом жизнедеятельности субъектов в данном городе (Там же). Видение образа города сказывается на городской идентичности – т. е. самоотождествлении горожанами себя с ним и с теми, кто проживает на его территории.
Статья основывается на результатах осуществленных автором в четырех промышленных городах Татарстана исследований:
1) поисковых проблемно-ориентированных интервью в семьях жителей (октябрь – декабрь 2021 г.; n = 16). Они являлись, по сути, групповыми фокусированными дискуссиями, направленными на выяснение видения ими проблем и акторов развития городов, их образов и идентификации с ними;
2) экспертных интервью с представителями муниципальных органов власти, руководителями ведущих производств, малого и среднего бизнеса, городских общественных организаций (октябрь – декабрь 2022 г.; n = 31). Они выстраивались вокруг схожей проблематики с акцентом на деятельности данных акторов в направлении развития города.
Тексты интервью были дополнены аналитическими заметками, делавшимися автором и фиксировавшими наблюдения по поводу особенностей пространств каждого города, их индивидуальности и комфортности, развитости инфраструктуры, разделения на районы (по характеру застройки и степени удаленности от ведущих предприятий), наличия/отсутствия зеленых зон, этнокультурной специфики, динамики городской жизни, а также поведения различных групп горожан. Позже, в ходе подготовки статьи, был также проведен ряд консультаций с целью выяснения отдельных вопросов, связанных с темой работы.
Качественное исследование охватило следующие нестоличные промышленные города, отличающиеся по численности и истории создания, но схожие в плане выполняемых ими социальных функций:
– Набережные Челны – получивший статус города в 1930 г. и разросшийся в 1970–1980-е годы в связи с комсомольской стройкой и возведением КамАЗа. В настоящий период – крупнейший город (по классификации Г.М. Лаппо) с населением 545 750 человек (СБ 2023), расположенный в 205 км от Казани;
– Нижнекамск – возникший вокруг “Нижнекамскнефтехима” (городской статус получен в 1966 г.); в последние десятилетия к комбинату добавилось предприятие по нефтепереработке “Танеко” и др. Ныне – большой город (241 106 человек) в 170 км от Казани;
– Альметьевск – сформировавшийся на месте татарского села в связи с разработкой нефтяных месторождений город (с 1953 г.) с ведущей компанией “Татнефть”. Его население составляет 164 145 человек, расположен в 224 км от столицы республики;
– Зеленодольск – возникший на месте рабочего поселка город (с 1932 г.), приближающийся по численности к большому – 99 078 человек. Градообразующие предприятия (Завод имени Серго – POZIS и Зеленодольский завод им. А.М. Горького) имеют преимущественно оборонную направленность.
В регионе накопился свой опыт изучения промышленных городов. Их социальные особенности анализировались Р.З. Алтынбаевым, Я.З. Гариповым, С.П. Дыриным, Ф.Ф. Ишкинеевой и др.; искусство – С.М. Червонной, А.Б. Файнбергом, Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой, Р.Р. Султановой (Султанова 2001); градостроительные аспекты – А.А. Дембичем и др. Однако с антропологических позиций данные поселения практически не исследовались.
Индустриальная специализация в образе городов
В связи с тем, что индустриальная специфика во всех четырех изучаемых поселениях сохранилась и градообразующие предприятия выжили в рыночных условиях, остаются значимыми и их обозначения как городов машиностроителей, химиков, нефтяников, кораблестроителей. Интенции в данном направлении свойственны в первую очередь руководству ведущих компаний, хотя они поддерживаются и другими акторами городского развития, простыми горожанами:
Наш генеральный директор всегда говорит: у нас нет деления нефтяник – не нефтяник. Все, кто тут живут, все – нефтяники, потому что без учителей, без докторов, без кондукторов наши работники не смогли бы работать (ПМА 2: 1).
Двигателем города изначально является завод КамАЗ, потому что только из-за него со всего СССР люди приехали сюда, в этот город, на постройку, на запуск. <…> Все от него идет, вся основная масса людей работает там, на этом заводе (ПМА 1: 1).
Название нашего предприятия состоит из двух частей – “Нижнекамск” и “Нефтехим”, – поэтому город и предприятие неразрывны. И сегодня практически каждая третья семья в Нижнекамске связана с нефтехимией (ПМА 2: 2).
Наш город – побратим Кронштадту. У нас военный завод, корабли, у нас кораблестроение (Там же: 3).
Обозначенные характеристики получили закрепление в названиях улиц. В Челнах это: Автозаводский проспект, улицы Автомобилистов, Инженерная, Металлургическая, Команды Камаз-мастер; с возведением города связаны бульвар Строителей и улица Академика Рубаненко (разработчика его ген. плана). Они перекликаются с тематикой монументальной пропаганды, в числе которых памятник “Слава строителям КамАЗа”, бюсты его первого гендиректора Л.Б. Васильева и руководителя строительства Е.Н. Батенчука; с историей завода знакомят музеи, а малышей-картингистов называют “камазята” (как ранее звали всех детей, родившихся в “новых” Челнах). В топонимике Нижнекамска находим отражение его отраслевой специфики: Проспект химиков, парк Нефтехимиков, улица Менделеева, Б.В. Бызова, О.Г. Мурадьяна – руководителя строительства Нефтехима; бюст его первого директора Н.В. Лемаева открыт в одноименном сквере, а известная хоккейная команда носит имя “Нефтехимик”.
В Альметьевске обращают на себя внимание памятники “Нефтяники” (где они изображены на буровой установке) и “Нефть” (в виде нефтяного фонтана); те же символы отражены в геральдике города. В нем функционирует ДК “Нефтьче” (нефтяник – в пер. с тат.) и спорткомплекс “Нефтяник”, а в названиях улиц читается политика сохранения имен известных представителей профессии (В. Шашина и др., всего порядка 15 наименований). В Зеленодольске на его гербе видим ладью и молот, а среди названий улиц – Кузнечная, Кронштадтская, Морская, Судостроителей, Металлистов, среди достопримечательностей – Корабельный фонтан, Бронекатер “Калюжный”, памятник контр-адмиралу Д.Д. Рогачёву. В городе работает молодежный центр “Порт”, спортивные комплексы “Метеор” и “Маяк”.
Иными словами, предприятия выступают в данных поселениях не просто в роли работодателя, но и – определяя топонимию и городскую символику – формируют “правила” маркирования публичных пространств. Производственная специфика находит отражение и в художественном творчестве. Особенно это было характерным для изобразительного искусства 1960–1980-х годов (Султанова 2001: 27–48), о чем говорят уже сами названия работ: “КамАЗ на перевале Чор-Мазак” (К. Сафиуллин), “Портрет молодого строителя КамАЗа” (Х. Гимазетдинов) и “Литейный завод КамАЗа” (А. Вашуров); “Химия” (Г. Капитов), “Пуск этилена” (В. Никольский) и “Вечерний химкомбинат” (А. Фатхутдинов), “Дорога нефтяников” и “Клад Татарии” (А. Косолапов) и др. В литературе выделим поэму-сказку “Тан Батыр. Баллада о нефтянике” А. Маликова и поставленный по ней спектакль. Тем самым на тот период завод являлся также неким культуртрегером, определявшим смысловую доминанту искусства.
Возвращаясь к интервью, заметим, что в их ходе много говорилось о профессиональных праздниках, отмечаемых в городах. В Альметьевске это День нефтяника, широко празднуемый в один день с Днем города. В Нижнекамске – День химика, причем по этому случаю поселение становится центром региональных торжеств. В Челнах сохраняется традиция проводить День строителя, что связано с гигантской стройкой 1970–1980-х годов; на городской уровень выходит День машиностроителя. В Зеленодольске, помимо дней кораблестроителей, машиностроителей, на городском уровне с советских времен проводится также День Военно-Морского Флота:
День города/День нефтяника – это, наверно, самое крупное событие. <…> Привозят федеральных… музыкантов …это прямо серьезный концерт. <…> Площадь перед ДК “Нефтьче”… думаю, там не меньше… 10 тысяч наберется народу (ПМА 1: 2).
“Нижнекамскнефтехим” приглашает… своих работников, звезду ежегодно. <…> У нас сейчас там (в ледовом дворце. – Г.М.) проходит республиканский День химика, и сюда приезжают именно со всей республики (Там же: 3).
Всегда очень классно проводился здесь День строителя. <…> Такие праздники закатывали на Майдане (Там же: 4).
Самый главный день – морского флота. <…> На пляже… раньше организовывали… Наша военно-морская часть… моряки высаживались… снимали фуражки и махали (ПМА 2: 4).
Отмеченное подтверждает тезис о сохраняющемся отражении индустриальной специализации промышленных городов в их образах. Причем это составляет типическую для них характеристику, выделяемую также другими исследователями по отношению к поселениям подобного рода. К примеру, авторы статьи “Горнозаводская и равниннофабричная цивилизации России…” пишут о том, что производственные гиганты Урала включаются сегодня в актуализацию своего исторического наследия (Шипицына и др. 2021: 126) и воспроизведение индустриальной идентичности в городах. Н.В. Дранникова отмечает, что северодвинцы обозначают свой город как “город корабелов”, а себя – как “судостройцев” и что здесь “локальная идентичность накладывается… на идентичность профессиональную” (Дранникова 2020: 87).
С профилем поселений связан и профессиональный состав населения, влияющий на менталитет жителей. Вот как говорит об этом приглашенный в Зеленодольск специалист в области креативных индустрий: “Там такая… инженерная интеллигенция. Это прямо чувствуется в разговоре. <…> Планомерности там очень много… потому что все-таки… инженерно-технический персонал – он другой” (ПМА 2: 5). Также здесь приведем цитату из интервью, проведенного в Нижнекамске: “Здесь же технология (химический, нефтехимический процесс, нефтеперерабатывающие процессы), в основе которой химия, физика, математика” (Там же: 6). Далее в ходе рассуждений эксперта вырисовывался образ терпеливых, организованных людей, умеющих сосредоточиться и “относящихся серьезно ко всему” (Там же) – т. е. артикулировались те их качества, которые важны для работающих в области химии.
Таким образом, завод продолжает выступать в изучаемых поселениях неким незримым “партнером” каждого горожанина, не только дающим работу, средства к существованию, но и в определенной мере формирующим склад ума и ценностные установки. В то же время взаимоотношения завода и жителей города различаются в зависимости от характера деятельности каждого из них, а также от их отношения к данной деятельности. Так, для одних – в особенности работающих на предприятии (в том числе молодых людей) – завод остается местом самовыражения, и обозначенные смыслы сохраняют значимость и актуальность. Соответственно для них он – “соратник”. Поэтому их дискурс завода нередко переходил в дискурс города и наоборот (к примеру, говоря о проблемах поселения, они могли незаметно для себя начать размышлять о важности самореализации и продвижения на производстве, передачи опыта молодым специалистам, а также о способах удержания в городе молодежи, о необходимости диалога с учителями по поводу значимости поддержания престижности работы на нем).
В то же время вместе с диверсификацией экономик поселений в них появляются новые формы занятости и новые смыслы. И они уже не связаны напрямую с градообразующим предприятием, которое, однако, может продолжать восприниматься как “хозяин” города – диктующий смыслы, определяющий ритм и образ жизни, выбор профессии и способы проведения досуга. Иными словами, содержание и сама тональность оценок города-завода зависели от того, в какой мере субъекты включены в производственные процессы и насколько они для них важны.
Отношение к заводу и его месту в городе определяется и теми преференциями, которые он может дать. В частности, в Зеленодольске (при всем осознании работниками предприятий важности их дела) низкие зарплаты на “оборонке”, близость столицы региона с бо́льшими возможностями трудоустройства и размещение в пределах расширившихся границ города логистических хабов ведут к утере привлекательности (особенно для молодежи) связанных с производством смыслов и связей. В Набережных Челнах о самореализации на заводе говорилось больше, хотя также звучали замечания по поводу заработных плат (при высоких ценах на жилье). Соответственно часть молодых людей выбирает сферу бизнеса, креативные профессии, и для них город и завод уже не связаны столь тесно друг с другом.
В Нижнекамске, в котором нефтехимические и нефтеперерабатывающие компании продолжают расширяться, заводы дают неплохие возможности для профессионального роста и материального обеспечения себя и семьи. Соответственно, позитивная идентификация с ними встречалась достаточно часто. В то же время те, кто стремится реализоваться в иных, не связанных с производством сферах, оценивали потенциал города-завода критически. Наконец, в Альметьевске, отличающемся от остальных изучаемых поселений своим особым статусом нефтяной столицы республики, работа на ведущем предприятии считается престижной (давая ряд преимуществ, в том числе материальных). При этом “Татнефть” стремится поддержать свой фирменный стиль и образ, актуализируя связанные с компанией смыслы. Остальные сферы (образовательно-научная, малый и средний бизнес, культурная, креативная) в данном случае зависят от нее. Другими словами, здесь предприятие действительно выступает “хозяином” города, хотя (по замечанию самих жителей) хозяином рачительным, заботящимся о нем.
И в завершении раздела отметим, что из текстов интервью становилось очевидным стремление ряда экспертов расширить рамки индустриальных образов городов, дополнив их прежде всего образовательной и культурной составляющими. Соответственно обозначались интенции (в том числе самих представителей производств) уйти от однозначного их толкования как городов-заводов, привязанных к одному промышленному объекту. В частности, в Челнах в связи с этим подчеркивалась важность создания Передовой инженерной школы – “драйвового вуза” (ПМА 2: 7) и центра подготовки кадров не только для КамАЗа, но и для всей страны. В Альметьевске акцентировалась значимость реализации проекта Высшей школы нефти, объединяющего образовательную программу и научные разработки и трактуемого как “источник роста города” (Там же: 8). В Нижнекамске аналогичные устремления связывались с НХТИ (Нижнекамским химико-технологическим институтом), в котором началась реализация проекта научно-образовательного кампуса. В то же время в Зеленодольске эксперты ратовали за возвращение в город хотя бы филиалов казанских вузов (важно, однако, отметить, что здесь еще с 1949 г. продолжает работать Зеленодольское проектно-конструкторское бюро).
Отражение истории городов и их населения
“Город инициативных людей”. История возникновения городов и формирования населения также определяет их образы. Причем при ее обсуждении интервьюируемые вновь выходили на тему менталитета жителей.
Хотя статус города был получен Набережными Челнами в 1930 г., никто из участников исследования не говорил об этом. Все связывали историю со строительством в 1970–1980-е годы завода-гиганта: “Я вырос под огнями КамАЗа, на другом берегу Камы. Вот у меня в деревне ночью было светло как днем от огней, которые здесь зажглись на стройке” (ПМА 2: 9). Показательно, что архитектор В.Л. Глазычев, работавший в Челнах в 1984 г. по одному из проектов, вспоминал, что он приехал, когда строительная техника доламывала последние старые постройки (из которых ему удалось “спасти” лишь несколько зданий [Глазычев 2005]). Возможно, в том числе поэтому в ходе интервью складывалось впечатление, что до КамАЗа города не было. Так или иначе, тогда данный путь воспринимался однозначно как путь в светлое будущее, что хорошо передано в картине А. Вашурова “Новые Челны”, где изображена дорога от старого деревянного к новому “белому” городу.
Таким образом, завод стал в данном случае не просто смысловой доминантой поселения, но и начальной точкой исторической памяти горожан. Этому способствует и следующее обстоятельство: его население сформировалось по большей части в период возведения и запуска предприятия. С 1969 г. по 1989 г. оно увеличилось более чем в 13 раз (с 37,9 тыс. человек до 500 с лишним тыс. человек [Краткая характеристика 1993: 7]). Причем жителями “нового” города стали съехавшиеся сюда со всего Советского Союза на знаменитую комсомольскую стройку. В связи с этим интервьюируемыми артикулировались смыслы: город активных людей, умеющих самоорганизовываться, потомков первостроителей КамАЗа (“Люди у нас здесь… инициативные, горячие сердцами, потому что приехали люди со всех уголков… СССР. Встретившись друг с другом, они образовали семьи, которые… создали таких же детей по темпераменту, по энергетике” [ПМА 2: 10]). Показательно также, что на городском гербе запечатлен челн с полными парусами и спущенными в воду веслами – символ движения вперед и готовности жителей ускорить это движение.
Названные качества простимулировали динамичное становление бизнеса в этом городе: “У Челнов очень такой независимый, гордый характер, и, естественно, свободные люди могли бы и хотели бы реализоваться” (Там же: 9). Озвученное обстоятельство признавалось в том числе экспертами из других городов региона: “КамАЗ закрывался. И Челны… им надо было как-то выживать. И там развивалась именно предпринимательская жилка, там очень хорошие предприниматели” (Там же: 11). Отмечалось и то, что Набережные Челны – город с “социальными лифтами” (Там же: 10).
Наконец, специфика истории проявилась в культуре. На фоне академической культуры Казани она всегда казалась более смелой и авангардной. Иными словами, новому городу стало созвучным искусство (Султанова 2001: 50), связанное с новаторским театром и “смелыми” для своего времени монументальными работами Э. Ханова. Данные традиции продолжают сегодня Русский драматический театр “Мастеровые” и Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова, КОП “Метро”, “Творческий треугольник” и организуемые рок-музыкантами концерты.
“Не зовите нас чудаками, / Вспомнит кто-нибудь стариков, / Кто закладывал первый камень / Нестареющих городов”. Нижнекамск строился на пустыре, хотя вокруг него располагался ряд сел, основанных еще в XVII в. С открытием на юго-востоке ТАССР залежей нефти в конце 1950-х годов было решено возвести на северо-востоке республики нефтехимический комплекс (47 лет 2013). В 1959 г. Всесоюзным институтом проектирования “Гипрогор” был разработан генплан города, а 25 декабря 1960 г. сюда приехали строители и забили первый колышек. В 1962 г. здесь трудилась 1 тыс. человек, в 1966 г. проживало уже 30 тыс., и рабочий поселок переименовали в город. Его посещение в 1968 г. вдохновило А. Пахмутову и Н. Добронравова написать знаменитую песню “Смелость города берет”, отразившую настроение создававших его энтузиастов: “Им приходилось быть сильными. На пустом месте город строился” (ПМА 1: 5).
Соответственно Нижнекамск характеризовался интервьюируемыми как “молодой” город и место, в котором можно самореализоваться. Он обозначался также как город-труженик, где люди в четыре утра “едут на промзону”, поскольку химическое производство – безостановочное:
У этого города есть… свой плюс большой – это промышленная площадка, то есть, там, где… молодой специалист… может стать профессионалом своего дела (ПМА 2: 6).
Очень быстро засыпает город. В девять часов уже так мало людей, мало машин. <…> У нас большое количество населения… работает на заводе. <…> И многое там не останавливается, работает круглосуточно (Там же: 12).
Интервьюируемыми артикулировалось и то, что Нижнекамск вбирал и вбирает население окрестных деревень, что дало основание одной из экспертов назвать его городом “крестьянского характера”: “ Это город скромных людей. <…> Мы – стоящие на земле, вот так бы я сказала” (Там же: 2).
Что касается культуры, в сравнении с Челнами интервьюируемыми больше говорилось здесь о проводимых в городе конкретных мероприятиях: “Всегда там поют, рассказывают стихи и эмм… что-то танцуют. <…> Не могу сказать, насколько много и хорошо это делают, но да, это есть” (ПМА 1: 6). Упоминался и Татарский драматический театр, Музей народного художника Ахсана Фатхутдинова, известный в РТ ансамбль песни и танца “Нардуган”. Тем не менее участники интервью, особенно из числа молодежи, сетовали на недостаточную насыщенность культурной жизни Нижнекамска: “Если ты хочешь на какой-то концерт съездить, то ты едешь либо в Челны, либо в Казань” (Там же: 3).
В то же время руководством города и предприятий в последние десятилетия предпринимаются усилия по актуализации связанных с историей соседних деревень (русских и татарских), усадеб и пристани культурных символов. Тем самым, наряду с артикуляцией связанной с заводом истории города, акторы стремятся возродить/сконструировать заново более древние смыслы, сформировать альтернативные производственным культурные ландшафты.
“… это место гораздо более древнее и… хранит какие-то тонкие смыслы” (ПМА 2: 13). Альметьевск имеет иную историю. Он возник на месте татарской деревни, основанной в начале XVIII в. До революции село носило черты полугородского, и в его центре – как было свойственно пространственной структуре подобных поселений у мусульман – располагались “главная площадь, мечеть и базар” (Альметьевск б. г.) (ныне в городе есть район “Иске Әлмәт”/Старый Альметьевск с кладбищем, мечетями, частным сектором и домом культуры); развивались торговля и промыслы. В 1948 г. с обнаружением нефти численность населения начала расти, а в 1953 г. Альметьевск получил статус города.
Таким образом, в данном случае мы видим определенную преемственность места, и при более пристальном рассмотрении здесь открываются не лежащие на поверхности относительно давние культурные и духовные смыслы. Они, по мнению отдельных экспертов, берут начало в исламе (по одной из версий, деревня основана муллой Альметом [Амирханов б. г.]) и в татарской сельской культуре: “Этот уклад… на уровне подсознания. <…> У нас все-таки население… домоседы. <…> они живут… семейными ценностями” (ПМА 2: 14). При этом на них, а не только на истории развития нефтяной отрасли, выстраивается идентичность города, запрос на осмысление которой идет в настоящий период в первую очередь от ведущей компании. В связи с этим интервьюируемыми отмечались, в частности: проект “Сказка о золотых яблоках”, в рамках которого на фасадах домов появились муралы (в том числе на исторические и традиционные для татарской культуры сюжеты), самая большая в России выставка тюркских музыкальных инструментов, скульптура “Каракуз” (Черноглазая) (возведенная на площади перед зданием “Татнефти” известным скульптором Д. Намдаковым), этномодерн-фестиваль с тем же названием, а также строительство арт-резиденции (где планируется размещение площадок под ремесленные мастерские).
Таким образом, в Альметьевске мы видим пример того, как в исторической памяти горожан актуализируются связанные не только с историей завода, но и с историей края символы и смыслы. Очевидно и стремление лидеров ведущего производства сохранить традиции и сделать при этом этническое современным, что дало основание одной из приглашенных в город специалистов назвать его руководство “патриотами Альметьевска и трудоголиками”, которым важно “превратить” город в “пространство культуры… где людям интересно и стоит жить” (Там же: 13). Сами горожане (как татары, так и русские), в свою очередь, подчеркивали, что они поддерживают такие начинания: “У нас с национальными много чего связано, татарское, именно. <…> Очень приветствуем” (ПМА 1: 7). В результате город начинает претендовать на роль нового культурного центра республики, занимающего свою отличную от Казани и Челнов нишу.
Город, у которого “на все свое мнение”. История Зеленодольска связана с поселениями, основанными в XIX в. переселенцами из русского и марийского сел. В конце XIX в. здесь была открыта железнодорожная станция (ныне – важный железнодорожный узел Казанской агломерации), мастерские по ремонту речных судов (легли в основу Завода им. А.М. Горького); начато строительство сталелитейного завода (сегодня – Завод имени Серго), для инженеров и администрации которого возведено жилье – исторический квартал “Полукамушки” (кирпичные дома по проекту К. Берга, над которыми в 1929 г. надстроены деревянные вторые этажи) (Зеленодольск б. г.). В 1913 г. здесь был сооружен уникальный для своего времени железнодорожный мост через Волгу (запечатлен в линогравюре “Романовский мост” С. Царева), имевший стратегическое значение для города и государства. А в годы Первой мировой войны из Петроградской губернии сюда были переведены персонал и оборудование Балтийского, Ижорского заводов, позже – Киевского и Ленинградского судостроительных предприятий, что позволило городу внести существенный вклад в оборону страны в годы Великой Отечественной войны.
Отмеченные выше обстоятельства дали основание экспертам называть Зеленодольск городом инженеров, имеющих на все свое мнение: “Люди уже были инженеры, тем более с образованием. И они уже знали себе цену <…> Мы – город… который не готов принимать все… под копирку” (ПМА 2: 5). Преобладание оборонной промышленности и расположение здесь военно-морской части усиливают военно-патриотическую составляющую его образа (первые места в регионе занимают зеленодольские юнармейские отряды).
Таким образом, история поселения и заводов здесь также неразрывны, однако сами заводы имеют более давние и разнообразные смыслы. При этом эвакуированные туда специалисты оказали влияние на его культуру (в частности, инициировав в сложный военный период – в 1943 г. – открытие здесь музыкальной школы). Сегодня в городе успешно функционируют Центр культуры, искусства и народного творчества им. Горького, Художественная галерея, Зеленодольский музыкальный театр, давшие региону и стране некоторые известные имена (в частности победителей конкурса “Голос”). Иными словами, можно говорить о наличии здесь своей местной культуры, тесно связанной с Казанью, но не идентичной ей, сохранившей характерные для советского периода традиции в виде классических концертов в парках и лыжных прогулок по выходным: “Вы увидите в городе в субботу-воскресенье – идущие люди в шапочках… Шапочки вот такие, знаете, с мысиком… до сих пор на этих, да, на взрослых людях (Там же: 15)”.
Добавим, что недалеко от города сегодня расположены важные туристические объекты Татарстана, связанные с русской/православной культурой (Раифский Богородицкий монастырь, музей-заповедник “Остров-град Свияжск”), что является предметом гордости для части горожан. Однако слышались и такие его оценки, как “пригород Казани”, ее спальный район, из которого вытягиваются лучшие кадры: “Город испытывает кадровый голод” (ПМА 1: 8).
Пространственные характеристики и репрезентация этнокультурного многообразия
Часть представленных в интервью образов была связана с характером организации городских пространств, с их визуальным восприятием. Так, говоря про Челны, эксперты отмечали, что они масштабно выстроены, отличаются “правильными” широкими проспектами и просторными улицами (и это перекликается с образом самих горожан – свободных, дерзких, гордых). Одни из них видели в данном факте плюсы, подчеркивая, что город “по-умному строился”, здесь удобная инфраструктура, нет дорожных пробок и “много воздуха” (ПМА 2: 7), поэтому он воспринимается и сегодня как современный, молодежный. Другие замечали, что множество “продольных улиц, заканчивающихся речкой”, ведет к сильным ветрам и что он “холодноват” (Там же: 16). Встречалась и такая характеристика, как “белый город”: “У нас город облицован белой плиткой. Почти полностью. Поэтому впечатление, что он белый” (ПМА 1: 9). Романтизированная его передача запечатлена в картине М. Усманова “Новый город на Каме”, а вот в работе “Город” В. Анютина иное настроение – отчужденности людей среди новостроек.
Поселение выстроено “линейно”: селитебная зона протянулась вдоль Камского водохранилища (что дало возможность обустроить здесь ряд набережных), а промышленно-складские районы идут следующей линией. Авторские наблюдения подтвердили сохраняющуюся здесь границу между относительно старой (ГЭС, ЗЯБ и др.) и новой частями жилых кварталов. В старой жизнь течет размереннее, семьи гуляют с колясками, а ветераны встречаются в ДК “Энергетик”. В новой больше развлечений для молодежи, площадок для экстремальных видов спорта, дорогие магазины и торговые центры; здесь же функционирует Органный зал, открылся Русский драматический театр “Мастеровые”, здание и интерьеры которого выполнены в красно-серых тонах, соответствующих, по замыслу автора, индустриальной природе города.
При этом интервьюируемыми отмечалось отсутствие в Челнах планировавшегося, но так и не реализованного центра. Одни оценивали данный факт критически: “Люди, которые приезжают… не понимают, где именно точка центральная или улица центральная. Тут по сути есть какие-то кусочки в городе” (ПМА 1: 4); другие замечали, что это даже хорошо, поскольку в нем несколько точек притяжения: “Мне кажется… у всех свои, разные интересы” (Там же: 10). Иными словами, пространство города, меняясь, продолжает нести отпечаток связанного с возведением завода прошлого; примечательно, что и адреса горожане продолжают называть по номерам строительных комплексов.
В Нижнекамске пространственные характеристики иные. При въезде в него со стороны Челнов обращает на себя внимание контраст между впечатляющим, немного мрачным индустриальным пейзажем промзоны и тихим уютным городом. Сами горожане характеризовали его как “компактный”, “зеленый”, “пешеходный”, неоднократно “попадавший на первое место… инфраструктуры городской” (Там же: 5). Благоприятные природные условия призван символизировать герб, на котором изображены сосны, река и солнце. Вот как вспоминает первое впечатление о нем один из экспертов: “Маленький такой и… белый-белый-белый-белый. <…> Улица Химиков сидит в цветах, когда яблони цветут” (ПМА 2: 17). И еще характеристика: “Если брать там моногорода, я помню в фильмах… показывают. <…> Там есть промзона, и есть такой серый городишко. Здесь это не так” (Там же: 6).
Однако, несмотря на то что жилая часть города отделена от промышленной широкой зеленой полосой, а в самом городе расположено большое количество парков и скверов, жители озвучивали проблемы с экологией и здоровьем населения. В связи с этим один из интервьюируемых дал ему характеристику “подхрамывающий” (ПМА 1: 11). Поэтому самое дорогое и комфортабельное жилье располагается здесь в противоположной от заводов стороне, где находятся историческое место “Красный ключ”, один из красивейших в регионе храмов с тихой аллеей, экопарк и благоустроенная набережная (для всех горожан).
Руководство Нижнекамска и ведущих компаний, что подчеркивалось в ходе экспертных интервью, активно решает данные проблемы: как напрямую – вводя жесткие нормы контроля на производстве, так и косвенно – налаживая правильное питание работников, стремясь улучшить экологическую ситуацию путем организации движения электротранспорта, строительства велодорожек: “Есть предрассудки… что экологию формируют только заводы… На сегодняшний день влияние автомобильного транспорта, оно тоже колоссальное” (ПМА 2: 18).
Альметьевск отличается от охарактеризованных выше поселений тем, что в нем нет столь большой выделенной промзоны, поскольку нефтедобыча ведется за пределами города. Однако здесь находятся заводы, производящие оборудование и комплектующие (для нефтедобычи и нефтесервиса), располагаются дирекция и НГДУ предприятий. Характеризуя его пространства, эксперты и горожане обращали внимание на то, что они стали в последние годы благоустроенными – “город, где комфортно жить” (Там же: 8). Это обстоятельство объяснялось возможностями ведущей компании, а также тем, что «топ-менеджмент, на примере “Татнефти”, “СМП” (“СМП Нефтегаз”. – Г.М.) и “Таграс” живет здесь» (Там же: 19). Отмечалось, что он “грамотно… обживается с точки зрения инфраструктуры… мест проведения досуга… и это в шаговой доступности” (ПМА 1: 2); поэтому отдельные интервьюируемые определяли его как “маленькую Швейцарию”. В связи с этим выделялись такие объекты, как “Каскад прудов”, велодорожки (“больше ста километров. Это вело-столица России” [ПМА 2: 19]), Спортивно-оздоровительный комплекс “Ян”; назывался также Интерактивный научно-познавательный центр “Альметрика”, Детский технопарк “Кванториум”. Подчеркивалось и то, что расстояние от города до столицы Татарстана сокращается в связи со строительством новой платной автомагистрали.
Тем не менее отдельные информанты сетовали на недостаточную развитость здесь историко-культурной среды: “История города, у нас этого нет. Вот как ни развивай, а исторические какие-то вещи, там здания, сооружения, куда хочется сходить, посмотреть, почувствовать…” (ПМА 1: 12). Таким образом, при том что в поселении акцентируются связанные с историей места смыслы, его собственно городская история недавняя, и городские пространства только формируются.
В Зеленодольске обратил на себя внимание большой частный сектор, разделенный переездами и напоминающий скорее загородный поселок. Такой образ передается и названиями части улиц – Березовая, Вишневая, Залесная, Озерная, Весенняя. Достаточно тихий и спокойный центр (улица Ленина), в котором сохранились милые трехэтажные дома старой советской застройки, живет своей размеренной жизнью. А проехав по эстакаде через железную дорогу, попадаешь в развернувшуюся вдоль Волги промзону: такое ее расположение продиктовано тем, что Завод им. Горького спускает на реку производимые им суда: “Город все-таки обосновывался как промышленный. И весь вот этот берег сейчас занят большими нашими производствами” [ПМА 2: 15]). В связи с этим отдельными интервьюируемыми отмечалось, что он не имеет своей набережной (променада) и что новый благоустроенный пляж оказался вынесенным за городскую черту. В свою очередь, ближе к Казани (по дороге к ней) разрастается новый микрорайон – “Мирный” – с современным парком, кинотеатром и Молодежным центром “Порт”.
Соответственно, характеристики и оценки города оказались противоречивыми и отличались у представителей разных возрастов. Так, горожане старшего поколения и те, кто уже имеет свои семьи, отмечали, что город зеленый, в нем есть лес, река и озеро, возможности для культурного развития детей: “Вот музыкальная школа, там рядом художественная школа… Детские сады и школы тоже, не надо на трамваях ехать” (ПМА 1: 13). Однако те, кто еще не обзавелся семьей, характеризовали его как скучный, подчеркивая, что для учебы и развлечений приходится ездить в Казань: “Молодежи <…> здесь нечего делать – тут нет образования, здесь нет развлечений, здесь некуда пойти” (Там же: 14).
Важно подчеркнуть, что во всех изучаемых поселениях интервьюируемые признавали позитивное влияние на их образы реализации в республике проектов реновации парков и скверов, благоустройства дворов. Отмечалось и то, что городские пространства стали в связи с этим более безопасными, а меняющиеся ландшафты позитивно сказываются на городской идентичности: «Я вот, значит, диплом получила, и… у меня была прямо прогулка по Альметьевску. И он тогда выглядел плохо <…> “Ну, не хочу я в Альметьевске жить!”. <…> А теперь… если бы я сейчас заканчивала вуз и прогуливалась бы хоть по этой Ленина… я бы наверно тут осталась» (ПМА 2: 20).
Наконец, еще один аспект, на котором важно остановиться отдельно, касается отражения в представлениях о промышленных городах Татарстана их этнокультурной специфики. В ходе интервью данный вопрос не поднимался специально, однако он возникал в процессе обсуждения. Прежде всего во всех четырех городах интервьюируемыми отмечалась поддерживаемая на уровне республики паритетность татарской и русской культур, ислама и православия. Данные продвигаемые региональными акторами идеи трактовались как общепринятые и само собой разумеющиеся:
Здесь в одну сторону дороги стоит мечеть, с другой стороны церковь. И строятся новые тоже также, учитываются особенности всех (Там же: 18).
Мы ежемесячно проводили мероприятия по табличкам… на двух государственных языках – татарском и русском. <…> Чтобы информационная доступность была (Там же: 19).
В то же время отмечалась деятельность национально-культурных ассоциаций, репрезентирующих культуры всех народов: «В этом году отремонтировали Дом Дружбы “Родник”, где у нас 22 общины находятся… у каждого есть своя комната. Они все у нас оформлены в национальном стиле. Есть там воскресная школа, куда ходят дети. И на своем родном языке проходят у них занятия и готовятся выступления» (Там же: 21).
Обозначались и этнокультурные особенности каждого поселения. В частности, в Альметьевске, как уже отмечалось выше, подчеркивалась историческая связь с традиционной культурой места, прежде всего татарской: “Это кластер старинных деревень, по большей части, конечно, мусульманских деревень. И это очень сильно ощущается, вот этот духовный… стержень” (Там же: 13). И хотя отдельные интервьюируемые говорили о том, что связанный с сельской культурой домашний/семейный уклад препятствует выходу жителей в пространства города, в нем постепенно складывается своя городская среда, где значимы и традиционные спектакли Татарского драматического театра, и современные фестивали, выставки, ярмарки, а на велодорожки как бы “приглашает” его жителей и гостей скульптура, изображающая Г. Тукая (татарского поэта-классика) на велосипеде.
Этнокультурная специфика Нижнекамска также определялась рядом экспертов как связанная в первую очередь с татарской культурой. При этом, наряду с ее воплощением в “Парке Тукая”, в организуемых на открытых площадках концертах, вновь отмечалась деятельность татарского театра (с его литературными вечерами “Җидегән чишмә”), ансамбля “Нардуган” и галереи А. Фатхутдинова. В то же время становящееся знаковым для нижнекамцев место “Святой/Красный ключ” является выражением тесной связи мусульманской и православной традиций и истории.
В Челнах в качестве этнокультурной доминанты интервьюируемыми выделялась идея многонациональности, а также равенства татарской и русской культур. И это органично для города, население которого сформировано в годы всесоюзной стройки. Не случайно в изобразительном искусстве здесь находит отражение как татарская тема (в картинах М. Хазиева, Х. Шарипова и др.), так и русская/православная (в работах группы художников “АНСВАКИ”). В ходе интервью данная идея проводилась представителями городской администрации: “У нас отремонтирован капитально Русский драматический театр – новое здание, Татарский драмтеатр” (ПМА 2: 10). Другие эксперты и “простые” челнинцы выражали привязанность к тому либо другому из них:
У нас есть “Мастеровые”, слава Богу. <…> Здание абсолютно новое. <…> И актеры у нас есть потрясающие, очень тонкие, эрудированные люди (Там же: 22).
Татарский драмтеатр в новое здание большое переехал. <…>. Там очень внутри красиво. <…> Я сама очень люблю театр, татарский театр… прям на душу лежит. <…> Татарский язык вот именно в театре очень люблю (ПМА 1: 10).
Наконец, в Зеленодольске при артикулировании паритетности культур экспертами отмечалось, что они гордятся фестивалем “Свет Вифлеемской звезды”: “На уровне республики как бы мы ассоциируемся именно с этим праздником” (ПМА 2: 5). Также в городе начал проводиться день Ивана Купалы. Это объяснялось тем, что среди жителей поселения преобладают русские. Хотя, как и во всех городах Татарстана, здесь проходят и татарские праздники: «Гордимся своим Рождественским фестивалем, который мы на протяжении… 24-х лет проводим. <…> Ну, и “Сабантуй” у нас очень интересно проходит» (Там же: 15). Поэтому было ожидаемо, что и в стрит-арт-проекте “Яркий Зеленодольск”, помимо пейзажей и репрезентации ведущих предприятий города, можно будет увидеть церкви (Свияжского и Раифского комплексов и др.), а также мечети.
В качестве обобщения отметим, что при всей значимости этнической темы в изучаемых промышленных городах она все же остается в них вторичной по отношению к смыслам, связанным с их индустриальным прошлым и настоящим.
* * *
Проведенное исследование позволило выделить основные составляющие образов промышленных городов Татарстана, выявить их типические черты и отличающие друг от друга характеристики. Вербально фиксируемый формат описания данных образов лидерами городских сообществ и “рядовыми” горожанами (ориентирующимися на предлагаемые акторами смыслы и по-своему выражающими их) оказался “созвучным” закрепляемым в городской символике и топонимике, монументальной пропаганде и произведениях искусства смыслам.
1) Общим для изучаемых поселений (как и ряда других промышленных городов России) явилось то, что сохраняющийся индустриальный профиль и конкретная отраслевая специализация продолжают определять их образы. Отсюда обозначение данных поселений как города нефтяников, химиков, машиностроителей, судостроителей. При этом, задавая их ритм и образ жизни, завод выступает для каждого горожанина неким незримым “партнером”: “соратником” – в случае его вовлеченности в дела завода, “хозяином” – если чувства сопричастности к его деятельности и проектам нет. Восприятие города-завода зависит и от возможностей самого ведущего предприятия выступить в роли участника городского развития, обеспечить преференции своим работникам. В то же время наблюдается стремление акторов (в том числе связанных с производством) расширить индустриальные смыслы образовательной и научной составляющими.
2) История городов, получающая отражение в их образах, также тесно связана с историей заводов. Иными словами, предприятия выступают не просто смысловой доминантой данных образов, но и в ряде случаев – начальной точкой отсчета исторической памяти горожан. Имеет значение и история возникновения и формирования населения. В связи с этим Набережные Челны обозначались как город инициативных и гордых людей – потомков первостроителей КамАЗа, Нижнекамск – город-труженик больше “крестьянского характера”, Альметьевск – как поселение, где в качестве духовного стержня сохраняется связь с культурой татарской/мусульманской деревни, а Зеленодольск – как город, “лицо” которого определяется прибывшей сюда в периоды эвакуаций инженерной интеллигенцией, отличающейся независимостью суждений.
3) Ряд характеристик определяется пространственной организацией городов, их географическим положением, экологической ситуацией и формирующейся культурной спецификой. Так, Челны – это город широких проспектов и удобной инфраструктуры, сохраняющий “следы” советской эпохи в виде отсутствия центра и многонациональной культуры, которую можно также охарактеризовать как современную индустриальную и авангардную. Нижнекамск – город, поражающий контрастом мощи индустриального пейзажа и уюта городских парков, ищущий и находящий пути разрешения экологических противоречий, с культурой, складывающейся в ходе деятельности местных коллективов и актуализации связанных с окрестностями более давних смыслов. Альметьевск – небольшой, благоустроенный и комфортный для проживания город, культура которого ориентирована на становление креативных индустрий, базирующихся на этнических (связанных прежде всего с локальной татарской традицией) мотивах. Зеленодольск – расположенный недалеко от столицы республики, протянувшийся вдоль Волги (хотя и не имеющий своей набережной) зеленый и спокойный город со своей провинциальной, тесно связанной с Казанью культурой, отличающейся большей связью с русскими/православными традициями.
Таким образом, при обусловленной главной функцией промышленных городов Татарстана схожести их образов, они индивидуальны и отличаются друг от друга связанными со спецификой истории и формирования населения характеристиками, особенностями организации пространства и культуры (в том числе этнической ее составляющей). У каждого из них постепенно формируются свое “лицо”, визуальный облик и характер.
Источники и материалы
47 лет 2013 – 47 лет назад Нижнекамску официально присвоили статус города // Официальный сайт Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 22.09.2013. https://e-nkama.ru/news/253/18631
Альметьевск б. г. – Альметьевск. Город республиканского подчинения, центр Альметьевского района // Tatarica. Татарская энциклопедия. https://tatarica.org/ru/razdely/municipalnye-obrazovaniya/gorodskie-poseleniya/almetevsk (дата обращения: 07.07.2023).
Амирханов б. г. – Амирханов Р. Когда и кем было основано село Альметьево? // ТюркоТатарский Мир. http://www.tataroved.ru/publication/almet/7/8 (дата обращения: 29.03.2024).
Зеленодольск б. г. – Зеленодольск. Город (с 1932 г.) республиканского подчинения, административный центр Зеленодольского района (с 1958 г.) // Tatarica. Татарская энциклопедия. https://tatarica.org/ru/razdely/municipalnye-obrazovaniya/gorodskie-poseleniya/zelenodolsk (дата обращения: 10.07.2023).
Краткая характеристика 1993 – Краткая характеристика г. Набережные Челны и отраслей городского хозяйства. Набережные Челны, 1993.
ПМА 1 – Полевые материалы автора. Интервью в семьях жителей промышленных городов Татарстана, 2021 г. (информанты: 1 – Набережные Челны, муж., 32 г.; 2 – Альметьевск, муж., 45 л.; 3 – Нижнекамск, муж., 35 л.; 4 – Набережные Челны, жен., 48 л.; 5 – Нижнекамск, жен., 66 л.; 6 – Нижнекамск, жен., 28 л.; 7 – Альметьевск, жен., 46 л.; 8 – Зеленодольск, жен., 58 л.; 9 – Набережные Челны, жен., 24 г.; 10 – Набережные Челны, жен., 40 л.; 11 – Нижнекамск, муж., 38 л.; 12 – Альметьевск, жен., 43 г.; 13 – Зеленодольск, жен., 50 л.; 14 – Зеленодольск, жен., 17 л.).
ПМА 2 – Полевые материалы автора. Экспертные интервью в промышленных городах Татарстана, 2022 г. (эксперты: 1 – Альметьевск, вед. предпр.; 2 – Нижнекамск, вед. предпр.; 3 – Зеленодольск, работ. культ.; 4 – Зеленодольск, предприн.; 5 – Зеленодольск, креат. индустр.; 6 – Нижнекамск, вед. предпр.; 7 – Набережные Челны, вед. предпр.; 8 – Альметьевск, администр. гор.; 9 – Набережные Челны, предприн.; 10 – Набережные челны, администр. гор.; 11 – Альметьевск, предприн.; 12 – Нижнекамск, общ. организ.; 13 – Альметьевск, креат. индустр.; 14 – Альметьевск, работ. культ.; 15 – Зеленодольск, работ. культ.; 16 – Набережные Челны, вед. предпр.; 17 – Нижнекамск, работ. культ.; 18 – Нижнекамск, гор. админ.; 19 – Альметьевск, гор. админ.; 20 – Альметьевск, креат. индустр.; 21 – Набережные Челны, гор. админ.; 22 – Набережные Челны, креат. индустр.).
СБ 2023 – Статистический бюллетень “Численность населения муниципальных образований Республики Татарстан” на начало 2023 года // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. 25.04.2023. https://16.rosstat.gov.ru/naselenie
Об авторах
Гузель Ильясовна Макарова
ОСП ГНБУ “АН РТ” “Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ”
Автор, ответственный за переписку.
Email: makarova_guzel@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3912-0961
д. соц. н., главный научный сотрудник отдела этнологических исследований
Россия, ул. Батурина 7А, Казань, Республика Татарстан, 420111Список литературы
- Глазычев В.Л. Глубинная Россия: 2000–2002. М.: Новое издательство, 2005.
- Горелова Ю.Р. Образ города в восприятии горожан. М.: Институт наследия, 2019.
- Дранникова Н.В. Локальная идентичность жителей двух северных городов Архангельска и Северодвинска: опыт сравнительного анализа // Антропология города. Вып. 2, Северный город: Культурное пространство и культурные идентичности в арктических и субарктических городах / Под. ред. Ю.П. Шабаева, И.Л. Жеребцова, М.А. Омарова. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УРО РАН, 2020. С. 80–105.
- Дридзе Т.М. (ред.) Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы. М.: Наука, 1994.
- Замятин Д.Н. Геокультурный брендинг территорий: концептуальные основы // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5. С. 11–23.
- Карасева А.И. К вопросу о культурной специфике северных городов (рец. на: Антропология города. Вып. 2. Северный город: культурное пространство и культурные идентичности в арктических и субарктических городах / Под ред. Ю.П. Шабаева, И.Л. Жеребцова, М.А. Омарова. М., 2020) // Этнографическое обозрение. 2022. № 1. С. 237–242. https://doi.org/10.31857/S0869541522010158
- Карачурина Л.Б. Урбанизация по-российски. Тенденции последних 20 лет // Отечественные записки. 2012. № 3 (48). С. 10–24.
- Малькова В.К., Тишков В.А. (ред.) Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012.
- Пидодня Ю.А. Образ города в рамках социальной психологии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. № 1. С. 86–87.
- Султанова Р.Р. Искусство новых городов Татарстана (1960–1990-е годы): живопись, графика, монументально-декоративное искусство, скульптура. Казань, 2001.
- Шабаев Ю.П., Садохин А.П., Лабунова О.В., Сазонова Н.Н. Антропологическое понимание города и методология урбанистического изучения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 3 (145). С. 248–267. https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.13
- Шипицына О.А. и др. Горнозаводская и равниннофабричная цивилизации России: индустриальное наследие и городская идентичность // Городские исследования и практики. 2021. Т. 6 (1). С. 125–144. https://doi.org/10.17323/usp612021125–144
- Gospodini A. Portraying, Classifying and Understanding the Emerging Landscapes in the Post-Industrial City // Cities. 2006. Vol. 23 (5). P. 311–330. https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.06.002
- Harcup T. Re-Imaging a Post-Industrial City: The Leeds St Valentine’s Fair as a Civic Spectacle // City. 2000. Vol. 4 (2). P. 215–231. https://doi.org/10.1080/13604810050147839
- Hodson P. Titanic Struggle: Memory, Heritage and Shipyard Deindustrialization in Belfast // History Workshop Journal. 2019. Vol. 87. P. 224–249. https://doi.org/10.1093/hwj/dbz003
- Rodwin L., Hollister L.M. (eds.) Cities of the Mind: Images and Themes of the City in the Social Sciences. N.Y.: Plenum press, 1984.
Дополнительные файлы