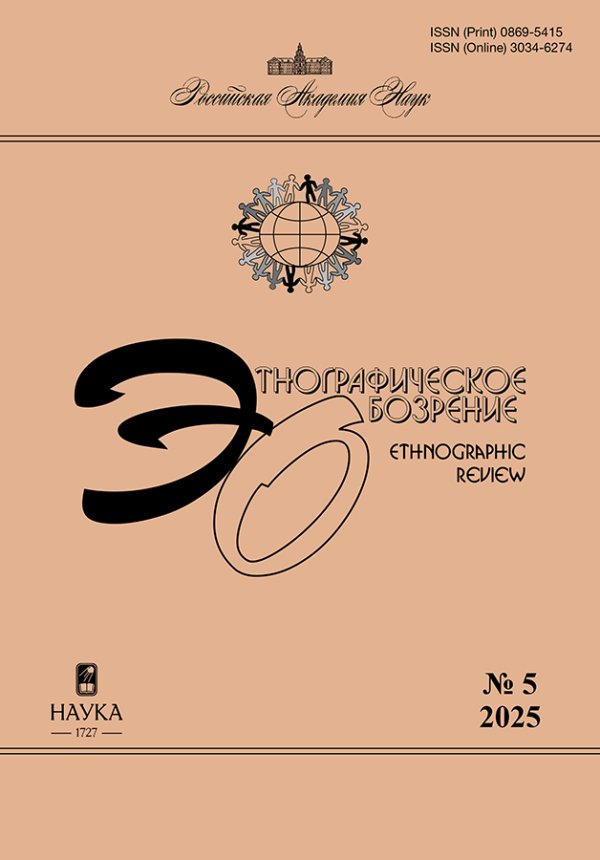Religious Inflection in the Economy of Experience: The Concept of Atmosphere in Aesthetic and Phenomenological Thought of Hermann Schmitz and Gernot Böhme
- Authors: Runkel S.1
-
Affiliations:
- Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 56-69
- Section: Special Theme of the Issue: Anthropology of Affective Atmospheres
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5415/article/view/271239
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524040047
- EDN: https://elibrary.ru/AZAETX
- ID: 271239
Cite item
Full Text
Abstract
The article offers a brief genealogy of the concept of atmosphere in the thought of Hermann Schmitz (New Phenomenology) and Gernot Böhme (Aesthetic Theory) to show that the concept takes on a quasi-religious appearance, especially in its design and economic applications. It is shown how a phenomenological concept of religious origin could become a pseudo-psychological marketing strategy. The article argues that the concept of atmosphere should not be applied too exclusively to the design of (interior) spaces, but that the sociality of atmospheres should also be taken into account. In this way, attention can be drawn to the manipulative power of the atmospheric.
Full Text
Понятие “атмосфера” многогранно1. Уделяемое ему в последние годы повышенное внимание способствовало диверсификации его концептуальных определений. В ходе внедрения понятия в различные дисциплины возникала необходимость состыковывать его с доминирующими в этих дисциплинах дискуссиями и практикой. В результате спектр значений “атмосферы” расширился. С точки зрения социологии знания притягательность понятия можно объяснить тем, что оно остается неопределенным и функционирует в качестве “плавающего означающего” (Lévi-Strauss 1987: 63) в “языковых играх” повседневного и научного языков. Дискурсивный его успех как журналистского и научного феномена еще ждет своей деконструкции. Таким образом, точное онтологическое определение “атмосферы” или “атмосферного” оказывается сизифовой задачей. Тем не менее попытки многочисленны. Одним из стимулов для настоящей статьи стало следующее наблюдение: понятие атмосферы приобретает квазирелигиозный вид, особенно в его конструктивных и экономических приложениях. На первый взгляд удивительно то, что атмосферы становятся товарным фетишем, однако не менее удивительно и то, что феноменологическая концепция, сформировавшаяся когда-то в религиозном контексте, может быть преобразована в псевдопсихологическую маркетинговую стратегию. Приводимая в этой статье краткая генеалогия понятия атмосферы служит целям более широкого его определения, а также критически рассматривает манипулятивную власть атмосферы.
Атмосферы заняли центральное место в стратегическом словаре капиталистических экономик опыта (Erlebnisökonomien) позднего модерна (ср.: Pine, Gilmore 2011)2. В последнее время появилось большое количество руководств и справочников по этой теме. Недавно были опубликованы работы, в которых скрупулезно и методично предпринимаются попытки экспериментального разбора и конструирования таких атмосфер (ср.: Lipczinsky, Börner 2001; Uhrich 2008; Leichtle 2009; Müller 2012; Huber et al. 2013). С точки зрения методологии эта литература использует, с одной стороны, сложные количественные схемы для “измерения” атмосфер, а с другой – указывает на возможности оптимизации декора и меблировки внутренних пространств, в особенности торговых помещений. Экономические практики соблазнения потребителей и создание “чистого” опыта уже давно подвергаются критическому анализу и разоблачению (Hasse 2004; Kazig 2007a; Biehl-Missal, Saren 2012). В настоящее время ясно, что жанру атмосферной поэтики служат прежде всего искусствоведы и архитекторы3.
Ниже я хотел бы вкратце проследить генеалогию значений термина “атмосфера”4, которая, однако, остается неполной (и, с очевидностью, предварительной). Выражение “соответствие значений” (Bedeutungszusammenhang) предназначено для обозначения различных эпистемических полей значения, в которых термин “атмосфера” онтологизируется или по крайней мере подвергается методологическому обсуждению. Онтологические определения понятия “атмосфера” в основном осуществлялись в феноменологическом ключе – феноменологическая литература является источником этого понятия, которое затем часто в очень урезанном и лишенном онтологических тонкостей виде использовалось в эстетических и архитектурных теориях5.
Атмосфера в религии и (новой) феноменологии
Наряду с Хубертом Телленбахом (Tellenbach 1968) у истоков нынешней дискуссии о понятии атмосферы стоит философ Герман Шмиц6. Шмиц развивает идею религиозного происхождения этого понятия в рамках исторической антропологии. В свою Новую феноменологию (более подробно она будет представлена ниже) он включает “архаическую идею эмоциональных сил, которые овладевают человеком и разворачивают на нем бои как на своем поле битвы” (Schmitz 2014: 47). Шмиц утверждает, что захват человека чувствами трактовался в античности космогонически и в конечном счете занял свое место в раннем христианстве. Чувство “переполненности”, настроение, которое охватывает человека, предстает “в определенном смысле [как] нечто экзогенное” (Taylor 2012: 65). В раннехристианском смысловом контексте именно Святой Дух овладевает чувствами людей (Schmitz 2014: 48). Атмосфера предстает здесь как открытое для трансцендентности пространство, которое можно ощутимо пережить. Атмосферный опыт отсылает к Другому. Это было признано антропологами в ряде феноменологических исследований религии, посвященных нуминозному, священному и возвышенному (van der Leeuw 1970; Eliade 1998; Otto 2013). Чарльз Тэйлор объясняет этот опыт в его религиозном значении следующим образом: “Тогда внутреннее уже не только внутри, но и снаружи. Это означает, что особенно глубокие чувства человеческой жизни существуют в пространстве за пределами нас самих – в пространстве, которое проницаемо для внешней уподобляемой личности силы” (Taylor 2012: 70). Если интерпретировать атмосферный опыт или переживание в религиозном смысловом поле, то нельзя не понять эту захваченность как пневматический эффект, действенность которого можно наблюдать и сегодня не только в так наз. харизматических движениях современного христианства, но и в других религиях также (ср.: Riedel 2015). Это всегда описывается как экзогенная сила, проявляющаяся в религиозных сообществах, их ритуалах и практиках.
За религиозной интерпретацией следует секуляризованная трактовка атмосфер в Новой феноменологии Шмица. Шмиц описывает повседневные переживания как “непроизвольный опыт жизни”, который представляет собой “все, что происходит с людьми очевидным для них образом, но без их сознательной на этом фокусировки” (Schmitz 2014: 30). Шмиц опровергает религиозную интерпретацию следующим тезисом: “Ощущения – это пространственно разлитые атмосферы и телесные силы захвата <…> Я называю атмосферой занятие бесповерхностного пространства, или зоны, в сфере переживаемого присутствия” (Ibid.). Это пространство бесповерхностно постольку, поскольку нет смысла говорить о геометрически определимой позиции чувств, так же как нет смысла говорить о локализованном пространстве звука. Согласно Шмицу, атмосфера, таким образом, не является локализованным пространством.
Шмиц обсуждает различные атмосферы, которые переживаются физически. Он пишет, что мы должны “думать не об удаленных пространствах”, “а о пространствах, которые переживаются как настоящие, наполненные такими чувствами, как радость, печаль, гнев, стыд, страх, мужество, злость, сострадание, удовлетворение” (Ibid.). Атмосферу можно ощущать физически, но можно и просто воспринимать. Кроме того, Шмиц уточняет, что “если захваченность подлинна, то человек, который ею движим, должен сначала солидаризироваться с ней, принять ее как собственное побуждение, и только после этого он может вступить в личную конфронтацию с чувством через подчинение или сопротивление” (Ibid.: 37). Помимо чувств существуют и другие атмосферы, такие как погода, тишина или ночь. Шмиц феноменологически интерпретирует чувства и атмосферы как полувещи. Он объясняет разницу между вещами и полувещами следующим образом: “Вещи длятся без перерыва и действуют опосредованно, как причина, которая производит эффект через влияние. В отличие от них, длительность полувещей может быть прервана, а их действие является непосредственным, так как причина и следствие совпадают” (Ibid.: 39). Здесь Шмиц дистанцируется от реификации чувств, поэтому иногда имеет смысл говорить об “атмосферном”, а не об “атмосфере”. В своей философии Шмиц, таким образом, устраняет религиозную интерпретационную рамку понятия атмосферы и в определенном смысле “нейтрализует” его, возвращая к чисто телесному опыту. Кроме того, для Шмица понятие атмосферы глубоко укоренено в онтологии ситуации, которая будет рассмотрена ниже более подробно. Шмиц упоминает также о возможности формирования атмосферы, а в некоторых случаях и о технике ее культивирования (Schmitz 2009: 77).
Этого краткого описания довольно обширного изложения философской системы Шмица (введение в нее см. в: Schmitz 2005, 2009), по моему мнению, достаточно для последующей аргументации. Поскольку неофеноменологические труды Шмица, за небольшими исключениями (Schmitz et al. 2011; Schmitz 2020), до сих пор не переведены на английский или другие языки, международным дискуссиям (по Новой феноменологии. – С.В.С.) не хватает фундированности. В последнее время “Новая феноменология” Шмица получает все более широкое международное признание, особенно благодаря его концепции атмосферы (Griffero 2014, 2020, 2021; Slaby 2020; Riedel, Torvinen 2020).
Критическое обсуждение концепции атмосферы Гернота Бёме
Современная теоретическая дискуссия в международных изданиях опирается на положения о понятии атмосферы, разработанные в Новой эстетике Гернота Бёме (Böhme 2013 [1995]). Как и Новая феноменология Шмица, Новая эстетика Бёме может быть понята как последовательный отказ от религиозной интерпретации атмосферных феноменов и аналитическое очищение посредством феноменологии опыта от религиозной трактовки понятия атмосферы. Более того, позицию Бёме можно интерпретировать как выход к практическому формированию мира.
От восприятия к созданию атмосферы. Заслуга Бёме состоит в том, что он открыл возможность конструктивного использования понятия “атмосфера” в эстетической и архитектурной теориях. Среди прочего Бёме использует понятие “аура” Вальтера Беньямина (Benjamin 1991) и размышляет об атмосфере в вещно-онтологических терминах. Он в значительной степени отвергает рассуждения Шмица о полувещах, поскольку понимает атмосферу как пространство «в той мере, в какой оно “окрашено” присутствием вещей, людей или констелляций окружающей среды, т. е. их экстатикой» (Böhme 2013: 33). Атмосфера для Бёме – это то, что исходит от вещей. Бёме утверждает, что концепция Шмица сопротивляется возможности того, что атмосферы могут быть порождены и произведены. Он называет феноменологию Шмица сильной стороной эстетики рецепции, но заявляет о ее поразительной слабости в отношении эстетики производства (Ibid.: 31).
Концепция атмосферы Бёме, напротив, тесно связана с техникой инсталлирования и эстетической работой. Его философия обещает намеренное декорирование мира и, с его помощью, захват чувств. Неудивительно, что Новая эстетика Бёме нашла отклик у сценографов, режиссеров, архитекторов, градостроителей и в конечном счете у находчивых маркетинговых стратегов. Однако все это обнаруживает параллели с критикой эстетической экономики, т. е. экономики “присвоения, манипулирования и внушения, осуществляемых посредством производства атмосферы по отношению к тем, кто подвергается их воздействию” (Böhme 2013: 47).
Философские трудности концепции атмосферы Бёме. Идея Бёме использовать понятие атмосферы таким образом, чтобы его можно было интерпретировать как результирующий продукт оформления мира (Weltdekoration), создает ряд философских проблем. Во-первых, это касается эпистемологической дихотомизации субъекта и объекта и вытекающего отсюда противопоставления человека и среды, которое ставится под сомнение в современной философии. Интересно, что Бёме осознает данную проблему, поскольку утверждает, что эта дихотомия должна быть разрушена (Ibid.: 31). С этой целью он использует понятие “экстатика”. Он пишет: «Вещь понимается не через ее отличие от других, ее демаркацию и единство, как раньше, а через способы, которыми она возникает из самой себя. Я ввел выражение “экстатика вещи” для обозначения этих способов выхода из себя» (Ibid.: 32 ff). Экстатику он относит к “вторичным качествам <…> которые принадлежат не вещи самой по себе, а только в ее [вещи] отношении к субъекту” (Ibid.: 33). Попытка Бёме преодолеть дихотомию субъекта и объекта удается лишь с помощью хитрости: повторного введения дихотомии на вторичном уровне7. Эстетическая философия Бёме руководствуется стремлением подчеркнуть конструируемость (Gestaltbarkeit) атмосферы, поэтому его теория атмосферы в конечном счете остается полностью артифицированной, с феноменологическими концепциями ее объединяет только то, что она учитывает (субъективный) опыт. Однако это также означает, что экономика инсценированного производства атмосферы овладевает соответствующими субъектами лишь квазирелигиозным способом. Таким образом, Бёме предлагает доктрину созидания, но в комплекте с длинной инструкцией, в которой перечислены побочные эффекты. По крайней мере можно утверждать, что он оставляет достаточно места для возможности критики “фазы глянцевого капитализма” (Ibid.: 45).
Во-вторых, Бёме, по-видимому, понимает пространство как вместилище, в котором могут быть расположены вещи. С одной стороны, он подчеркивает, что это не пространство в кантовском смысле “созерцания внешнего и находящегося рядом” (Ibid.: 95), а субъективное восприятие пространства, встречающегося с аффективным потоком (Fluidum). С другой стороны, он ссылается на пространственное создание архитектуры: внутренних пространств зданий, площадей, торговых центров, аэропортов, городских центров и культурных ландшафтов (Ibid.: 97). Остается неясным, как (субъективное) восприятие, аффективная текучесть и материальность сочетаются с одновременным стремлением преодолеть дихотомию субъекта и объекта. Взгляд Бёме на воспроизводимость чувств через создание атмосферы в определенной степени игнорирует философию пространства, для которой со времен Лейбница, по крайней мере в связанных с пространством социальных и гуманитарных науках, характерно реляционное, или относительное, его понимание. Более того, создается даже впечатление, что он неявно предполагает почти бихевиористский, т. е. следующий схеме “стимул–реакция”, пространственный детерминизм, который релятивизируется только утверждением, что люди сами способны конструировать пространство. Таким образом, разработанная Бёме концепция атмосферы встраивается в наивно-реалистическую теорию архитектуры, которая успешна с точки зрения эстетической практики, но остается слабой с точки зрения философии пространства.
Коммодификация чувств? Эстетическая философия Бёме, как представляется, делает возможной коммерциализацию чувств. Во-первых, он ясно говорит, что атмосфера обладает властью. Знание о том, как создавать атмосферу, – это, так сказать, сила, которая “влияет на душевное состояние людей, манипулирует их настроением, вызывает их эмоции” (Böhme 2013: 39). Помимо политики, бизнеса и религии, Бёме помещает это знание об атмосферных манипуляциях в индустрию культуры. Он определяет “эстетическую экономику” как текущую фазу развития капитализма (Ibid.: 45) и, ссылаясь на Фрица Хауга (Haug 1971), предлагает к марксову различению двух понятий стоимости, потребительной и меновой, добавить третье – эстетическую стоимость, или стоимость инсценирования (Böhme 2013: 46). Хотя эта стоимость является “эрзац-стоимостью” (Scheinwert), она, безусловно, может доминировать над другими. Бёме делает еще один шаг и утверждает, что “люди испытывают законную потребность в создании определенной атмосферы, оформляя свое окружение и инсценируя себя”. По его мнению, “атмосферное – это часть жизни, а инсценировка служит для ее улучшения”. Он спешит указать на возможную критику манипулятивной власти; по его мнению, его теория осуществимости и создания атмосферы предоставляет возможность для (социальной) критики (Ibid.: 47).
Таким образом, Бёме полностью осознает двуличность (Janusköpfigkeit) предлагаемой эстетической теории. С одной стороны, он излагает свою эстетическую философию так, что она может быть реализована на практике в виде постановочных атмосфер. С другой стороны, он критикует появление все в большем количестве могущественных и опасных инсценированных атмосфер из-за “предвзятости, отчуждения и слепоты”, которые они порождают (Ibid.). Остается неясным, несмотря на заверения Бёме в необходимости критики, как на самом деле можно держать под контролем вызванных им духов8.
Натурализация атмосферы. Прослеживая поэтапный рост стоимости “инсценировок” (inszenatorischen Wertsteigerung), обеспечивающих базовую антропологическую потребность в эстетическом оформлении жизни, Бёме натурализует свою теорию атмосферы. Он пишет: “Эта реабилитация (здесь имеется в виду китч и происхождение эстетического из декоративного искусства. – С.Р.) опирается, с одной стороны, на признание эстетической потребности человека в качестве базовой, а с другой стороны, на осознание того, что выказывание себя, выход из себя, явление, остается основной чертой природы” (Ibid.: 41)9. Бёме обосновывает свою концепцию атмосферы, опираясь на познание природы10, хотя и выводит человека из этой природы, наделяя его атмосферной творческой силой. Кроме того, Бёме обращается к критике эстетической экономики, которая, как он объясняет, коренится в удовлетворении человеческих потребностей, т. е. в фундаментальной характеристике человеческого существования, в так наз. возрастании жизни, и вряд ли может быть остановлена в капиталистических индустриальных странах. Свой вклад в смягчение манипулятивной власти Бёме видит только в разработке эстетической теории пролиферации атмосфер.
Теория атмосферы Бёме глубоко укоренена в технократическом представлении о манипулировании миром. Таким образом, его философия представляется проектом модерна. Человек у Бёме – это рациональный и образованный контролер, человек Просвещения, способный использовать свой интеллект, чтобы проверить, какие силы желают его захвата. Согласно Бёме, предпосылкой для такого процесса контроля является возможность «“эстетического настроя” <…> а именно отношения, которое позволяет нам позволить атмосфере оказывать на нас дистанцированное воздействие» (Ibid.: 30). Иными словами, выходом из опытно-экономического присвоения является бездушная дистанция просвещенного человека. Остается неясным, можно ли когда-нибудь полностью избавиться от суггестивных сил, ведь, по мнению Бёме, создание атмосферы – естественная человеческая потребность.
Бёме многократно критиковал излишества эстетической экономики (Böhme 2010), хотя его теория атмосферы поощряет авторов, которые поддаются призыву к коммерциализации чувств. Призыв Бёме проводить четкое антисократовское различие между потребностью и желанием, очевидно, не помогает. Здесь находит отклик его марксистское наблюдение: потребности могут стать чрезмерными из-за неверного стандарта, и, таким образом, будет субъективно обнаруживаться постоянный дефицит удовлетворения (Böhme 2013: 46 ff, 62 ff). Тем не менее, как уже упоминалось, Бёме надеется разрушить суггестивную силу атмосфер, распространяя знания об их осуществимости (Ibid.: 47). В этом, однако, он в конечном счете напоминает ученика колдуна из знаменитой баллады Гёте, в силу чего возникает вопрос, можно ли рассматривать созданную Бёме коммерциализацию ощущений, на которую сегодня надеются и которую обещают многочисленные руководства и путеводители, в качестве философской надстройки.
Интересная перспектива возникает, если рассматривать эстетическую теорию Бёме в ее квазирелигиозных чертах. Подобно тому, как религиозный человек жаждет связи с бесконечным и растворения в нем, и это стремление питается переживанием духовной атмосферы, человек Бёме жаждет улучшения жизни с помощью красоты: “Показать себя, появиться, инсценировать себя и свой мир: красота – законное стремление человека” (Ibid.: 65). Человек приобретает знание о “красоте”, наблюдая за Другим, т. е. за природой. Удовлетворение потребности в красоте требует участия в эстетической экономике, которая никогда не стоит на месте. Бёме воспроизводит здесь, сознательно или неосознанно, религиозные корни понятия “атмосфера”.
Забвение ситуативного мира соприсутствия. Человек, воспринимающий атмосферу, изначально является довольно одиноким субъектом, которому приходится противостоять эстетическим соблазнам. Философия Бёме разделяет эту социологическую проблему одинокого наблюдателя с феноменологией в целом11, особенно с феноменологическим опытом ландшафта. Эта проблема разрабатывалась и критиковалась в основном феминистскими авторами (ср.: Rose 1993; Mills 1996; Fisher, Embree 2000). Однако полагаемое у Бёме одиночество человеческого (или, может быть, даже мужского?) наблюдателя природы игнорирует социальность атмосферы. Когда мы говорим о приятной атмосфере какого-либо места, например ресторана12 или религиозного объекта, возникает вопрос, не вносят ли люди или присутствующие там нечеловеки существенный вклад в атмосферу.
Вещно-онтологическая теория атмосферы Бёме и основанные на ней усилия практиков атмосферного проектирования интерьеров зданий терпят неудачу прежде всего из-за того, что присутствующие в них люди не являются вещами, а также из-за того, что агрегаты людей и вещей, согласно современным социальным теориям, не являются стабильными (ср.: Nohl, Wulf 2013). Бёме в значительной степени исключает ситуативный мир соприсутствия.
Шмиц же в своей феноменологии решает эту проблему с помощью понятия ситуации:
Ситуация в моем понимании, соответственно, характеризуется: во-первых, цельностью (т. е. единством и связностью); во-вторых, внутренне диффузной (или, как я говорю, хаотично многообразной) зоной значимости, в которой не все индивидуально, поскольку не всегда определено, что в ней тождественно и что от чего отличается; и, в-третьих, тем, что эта зона формируется фактами, программами и проблемами; более того, что угодно может принадлежать к ситуации, и это относится, в частности, к атмосфере чувств, которой она может быть, так сказать, заряжена (Schmitz 1998: 177).
Ситуации пронизывают человеческую жизнь и, таким образом, являются основой для коммуникативных социальных отношений. Обстоятельства – это люди, вещи и полувещи, например атмосферы. Программы – это цели и желания, а проблемы возникают на разных уровнях (практическом, моральном и т. д.). Ситуации часто, но не всегда, идут рука об руку с атмосферами. Шмиц также различает личные (или “одиночные”) и общие ситуации. Общие ситуации могут быть объединены с коллективными атмосферами с помощью воплощения как формы телесной коммуникации (Runkel 2018): “Как партнеры (для воплощения. – С.Р.) выступают другие тела людей и животных, но также и бестелесные объекты, если они исполнены движением и/или синестетическими символами, соединяющими родственные телу качества, как это может восприниматься в гештальте” (Schmitz 2014: 56). Коротко говоря, присутствие других людей оказывает решающее влияние на атмосферность и всегда основано на социально стратифицированных ситуациях13. Это отвечает на вопрос, поставленный в карикатуре: руководства по атмосферному интерьеру или дизайну интерьера не существует. Что касается атмосферы и манипулирования ею, то это означает, что успех может быть достигнут только в том случае, если присутствующие люди исключены или овеществлены14.
* * *
Концепция атмосферы Бёме удивительно ограничена с феноменологической точки зрения. Потенциал критической феноменологии здесь, очевидно, не исчерпывается (Hasse 2014). Однако интересно то, что в понятии “атмосфера” снова появляется религиозный момент. Таким образом, религиозный характер капиталистического жизнеустройства (Lebenssteigerung) снова становится очевидным, хотя теория эстетического труда Бёме в итоге оказывает критикам плохую услугу. Все это вместе с тем возвращает нас к исходному вопросу: действительно ли обещанные Бёме возможности создания атмосфер позволяют нам критиковать эти манипулятивные силы. В конечном счете его подход может быть понят как руководство к составлению примерной программы планирования для всех вовлеченных в экономику опыта (Erlebnisökonomie).
Несмотря на свою практическую эффективность в конкретных дисциплинах, связанных с исследованиями пространства, концепция атмосферы Бёме имеет множество недостатков. В противоположность этому концепция атмосферы Шмица, встроенная в ситуационную онтологию, оказывается более надежной и ценной для описания опыта мира. Следует признать, что при практическом исследовании атмосферы остается возможность для творчества. Конечно, это касается, например, домашней обстановки, структурных решений в устройстве городов, садового и ландшафтного дизайна или театральных постановок. При этом ограничения понятия атмосферы только такими условиями недостаточно. В человеческом общении, например, мы всегда оказываемся в ситуациях, окрашенных атмосферой. Однако зачастую это не только эстетический вопрос. Атмосфера может быть весьма влиятельной, и ее воздействие может быть жестоким и болезненным (см., напр.: Laketa, Fregonese 2022). Атмосферы окрашивают весь спектр человеческого опыта.
Если, с одной стороны, Бёме и можно похвалить за то, что он предоставил пространство для продуктивных размышлений об атмосферах, то с другой стороны (и Бёме намекает на почву для критических дебатов), следует также в срочном порядке разработать подход, позволяющий избегать манипулятивно-суггестивной силы атмосфер. Во-первых, это касается репрессивных атмосфер на личном уровне – можно вспомнить о ситуациях насилия или о соблазнительной силе инноваций в торговле. Во-вторых, речь идет о репрессивной атмосфере на коллективном уровне и, таким образом, о политическом измерении атмосфер, например, когда, как описал Вальтер Беньямин (Benjamin 1991), коллективная эстетика и аффективность политически присваиваются. На этом фоне сужение понятия атмосферы до изобразительного искусства представляется чистым эскапизмом.
1 Здесь публикуется дополненная и переработанная версия статьи, ранее опубликованной на немецком языке (Runkel 2016). Я обязан ценными предложениями Анетте Стенслунд. Сергей Соколовский любезно взялся за перевод статьи с немецкого на русский язык.
2 Понятия экономики опыта (Erlebnisökonomie) и рынка опыта (Erlebnismarkt) разрабатывались немецким социологом Герхардом Шульце (Schulze 1992). Опыт им рассматривается не только как центральный элемент процессов индивидуализации, но и как основной продукт экономики ритейла (т. е. современной розничной экономики) – идея, подхваченная и другими исследователями, работающими в рамках экономической социологии (Pine, Gilmore 2011). (Прим. пер.)
3 В настоящее время концепция атмосферы набирает наибольшие обороты в теории архитектуры (Zumthor 2006; Pallasmaa 2014), в социологии пространства (Amphoux et al. 2004; Thibaud, Duarte 2013), в географии человека (Hasse 2002, 2012; Kazig 2007b), в философии (Griffero 2014, 2020, 2021) и в исследованиях медиа и культуры (ср.: Rauh 2012; Wünsch 2012; Riedel 2015). Концепция атмосферы Гернота Бёме также обсуждается в исследованиях театра (Schouten 2007; Rodatz 2010) и в контексте образования (Düttmann 2000; Hasse 2009; Gieseke 2010). Об этом свидетельствуют как деятельность международной сети Ambiances (www.ambiances.net), так и серия книг “Ambiances, Atmospheres and Sensory Experiences of Spaces” (под ред. Райнера Кацига, Дамьена Массона и Пола Симпсона), выпускаемая издательством “Routledge”.
4 Концептуально связанным с ним, хотя и теоретически отличным, является понятие настроения (Stimmung), которое фигурирует, например, в онтологии Мартина Хайдеггера (Heidegger 2006) как “фундаментальная диспозиция” (Grundbefindlichkeit), описывается Людвигом Бинсвангером как “настроенное пространство” (gestimmter Raum) (Binswanger 1933) и (с опорой на Мартина Хайдеггера и Макса Шелера) впоследствии развивается Отто Фридрихом Больновым в контексте реалистической феноменологии (Bollnow 2010). В интерпретации этого понятия у Больнова, как утверждает Юрген Хассе, Stimmungen отличаются от атмосфер тем, что у человека могут быть “разные дистанционные отношения” с атмосферой (Hasse 2005: 120). Этому вторит Роберт Зайферт, который пишет о “рецептивной способности к аффекту” (Seyfert 2011: 78).
5 В последние годы этот термин был включен в социально-теоретические концепции и часто ассоциируется с “аффективным поворотом” (Clough, Halley 2007; Gregg, Seigworth 2010). Такое концептуальное использование (ср.: Brennan 2004; Anderson 2009; Stewart 2011; Seyfert 2011), на мой взгляд, лишь частично может быть согласовано с предлагаемыми феноменологическими интерпретациями (что в первую очередь связано со спинозистской концепцией аффекта, которую отвергает, например, Шмиц [Schmitz 2005: 96]) и имеет лишь ограниченное отношение к экономике опыта (ср.: Riedel 2020). Однако в англоязычных дебатах о понятии атмосферы в последние годы доминирующим стал подход, основанный именно на теории аффекта. Например, центральное место здесь занимает (квир-)феминистская теоретическая работа Сары Ахмед, в которой в полемике с феноменологией предлагается собственная концепция атмосферы (Ahmed 2010).
6 Критическую оценку концепции атмосферы Шмица см. в: Hauskeller 1995.
7 Сам Шмиц критикует Бёме в аналогичном ключе (Schmitz 1998: 186).
8 Здесь скрытая ссылка на балладу И.В. Гёте “Ученик чародея” (“Духи, лишь колдун умелый вызывает вас для дела”; перевод Б. Пастернака). (Прим. пер.)
9 Обратите внимание, как здесь проявляется еще одна проблематичная дихотомия, связанная с современным разделением природы и культуры.
10 Здесь Бёме критикует прежде всего объектно-ориентированное, чисто материальное понимание природы у Канта, Гегеля и Адорно (Böhme 2013: 80 ff).
11 Обстоятельную критику ограничений и упущений Новой феноменологии Шмица можно найти в: Slaby 2020.
12 В исходной публикации приводилась карикатура (удалена из публикуемого здесь переработанного варианта по соображениям копирайта), где герои – посетители бара, “новички” и “старожилы”, пытаются понять, из чего слагается его атмосфера. “Новички”, прочитавшие путеводитель, задают вопрос соседней шумной компании завсегдатаев: “Мы слышали, что это место славится своей атмосферой, но хотели бы уточнить, являетесь ли вы ее частью?” (Прим. пер.)
13 Питер Слотердайк, опираясь на Шмица, разработал свою сферологическую теорию общества (Sloterdijk 2004).
14 Такое может быть успешным лишь в актерском искусстве или среди персонала сферы обслуживания с их натренированными улыбками.
About the authors
Simon Runkel
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Author for correspondence.
Email: simon.runkel@uni-jena.de
ORCID iD: 0000-0002-3774-2433
Institut für Geographie
Germany, Löbdergraben 32, 07743 JenaReferences
- Ahmed, S. 2010. Killing Joy: Feminism and the History of Happiness. Signs 35 (3): 571–594.
- Anderson, B. 2009. Affective Atmospheres. Emotion, Space and Society 2 (2): 77–81.
- Amphoux, P., J.-P. Thibaud, and G. Chelkoff. 2004. Ambiances en débats [Atmospheres in Debates]. Grenoble: A La Croiseé.
- Benjamin, W. 1991. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [The Work of Art in the Age of Its Technical Reproducibility]. In Gesammelte Schriften [Collected Works], by W. Benjamin. Vol. I, 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Biehl-Missal, B., and M. Saren. 2012. Atmospheres of Seduction: A Critique of Aesthetic Marketing Practices. Journal of Macromarketing 32 (2): 168–180.
- Binswanger, L. 1933. Das Raumproblem in der Psychopathologie [The Space Problem in Psychopathology]. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 145 (1): 598–647.
- Bollnow, O.F. 2010. Mensch und Raum [Man and Space]. Stuttgart: Kohlhammer.
- Böhme, G. 2010. Das Leistungsprinzip und das Reich der Freiheit [The Performance Principle and the Realm of Freedom]. In Kritik der Leistungsgesellschaft [Criticism of Meritocracy], edited by G. Böhme, 13–22. Basel: Aisthesis-Verlag.
- Böhme, G. 2013. Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik [The Atmosphere: Essays on the New Aesthetics]. Berlin: Suhrkamp.
- Brennan, T. 2004. The Transmission of Affect. Ithaca: Cornell University Press.
- Clough, P.T., and J. Halley, eds. 2007. The Affective Turn: Theorizing the Social. Durham: Duke University Press.
- Düttmann, S. 2000. Ästhetische Lernprozesse. Annäherungen an atmosphärische Wahrnehmungen von LernRäumen [Aesthetic Learning Processes: Approaches to Atmospheric Perceptions of Learning Spaces]. Marburg: Tectum Verlag.
- Eliade, M. 1998. Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen [The Sacred and the Profane: On the Nature of Religion]. Frankfurt am Main: Insel.
- Fisher, L., and L. Embree, eds. 2000. Feminist Phenomenology. Dordrecht: Springer.
- Gieseke, W. 2010. Atmosphäre in Bildungskontexten – Beziehungstheoretische Überlegungen [Atmosphere in Educational Contexts – Considerations on Relationship Theory]. In Sinnliche Bildung? Pädagogische Prozesse zwischen vorprädikativer Situierung und reflexivem Anspruch [Sensual Education? Pedagogical Processes between Predicative Situation and Reflective Demands], edited by R. Egger and B. Hackl, 57–70. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gregg, M., and G.J. Seigworth, eds. 2010. The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press.
- Griffero, T. 2014. Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces. Aldershot: Ashgate.
- Griffero, T. 2020. Places, Affordances, Atmospheres: A Pathic Aesthetics. London: Routledge.
- Griffero, T. 2021. The Atmospheric “We”: Moods and Collective Feelings. Milan: Mimesis International.
- Hasse, J. 2002. Zum Verhältnis von Stadt und Atmosphäre. Wo sind die Räume der Urbanität? [On the Relationship between City and Atmosphere: Where are the Spaces of Urbanity?]. In Subjektivität in der Stadtforschung [Subjectivity in Urban Research], edited by J. Hasse, 19–41. Frankfurt am Main: Institut für Didaktik der Geographie.
- Hasse, J. 2004. Kaufhausatmosphären [Shopping Atmospheres]. Der Architekt 5–6: 39–42.
- Hasse, J. 2005. Fundsachen der Sinne: eine phänomenologische Revision alltäglichen Erlebens [The Lost and Found of the Senses: A Phenomenological Revision of Everyday Experience]. München: Karl Alber.
- Hasse, J. 2009. Räume der Pädagogik – zwischen Funktion und Subversion [Spaces of Pedagogy – between Function and Subversion]. Pädagogische Rundschau 63 (3): 369–385.
- Hasse, J. 2012. Atmosphären der Stadt: Aufgespürte Räume [Atmospheres of the City: Discovered Spaces]. Berlin: Jovis.
- Hasse, J. 2014. Was Räume mit uns machen – und wir mit ihnen. Kritische Phänomenologie des Raumes [What Spaces Do to Us – And We to Them: Critical Phenomenology of Space]. München: Verlag Karl Alber.
- Haug, F. 1971. Kritik der Warenästhetik [Criticism of Commodity Aesthetics]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hauskeller, M. 1995. Atmosphären erleben. Philosophische Untersuchungen zur Sinneswahrnehmung [Experience Atmospheres: Philosophical Investigations into Sensory Perception]. Berlin: Akademischer Verlag.
- Heidegger, M. 2006. Sein und Zeit [Being and Time]. Tübingen: Niemeyer.
- Huber, F., M. Lenzen, S. Vizethum, and I. Weißhaar. 2013. Erlebnis-Shopping Concept Stores. Eine empirische Analyse des Einkaufserlebnisses durch Lifestyle und Atmosphäre [Experience Shopping Concept Stores: An Empirical Analysis of the Shopping Experience through Lifestyle and Atmosphere]. Lohmar: Josef Eul Verlag.
- Kazig, R. 2007. Einkaufsatmosphären: Ein wichtiges Kriterium für die Einkaufsstättenwahl [Shopping Atmosphere: An Important Criterion for Choosing a Shopping Location]. CIMA direkt (1): 23–25.
- Kazig, R. 2007. Atmosphären – Konzept für einen nicht repräsentationellen Zugang zum Raum [Atmospheres – Concept for a Non-Representational Approach to Space]. In Kulturelle Geographien. Zur Beschäftigung mit Raum und Ort nach dem Cultural Turn [Cultural Geographies: On Dealing with Space and Place after the Cultural Turn], edited by C. Berndt and R. Pütz, 167–187. Bielefeld: Transcript.
- Laketa, S., and S. Fregonese. 2022. Urban Atmospheres of Terror. Political Geography 96: 102569.
- Leichtle, V.A. 2009. Handbuch für atmosphärische Gestaltung im Hotel: Ambiente schaffen – Sinne berühren – Gäste begeistern [Handbook for Atmospheric Design in Hotels: Create Ambience – Touch the Senses – Inspire Guests]. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Lévi-Strauss, C. 1987. Introduction to the Work of Marcel Mauss. London: Routledge & Kegan Paul.
- Lipczinsky, M., and H. Boerner. 2001. Shop-Design für erfolgreiche Läden: Atmosphäre schaffen mit Raumpsychologie und Feng Shui [Shop Design for Successful Stores: Creating Atmosphere with Spatial Psychology and Feng Shui]. München: Callwey.
- Mills, S. 1996. Gender and Colonial Space. Gender, Place & Culture 3 (2): 125–148.
- Müller, J. 2012. Multisensuale Gestaltung der Ladenatmosphäre zur Profilierung von Store Brands. Ein theoriegeleitetes, experimentelles Design zum Shopperverhalten [Multi-Sensual Design of the Store Atmosphere to Profile Store Brands: A Theory-Driven, Experimental Design for Shopping]. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Nohl, A.-M., and C. Wulf. 2013. Die Materialität pädagogischer Prozesse zwischen Mensch und Ding [The Materiality of Pedagogical Processes Between People and Things]. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 16 (2): 1–13.
- Otto, R. 2013. Das Heilige: Uber das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen [The Sacred: About the Irrational in the Idea of the Divine and Its Relationship to the Rational]. München: C.H. Beck.
- Pallasmaa, J. 2014. Space, Place and Atmosphere: Emotion and Peripherical Perception in Architectural Experience. Lebenswelt – Aesthetics and Philosophy of Experience 4: 230–245.
- Pine II, B.J., and J.H. Gilmore. 2011. The Experience Economy. Boston: Harvard Business Review Press.
- Rauh, A. 2012. Die besondere Atmosphäre: Ästhetische Feldforschungen [The Special Atmosphere: Aesthetic Field Research]. Bielefeld: Transcript.
- Riedel, F. 2015. Music as Atmosphere: Lines of Becoming in Congregational Worship. Lebenswelt – Aesthetics and Philosophy of Experience 6: 80–111.
- Riedel, F. 2020. Affect and Atmosphere – Two Sides of the Same Coin? In Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds, edited by F. Riedel and J. Torvinen, 262–273. Abingdon: Routledge.
- Riedel, F., and J. Torvinen, eds. 2020. Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds. Abingdon: Routledge.
- Rodatz, C. 2010. Der Schnitt durch den Raum. Atmosphärische Wahrnehmung in und außerhalb von Theaterräumen [The Cut Through Space: Atmospheric Perception in and Outside Theater Spaces]. Bielefeld: Transcript.
- Rose, G. 1993. Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge. London: Polity Press.
- Runkel, S. 2016. Zur Genealogie des Atmosphären-Begriffs. Eine kritische Würdigung der Ansätze von Hermann Schmitz und Gernot Böhme [On the Genealogy of the Concept of Atmosphere: A Critical Assessment of the Approaches of Hermann Schmitz and Gernot Böhme]. In Atmosphären des Populären II. Perspektiven, Projekte, Protokolle, Performances, Personen, Posen [Atmospheres of the Popular II: Perspectives, Projects, Protocols, Performances, People, Poses], edited by U. Wünsch, 20–39. Berlin: Uni-Edition.
- Runkel, S. 2018. Collective Atmospheres: Phenomenological Explorations of Protesting Crowds with Canetti, Schmitz, and Tarde. Ambiances – International Journal of Sensory Environment, Architecture and Urban Space. March 2018. http://journals.openedition.org/ ambiances/1067
- Schmitz, H. 1998. Situationen und Atmosphären: Zur Ästhetik und Ontologie bei Gernot Böhme [Situations and Atmospheres: On Aesthetics and Ontology in Gernot Böhme]. In Naturerkenntnis und Natursein [Knowledge of Nature and Being Nature], edited by G. Böhme, M. Hauskeller, C. Rehmann-Sutter, and G. Schiemann, 176–190. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schmitz, H. 2005. Der Gefühlsraum. System der Philosophie [The Emotional Space: System of Philosophy]. Vol. 3 (2), Der Raum [Space]. Bonn: Bouvier Verlag.
- Schmitz, H. 2009. Der Leib, der Raum und die Gefühle [The Body, the Space and the Feelings]. Bielefeld: Aisthesis Verlag.
- Schmitz, H. 2014. Atmosphären [Atmospheres]. München: Verlag Karl Alber.
- Schmitz, H. 2020. Intensity, Atmospheres and Music. In Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds, edited by F. Riedel and J. Torvinen, 60–69. Abingdon: Routledge.
- Schmitz, H., R.O. Müllan, and J. Slaby. 2011. Emotions Outside the Box – The New Phenomenology of Feeling and Corporeality. Phenomenological Cognitive Sciences 10 (2): 241–259.
- Schouten, S. 2007. Sinnliches Spüren: Wahrnehmung und Erzeugung von Atmosphären im Theater [Sensual Sensing/Marks: Perception and Creation of Atmospheres in the Theatre]. Berlin: Theater der Zeit.
- Schulze, G. 1992. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart [The Adventure Society. Contemporary Cultural Sociology]. Frankfurt am Mane: Campus.
- Seyfert, R. 2011. Atmosphären – Transmissionen – Interaktionen: Zu einer Theorie sozialer Affekte [Atmospheres – Transmissions – Interactions: Towards a Theory of Social Affects]. Soziale Systeme 17 (1): 73–96.
- Slaby, J. 2020. Atmospheres – Schmitz, Massumi and Beyond. In Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds, edited by F. Riedel, and J. Torvinen, 274–285. Abingdon: Routledge.
- Sloterdijk, P. 2004. Sphären III – Schäume. Plurale Sphärologie [Spheres III – Foams: Plural Spherology]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Stewart, K. 2011. Atmospheric Attunements. Environment and Planning D: Society and Space 29 (3): 445–453.
- Taylor, C. 2012. Ein säkulares Zeitalter [A Secular Age]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Tellenbach, H. 1968. Geschmack und Atmosphäre. Medien menschlichen Elementarkontakts [Taste and Atmosphere: Media of Human Elemental Contact]. Salzburg: O. Müller.
- Thibaud, J.-P., and C.R. Duarte. 2013. Ambiances urbaines en partage [Shared Urban Atmospheres]. Genève: MetisPresses.
- Uhrich, S. 2008. Stadionatmosphäre als verhaltenswissenschaftliches Konstrukt im Sportmarketing. Entwicklung und Validierung eines Messmodells [Stadium Atmosphere as a Behavioral Scientific Construct in Sports Marketing: Development and Validation of a Measurement Model]. Wiesbaden: Gabler; GWV Fachverlage.
- van der Leeuw, G. 1970. Phänomenologie der Religion [Phenomenology of Religion]. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Wünsch, U. 2012. Event als Interaktion und Inszenierung: Ein Beitrag zu Theorie und Praxis der Medienästhetik [Event as Interaction and Staging: A Contribution to the Theory and Practice of Media Aesthetics]. Berlin: Uni-Edition.
- Zumthor, P. 2006. Atmospheres – Architectural Environments – Surrounding Objects. Basel: Birkhäuser.
Supplementary files