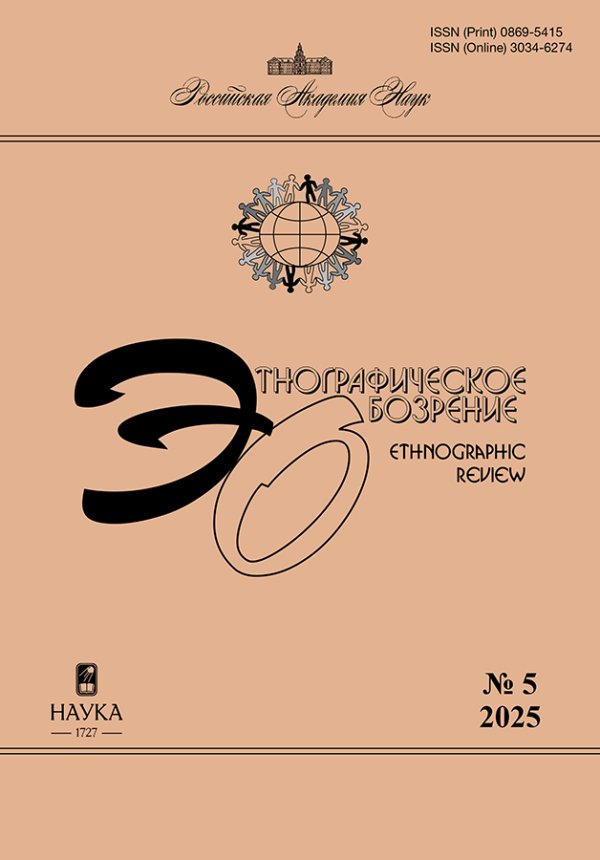The fiasco of ethnonationalism in “Finno-Ugric” republics of the Russian Federation: outcomes of the 2021 population census as an evidence of the crisis of ethnic elites
- Authors: Shabaev Y.P.1
-
Affiliations:
- Institute of Language, Literature and History of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 221-244
- Section: Research Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5415/article/view/268474
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524030127
- EDN: https://elibrary.ru/BRBGCL
- ID: 268474
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyzes the results of the 2021 population census (officially called the 2020 All-Russian Population Census), which showed a very significant decrease in the number of Finno-Ugric peoples of the Russian Federation. It may be noted that the two previous post-Soviet censuses had already recorded this clearly defined negative trend, but the data for 2021 indicates that the rate of decline in the number of titular groups in the republics, which since the early 1990s began to be called “Finno-Ugric,” is increasing. Those commenting on the results of the latest campaign, on the one hand, are trying to present the results as a “cultural catastrophe” and declare a “failure” of the model of ethnopolitics adopted in the country; on the other hand, they are trying to accuse the census organizers of gross mistakes that distorted its results. However, the logic of the ethnocultural development of the Finno-Ugric peoples and the ethnocultural orientations of young people, identified as a result of many years of sociological surveys, indicates that the census quite correctly showed the dynamics of changes occurring among the Russian Finno-Ugric peoples, and these processes can be assessed as a “humanitarian catastrophe” only from the standpoints of ethnonationalism, which are very strong in the “Finno-Ugric territories” due to the very nature of regional ethnocultural and ethnopolitical management.
Full Text
Как известно, переписи населения во всех странах являются важным мероприятием, связанным с учетом населения. Они должны обеспечивать государственные институты наиболее полной и достоверной информацией, характеризующей половозрастную и социально-культурную структуру населения. Тем не менее во многих случаях получить абсолютно достоверные результаты не получается, несмотря на наличие в ряде стран жестких санкций против тех, кто отказывается предоставлять информацию о себе. В этом смысле российские переписи не являются исключением, и особенно много претензий было высказано в адрес кампании 2021 г.
Введение: трактовка материалов переписей
Спектр мнений по поводу итогов переписи 2021 г. широк: от утверждения, что она “полностью провалилась”, до полного признания ее результатов. Анализируя итоги этой кампании, эксперты пытаются оценивать как качество полученных сведений, так и возможности их интерпретации, при этом достаточно часто пишется о недоучете населения или выявленных (а чаще предполагаемых) приписках. Но мало кто категорически отрицает значимость переписей вообще и последней кампании в частности, ибо других столь масштабных и сложных в организационном плане опросов в России (да и в других странах) не проводится. Мы не ставим своей целью анализ практики сбора данных во время переписи 2021 г., ибо для этого необходимо было осуществлять соответствующий мониторинг во время переписной кампании, не ставим и задачу критики ее итогов (это может быть предметом только широкой экспертной дискуссии, а не субъективных мнений отдельных исследователей), мы лишь рассматриваем полученные результаты в определенном контексте. Наша оценка итогов переписи, во-первых, ограничена региональными рамками, т. е. республиками Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, где титульными этническими группами являются народы финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Во-вторых, основной целью данной статьи является анализ итогов переписи в контексте этнополитики, осуществляемой в указанных республиках, и соотнесение переписных данных с материалами, характеризующими происходящие здесь социальные и культурные трансформации. Только так, на наш взгляд, можно определить, насколько корректными являются полученные в ходе переписи результаты.
В основе нашего анализа лежат исторические, статистические, этнополитологические и социологические материалы, интерпретация которых подразумевает использование определенных теоретических подходов. В политологическом плане автор опирается на политологическую теорию рационального выбора (Rakner 1996) и теории национализма (Смит 2004), в социологическом – на современные теории модернизации (Штомпка 1996), социологическое понимание социального действия и социальных ролей (Парсонс 2000), а также на теорию ассимиляции; в качестве демографических оснований выбраны некоторые положения теории миграций. О последних двух теоретических подходах подробнее будет сказано ниже. Что касается понимания природы этничности, то мы оцениваем ее с позиций конструктивистского подхода (Барт 2006). Помимо теоретической основы работы необходимо сделать уточнение и по поводу нашего понимания базового термина “этническая элита”. Оно не строится на стратификационных и качественных оценках, а касается той группы влияния, для которой этничность крайне актуальна. Часть этой группы искренне заинтересована в сохранении отличительности своих культурно-языковых сообществ и активно содействует этому, другая часть не менее активна в пропаганде финно-угорских традиций, но использует ресурс этничности в своих личных политических и иных интересах. Последних часто называют “этническими антрепренерами” (Политический словарь б. г.; Esman 1994; Parekh 2008).
Финно-угорский этнополитический дискурс
Публичное обсуждение итогов переписи 2021 г. в регионах проживания финно-угров строится на основе алармистских сценариев, которые доминируют в региональных этнополитических дискуссиях уже давно. О “вымирании” финно-угорских народов России этнические активисты заговорили на рубеже 1980–1990-х годов, когда в СССР, а затем и в Российской Федерации происходила масштабная политизация этничности, сопровождавшаяся созданием многочисленных этнических и этнополитических организаций, идейной основой деятельности которых являлась “возрожденческая” риторика. Развернутых, политически и юридически корректных программ развития (“возрождения”) этнических сообществ в рамках сформировавшихся территориальных (в советской версии – национально-государственных) сообществ идеологи названных организаций предложить не смогли. Незавершенность идейных конструкций, на которых строилась деятельность этнических движений и организаций (у некоторых из них даже не было программ), конечно, была связана с отсутствием опыта политической деятельности. Но это не означает, что идейной основы у этих объединений не было.
Ключевые идейные постулаты этнонациональных движений российских финно-угров (шире – народов уральской языковой семьи) достаточно определенно можно охарактеризовать на основе резолюций этнических съездов, выступлений их делегатов, анализа других источников, связанных с деятельностью таких объединений. Большинство организационно оформившихся организаций и движений органично связано с идеологией национализма. “В их основе лежала идея разделенного общества и декларирование особого места и особых прав титульных этнических сообществ, противопоставление этничности гражданству и декларирование приоритета групповых прав над правами человека” (Шабаев 2019: 105). В наиболее значимых документах этнонациональных организаций и движений финно-угров изначально отсутствовали (а за последние годы так и не появились) концепции развития титульных групп как органичной части региональных сообществ (Шабаев, Чарина 2010).
Но и региональные политические элиты, на наш взгляд, не особо стремились к гражданской интеграции, они во многом соглашались с идейными исканиями этнонациональных движений, о чем свидетельствуют региональная практика этнополитики, риторика политических лидеров и – что особенно важно – положения Основных Законов республик, фактически наделявшие титульные группы особым статусом и тем самым разделявшие территориальные сообщества по этническому признаку. Так, в Конституцию Коми 1994 г. было перенесено положение резолюции I съезда народа коми (1991 г.) – и в важнейшем правовом документе появился политический лозунг: “коми народ – источник государственности республики” (Конституция 1994: 146). Это положение было некорректным и в политическом, и в историческом смысле, но главное – оно прямо противоречило принципам конституционного права, ибо источником государственности может служить только право на самоопределение (желательно реализованное в Акте самоопределения), а таковым правом наделяется лишь территориальное сообщество в целом, но не отдельный его культурный сегмент. В Конституции Удмуртии, в свою очередь, фактически декларировался разделенный характер республиканского социума, поскольку в ней узаконивалось деление граждан на “удмуртскую нацию” и “народ Удмуртии”: “…Удмуртская Республика – Удмуртия – государство в составе Российской Федерации, исторически утвердившееся на основе осуществления удмуртской нацией и народом Удмуртии своего неотъемлемого права на самоопределение…” (Конституция 1994. Разд.1. Гл. 1, ст. 1., п. 1). Конституция Карелии исключала из процесса государственного строительства русских, финнов, вепсов и представителей других народов, ибо провозглашала: “Исторические и национальные особенности Республики Карелия определяются проживанием на ее территории карелов” (Конституция 2021. Ст. 1, п. 5).
Сложившиеся в 1990-е годы практики продолжают успешно тиражироваться и сегодня, вступая в противоречие с принципом гражданской интеграции, зафиксированным в “Стратегии государственной национальной политики РФ” (Указ 2012). Меняющиеся политические лидеры республик, как и прежде, продолжают публично проявлять свою лояльность не региональным гражданским сообществам в целом, но ее титульным группам (“коренным народам”). Гражданский поворот в региональных моделях этнополитики, на наш взгляд, все еще не сделан или носит сугубо символический характер, а потому в республиках с финно-угорским населением не созданы стратегии гражданской интеграции, нет продуманной политики идентичности и политики памяти, а региональные практики этнополитики все еще строятся на тиражировании мероприятий, демонстрирующих культурные отличия, но не единство российских народов.
Укоренившееся в политическом лексиконе деление территориальных сообществ на “коренной народ” и “некоренное население” не осознается местными лидерами как наследие большевизма. По-видимому, эти лидеры просто не осведомлены о том, что используемая ими культурная иерархия была внедрена в политическую практику в ходе реализации большевистского лозунга “размежевания народов России” и принятия доктрины этнического национализма, основанной на делении региональных сообществ на разностатусные культурные группы населения (Тишков 1993). Ревитализация принципов ранней советской этнополитики выражается не только в некорректных заявлениях региональных лидеров, но и в их стремлении подтверждать вербальные практики маркирования этнически привилегированных групп путем их “материализации”. Ради этого создавались “финно-угорские этноцентры”, утверждались непродуманные концепции этнокультурного образования, проводились и проводятся многочисленные шумные акции с целью демонстрации культурных отличий, но не пропаганды гражданского единства россиян. Кроме того, были приняты крайне сомнительные правовые акты и документы, закрепляющие особый статус отдельных этнических групп (Закон 1994; Постановление 2018).
Политика памяти в указанных республиках долгие годы строилась не на пропаганде общих исторический деяний, общих героев, общей исторической судьбы российских народов и демонстрации фактов их тесного многовекового взаимодействия, а часто сосредоточивалась на прямом или косвенном конструировании исторической “финно-угорской альтернативы”, свидетельством чему стали новое прочтение уже отвергнутых историками представлений о Биармии (Арсентьев и др. 2000) и создание экстерриториальной конструкции “Финно-угорский мир” (Шабаев, Чарина 2010). В исторических повествованиях и региональных учебниках упускается из виду крайне важный сюжет, связанный с начальным этапом формирования российской государственности: в 862 г. в этом процессе непосредственно участвовали финские племена, и Государство Российское изначально было создано в результате тесного варяжско-финско-славянского взаимодействия. Именно Государство Российское является исторической родиной российских финно-угров, а не мифологизированные конструкции “возрождающейся семьи родственных народов” (Декларация 1994: 231). Очень мало говорится о том, что предки финно-угров были активными участниками борьбы за независимость общего Отечества в разные периоды его истории. Не показана важная роль финно-угров в покорении и крестьянской колонизации Сибири, т. е. в проекте, осуществлявшемся совместно с другими народами и превратившем Россию в великую евроазиатскую державу. Региональные практики этнокультурного просвещения и образования не выдерживают критики. Задача демонстрации культурного многообразия страны и исторической обусловленности формирования поликультурных местных сообществ в региональных учебно-методических разработках только декларируется, но не решается (Шабаев и др. 2021).
Более тысячи лет совместного созидания государства, борьбы за его независимость и укрепление не могли не привести к активному всестороннему взаимодействию и постепенному стиранию культурных границ и отличий, что и стало основой для современных процессов интеграции, трактуемых как ассимиляция и “вымирание” народов.
Объяснительная модель “вымирания” народов стала неким идейным лозунгом этнических организаций на рубеже 1980–1990-х годов и главным доводом в пользу создания этнонациональных организаций финно-угров и самодийцев, ибо их заявленной целью была необходимость “возрождения” этих народов. Так, на I съезде народа коми, прошедшем в 1991 г., был создан исполнительный орган, который получил показательное название “Комитет возрождения коми народа” (позднее переименован в “Коми войтыр” – “Коми общество”), на I Всероссийском съезде финно-угорских народов в мае 1992 г. делегаты обсуждали проект “Декларации о национальном возрождении финно-угорских народов, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации”. Идея возрождения марийцев активно муссировалась во время проведения III съезда народа мари осенью 1992 г., на котором была учреждена Всемарийская организация “Марий ушем” (“Союз мари”). На Всеудмуртском съезде в 1992 г., на котором была создана Всеудмуртская ассоциация “Удмурт кенеш” (“Удмуртский совет”), идея “возрождения” также обсуждалась, как и на заседаниях его исполнительного органа “Национального собрания – Пичи кенеш”. Более того, для финансового обеспечения деятельности ассоциации было решено образовать “Фонд возрождения удмуртского народа”. В Мордовии в 1989 г. был создан общественный центр “Вельмена” (“Возрождение”), а позднее появился межрегиональный “Совет возрождения мордовского народа”. Активисты этнических организаций, если следовать этимологии термина, собрались “возрождать” здравствующие и вполне самодостаточные народы численностью в сотни тысяч человек.
Значение социальных и культурных трансформаций
Несмотря на наличие многих сходных экономических, социальных и культурных явлений, в республиках с финно-угорским населением заметно различаются как общая этническая ситуация, так и динамика этнодемографических процессов. Но при этом во всех этих регионах с середины 1950-х годов сформировалась устойчивая тенденция, связанная с активизацией социальной модернизации, выражавшейся в формировании более открытого общества, в котором динамично меняются социальная структура и культурные потребности его членов. Наиболее очевидным свидетельством изменений социального облика титульных этнических групп стало превращение аграрных сообществ, каковыми до той поры являлись российские финно-угры, в урбанизированные народы. При этом процессы индустриализации и урбанизации в названных республиках приобрели масштабный характер на два-три десятилетия раньше начала массовой миграции финно-угров в города. На европейском севере население большинства городов изначально представляло собой полиэтничное сообщество, слабо связанное с местным культурным ландшафтом, поскольку основу его составляли бывшие узники лагерей ГУЛАГа (Шабаев 2022). А почти все города Удмуртии выросли из горнозаводских поселков, где все население было русским. Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола) и Саранск возникли как опорные центры Русского государства, обеспечивавшие укрепление его позиций в Поволжье, и изначально также были преимущественно русскими поселениями, стремительный рост которых начался с 1930-х годов.
Массовый отток представителей финно-угорских народов в города, связанный со сменой социального статуса и образа жизни, сопровождался естественными процессами аккультурации и ассимиляции. Финно-угры в данном случае выступали в качестве мигрантов, а русскоязычное большинство – в качестве принимающего сообщества. Согласно классической теории ассимиляции, которую начали разрабатывать в 1920-е, а окончательно обосновали в 1960-е годы представители Чикагской социологической школы, “ассимиляция” мигрантов в принимающее сообщество рассматривалась как естественный процесс односторонней индивидуальной интеграции (Park 1928). В России/СССР в ходе этого процесса сельские мигранты воспринимали городской образ жизни, который они ассоциировали с русским населением и русским языком – языком всего городского населения страны.
Аккультурация и языковая ассимиляция предшествовали полной смене этнического самосознания у значительной части мигрантов из села; эти процессы усилились после школьной реформы 1958 г., а эпоха так наз. этнического ренессанса 1990-х годов никак не повлияла на этих людей, ибо глубина социальных трансформаций оказалась слишком значимой. Именно социальные изменения определяют сдвиги в культурных ориентациях человека, а потому пересмотреть эти ориентации за счет апелляции к идее этнической солидарности, как это пытаются делать этнические активисты, не представляется возможным.
Следствием социальных изменений стал тот факт, что в 1990-е годы, согласно данным микропереписи населения 1994 г., из каждой 1000 опрошенных в семье общались на русском языке 987 вепсов, 825 карел, 568 коми, 381 коми-пермяк, 363 марийца, 350 удмуртов (Финно-угорские регионы 1996). В дальнейшем языковые предпочтения еще более смещались в сторону использования русского языка. Так, например, по данным опроса 2004 г., в Коми всего 3% городских коми семей говорит с детьми на коми языке, в бывшем Коми-Пермяцком округе – 11,5%. В городах Республики Коми полностью не владели коми языком 42% детей из мононациональных коми семей, свободно говорила на нем только четверть детей (Денисенко 2007: 37).
По материалам опроса 2011 г., проведенного в Марий Эл, лишь 1,2% городских жителей разговаривают со своими детьми дошкольного возраста на марийском языке, и такая же доля родителей общается на родном языке с детьми школьного возраста. На русском и марийском языках говорят дома 1,8% и 2,2% соответственно (Социологические исследования 2013: 303). А по материалам опроса 2015 г. только 0,4% городских жителей общались на марийском языке со своими детьми дошкольного возраста и 1,1% с детьми школьного возраста, на русском и марийском языках – 3,1% и 3,3% соответственно (Межконфессиональные… 2016: 88–90). Сходная ситуация имеет место и в других “финно-угорских регионах”, и повсеместно языковой сдвиг (от национально-русского двуязычия к русскому моноязычию) самым активным образом происходит в среде городских коми, карел, удмуртов, мордвы, марийцев.
Превращение финно-угорских народов из сугубо аграрных сообществ в урбанизированные произошло достаточно быстро: уже к началу 1990-х годов их социальная структура принципиально изменилась по сравнению с серединой, а тем более началом ХХ в. Модернизационные процессы, с одной стороны, существенно изменили образ жизни большей части указанных этносов и особенно культурные ориентации молодежи, а с другой – стали стимулом для формирования этнонациональных организаций и их идеологии, поскольку, как замечает Э. Геллнер, аграрные сообщества не являются националистическими, так как их культурная специфика воспроизводится самой повседневностью (Геллнер 1991). Не случайно какие-либо формы этнонационального движения с ясными идейными позициями в начале ХХ в. возникли только у карел – но не в их культурной среде: в 1905 г. в финском Тампере было создано “Общество беломорских карел”, состоявшее в основном из финнов и заявлявшее о необходимости добиваться автономии для карел. Первые Марийские съезды и съезд удмуртов в 1917–1918 гг. были спровоцированы февральской революцией и октябрьским переворотом, когда на местах началось “революционное брожение” (Воронцов и др. 2005). Но как реальные политические акторы этнонациональные движения финно-угров стали формироваться только на рубеже 1980–1990-х годов, хотя свою роль сыграли и процессы советского национально-государственного строительства, которые стоит рассматривать как часть модернизационных изменений. С первой половины 1990-х годов в идейных позициях новообразованных организаций появились требования учета групповых прав этнических сообществ (хотя в основе современных правовых систем лежат права личности, права гражданина), а теза “вымирания” финно-угров получила поддержку западных партнеров после того, как в 1992 г. возникло международное финно-угорское движение.
В 1998 г. положение финно-угорских народов оказалось предметом политических инсинуаций. Идея “вымирания” финно-угров была озвучена в специальной резолюции ПАСЕ, а в 2005 г. с подачи российских этнических активистов эта же организация инициировала проведение специального исследования с целью изучения нарушения прав финно-угорских народов в России и поручила курировать его евродепутату из Эстонии, бывшему министру Эстонской Республики по делам народонаселения К. Сакс. Несмотря на то что К. Сакс привлекла российских “экспертов”, опубликованный в 2006 г. специальный доклад изобиловал грубейшими ошибками этнографического плана, был предельно тенденциозен, а социологические данные были получены и интерпретированы с грубыми методическими недочетами (Тишков, Шабаев 2007). В противовес заказным выводам К. Сакс серьезные западные исследователи, анализируя позднесоветские практики этнополитики и результаты переписей (когда этнополитика еще не превратилась в объект спекуляций и не заняла столь значимое место во внутренней политике национальных республик), заявляли, что тезис о целенаправленной русификации меньшинств в России не находит научного подтверждения (Anderson, Silver 1984).
Тем не менее не вызывает сомнений тот факт, что в культурном облике финно-угров происходят существенные изменения, связанные с трансформацией как самого социума, так и культурных ориентаций его представителей. Как показано выше, сильно возрастает значение русского языка. При этом выбор языка общения и получения образования со второй половины 1950-х годов определяется гражданами самостоятельно и является результатом не столько воздействия культурного окружения, сколько рационального выбора, т. е. степенью полезности для карьерного роста того или иного языка и его соответствием жизненным стратегиям конкретной личности.
Попытки трансформировать языковую ситуацию и языковые ориентации были связаны с изменением официального статуса языков и принятием региональных программ развития языков финно-угорских народов. Однако, поскольку в указанных регионах не было проведено качественных социолингвистических исследований, должного внимания решению проблемы стимулирования мотивации молодежи к изучению языков предков, а также разработке и реализации программ повышения престижа языков и практикам языкового маркетинга не было уделено (Baker, Jones 1998), а языковое строительство свелось к обыкновенному пуризму. В финно-угорские языки за пару десятилетий было внедрено по несколько тысяч неологизмов (Цыпанов 2005: 25), которые были слабо связаны с логикой культурного развития указанных народов, а потому воспринимались простыми пользователями языка, как нечто инородное1.
Региональная этнокультурная политика во многом носила декларативный и символический характер, поскольку она строилась, опираясь на эмоциональные мнения и оценки этнических активистов, деятелей культуры, – именно они нередко рекрутировались в экспертные советы, создаваемые при республиканских властных институтах. Поэтому структуры, которые должны были быть объектами региональной государственной национальной политики, превратились в субъекты этой политики, т. е. в системе региональной этнополитики произошло неоправданное нарушение логики управления и изменение социальных ролей субъектов и объектов управления (Парсонс 2000). В подобной ситуации превратить этнокультурные процессы в реально управляемые, а практику этнокультурного строительства в форму продуманной социальной инженерии не представлялось возможным, и последствия этой политики нашли отражение в итоговых результатах переписи-2021 (Всероссийская перепись 2020).
Случилась ли гуманитарная катастрофа?
Анализ итогов переписи позволяет заключить, что кроме снижения численности финно-угров, связанного с демографическим старением населения и изменением культурных ориентаций молодежи (Шабаев и др. 2021), радикальных изменений ситуация в республиках с финно-угорским населением не претерпела. Доказательством тому служат этнодемографические пропорции. Наиболее благоприятно положение дел в Мордовии и Марий Эл (см. Табл. 1), где динамика этнической ситуации такова, что доля титульных групп не сокращается. Впрочем, в Удмуртии и Коми этнические пропорции в составе населения тоже радикально не меняются в последние десятилетия, но в Карелии доля карел падает весьма значительно. При этом стоит заметить, что феномен Мордовии трудно объяснить, ибо еще во время переписи 2010 г. 50 тыс. русских неожиданно записались мордвой, а переписная кампания 2021 г. зафиксировала резкое (почти на 10%) увеличение доли мордвы, при том что численность населения республики сократилась лишь на 50 тыс. человек (см. Табл. 2), а потому этнические пропорции не могли измениться столь радикально.
Таблица 1
Доля титульного населения в республиках с финно-угорским населением, в % (по данным переписей населения)
Год Регион | 1939 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2021 |
Карелия | 23,2 | 11,1 | 10,0 | 9,2 | 7,1 | 5,5 |
Коми | 72,5 | 25,3 | 23,3 | 25,2 | 22,5 | 22,2 |
Марий Эл | 47,2 | 43,5 | 43,3 | 42,9 | 41,8 | 40,1 |
Мордовия | 34,1 | 34,3 | 32,5 | 31,9 | 29,3 | 38,7 |
Удмуртия | 39,4 | 32,2 | 30,9 | 29,3 | 27,0 | 24,1 |
Таблица 2
Численность населения республик с финно-угорским населением, тыс. чел. (по данным переписей населения)
Год Регион | 1939 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2021 |
Карелия | 468,9 | 736,0 | 791,3 | 716,2 | 643,5 | 533,1 |
Коми | 319,0 | 1118,4 | 1261,0 | 1018,6 | 901,1 | 737,3 |
Марий Эл | 580,6 | 702,7 | 749,4 | 728,0 | 696,5 | 672,1 |
Мордовия | 1188,6 | 990,6 | 964,1 | 888,7 | 834,7 | 783,5 |
Удмуртия | 1219,3 | 1493,7 | 1609,0 | 1570,3 | 1521,4 | 1452,9 |
Тем не менее сведения о численности финно-угорских народов (см. Табл. 3) и изменении их доли в составе городского населения (см. Табл. 4) дают основания поставить под сомнение корректность данных переписи 2021 г. по некоторым регионам (и не только по Мордовии). Скорее всего, в ряде случаев имели место приписки, ибо результаты переписей в республиках чрезвычайно политизируются. Однако недочеты переписной кампании вряд ли радикально искажают итоговые данные и сложившиеся этнодемографические тенденции, хотя и влияют на реальные показатели, касающиеся численности, половозрастной структуры, языковой идентификации.
Таблица 3
Изменение численности финно-угорских народов РФ, тыс. чел. (по данным переписей населения)
Год Народ | 1926 | 1989 | 2010 | 2021 |
бесермяне | 10 | – | 2,2 | 2,0 |
вепсы | 32 | 12,5 | 5,9 | 4,5 |
водь | – | – | 64* | 99* |
ижора | 17 | 0,4 | 266* | 210* |
карелы | 248 | 125 | 60 | 33 |
коми | 226 (вместе с коми-пермяками) | 336 | 228 | 143 |
коми-пермяки | – | 147 | 94 | 56 |
марийцы | 428 | 644 | 547 | 434 |
мордва | 1335 | 843 | 744 | 484 |
удмурты | 514 | 715 | 552 | 386 |
* в этих ячейках указано конкретное число людей (чел.)
Таблица 4
Доля горожан среди крупнейших финно-угорских народов, в % (по результатам переписей)
Год Народ | 1970 | 2002 | 2010 | 2021 |
марийцы | 19,3 | 49,4 | 42,6 | 44,0 |
мордва | 33,4 | 49,4 | 51.0 | 51,3 |
карелы | 43,7 | 55,9 | 57,9 | 59,3 |
коми | 35,7 | 47,5 | 48,1 | 39,4 |
коми-пермяки | 22,2 | 38,9 | 36,8 | 30,8 |
удмурты | 31,4 | 46,6 | 44,6 | 34,7 |
Сокращение численности у финно-угорских народов наметилось довольно давно, что было связано со сложной социально-экономической ситуацией в регионах их проживания, с ускорившими процессы аккультурации и ассимиляции глубокими социальными переменами и потрясениями ХХ в., миграционными и этнополитическими процессами, урбанизацией и изменениями в культурных ориентациях.
В советские годы раньше других началось сокращение численности финнов-ингерманландцев, ижоры, вепсов, коми-пермяков. Численность мордвы тоже стала стремительно снижаться – это было связано с дисперсным расселением данного этнического сообщества по территории страны и проживанием большей его части за пределами Мордовии. Численность остальных финно-угров все советское время росла. Однако после последней в СССР переписи населения 1989 г. все следующие переписные кампании фиксируют последовательное ее снижение у всех финно-угорских народов (но не у самодийцев, которые вместе с финно-уграми входят в состав уральской языковой семьи). После публикации итогов переписи 2010 г. в республиках, где финно-угры являются титульным населением, местные лингвисты и этнические активисты заговорили о “вымирании народов”, об “этнической катастрофе” (Шабаев 2013). Опубликованные данные переписи 2021 г. о национальном составе Российской Федерации вызвали похожую реакцию, хотя спектр мнений стал шире. Однако преподносить результаты переписных кампаний как “культурную катастрофу” можно лишь с позиций логики этнического национализма, но не с позиций серьезного анализа социальных и культурных процессов в названных республиках.
Впрочем, если оценивать сугубо арифметические показатели, то они действительно удивляют: между переписями 2010 и 2021 гг., т. е. за одно десятилетие, численность карел сократилась на 46,7%, коми-пермяков на 41,0%, мордвы на 34,9%, удмуртов на 30,0%, вепсов на 23,6%, коми на 37,1%, марийцев на 22,3%.
С чем связаны столь существенные изменения? Безусловно, важнейшую роль здесь играют трансформация социального облика этнических сообществ, динамика демографических процессов и меняющиеся этнокультурные ориентации молодежи. С середины 1950-х годов, как замечено выше, начался быстрый процесс превращения финно-угорских народов из “аграрных” в “городские”. Он еще не завершен, но говорить о финно-уграх как об аграрных сообществах сегодня уже нельзя. Однако важно иметь в виду, что именно в городе происходит активная смена этнической идентичности у представителей этнических меньшинств. Об этом свидетельствуют и данные последней переписи, поскольку она зафиксировала заметное сокращение доли городских коми, коми-пермяков и удмуртов (см. Табл. 4). Можно предположить, что следующая перепись подтвердит, что этот процесс (сокращение доли городского населения в общем составе этнической группы) коснулся и других уральских народов, а также этнических групп, принадлежащих к иным языковым семьям. При этом символическая приверженность финно-угорским языкам существенно ослабевает только у мордвы и карел (см. Табл. 5), а у марийцев, удмуртов и коми она весьма высока, и это показательно, ибо одновременно происходит снижение уровня языковых компетенций, особенно среди финно-угорской молодежи. И еще важно заметить, что наш опрос осенью 2022 г. показал, что около половины молодых людей в рассматриваемых республиках признают значимость этнической принадлежности как формы символической связи со своими предками. Все эти процессы можно рассматривать как важный культурный ресурс, которым полезно было бы воспользоваться в практике реализации государственной национальной политики.
Таблица 5
Доля населения, чья этническая принадлежность совпадает с этническим языком (по итогам переписи населения 2021 г.)
Народ | Численность, тыс. чел. | Этнический язык, названный как родной, в % |
мордва | 479,0 | 55,3 |
марийцы | 417,3 | 74,8 |
удмурты | 383,9 | 69,2 |
коми | 142,4 | 66,4 |
карелы | 32,2 | 26,1 |
Особого внимания заслуживает ситуация в Удмуртии, ибо здесь, с одной стороны, имеют место инициативы, идущие снизу, которые явно работают на повышение престижа удмуртских традиций2. С другой стороны, раздаются призывы лидеров этнонациональной организации “Удмурт кенеш”, требующих преференций для удмуртов как для “коренного этноса” (Кардинская 2006: 55). Квинтэссенцией этих требований стал акт самосожжения удмуртского исследователя и этнического активиста 79-летнего Альберта Разина 19 сентября 2019 г., который в своем предсмертном послании к парламенту призвал к тому, чтобы удмуртский язык в обязательном порядке изучали все дети республики, начиная с детского сада (Шабаев, Миронова 2020). Эти инициативы принципиально противоречат международному праву, поскольку образование не должно строиться на административном навязывании ценностей одной культурной группы другим, “образование должно дать возможность всем быть полезными участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами” (Международный пакт 1966). Стоит заметить, что в Ижевске (столице Удмуртии) удмурты составляют только 14% населения и почти все они русскоязычны, на что обращал внимание и сам Разин за четверть века до своего самосожжения. В сборнике статей, составленном Институтом Яана Тыниссона (Эстония), он писал, что “многие удмурты поражены этническим нигилизмом” (Разин 1994: 98) – этим термином он маркировал право на свободный выбор культурных ценностей, которое является одним из фундаментальных прав человека, но которое не нашло отражения ни в документах, ни в риторике этнических активистов. Иными словами, исследователь хотел видеть “этническую личность” не свободным человеком, ориентированным на индивидуальный выбор культурных ценностей и образа жизни, а полностью зависимой от своей культурной группы. В этом он был солидарен с идеологами этнонациональных движений и исследователями, рассматривающими этничность как примордиальную сущность, а потому, по их мнению, отдельный этнофор не может быть свободен по самой своей биологической природе и должен подчиняться культурному диктату группы.
Примордиальная сущность исканий идеологов этнических движений (и их трактовки культурных процессов, имеющих место в регионах проживания финно-угров) нашла отражение в идее “этнического нигилизма”, которая особенно активно обсуждалась местными исследователями в 1990-е годы, но не приобрела какой-либо внятной концептуальной формы. Вот что писал в упомянутой выше статье Разин:
На сегодняшний день более трети удмуртов, а среди 7–16-летних половина не владеют удмуртским языком. В 1926 г. им владели почти все… Этнический нигилизм – это очень серьезное явление. Он наносит огромный вред делу сохранения и развития самобытной национальной культуры и всей нации, препятствует развитию личности, формированию чувства собственного достоинства. Отсутствие этнической гордости порождает комплекс неполноценности, ущербности (Разин 1994: 99).
Исследователь, анализировавший сложные этнокультурные и этнополитические явления, судя по процитированному тексту, не отталкивался в своих рассуждениях от доминирующего понимания природы современных гражданских наций. При этом он оперировал не столько научными категориями, сколько надуманными понятиями типа “этнической гордости”, и, видимо, не мог или не хотел понять и принять суть социальных изменений, происходивших в удмуртском этносе. Возможно поэтому после выхода на пенсию Разин, сохранивший приверженность этническому национализму, пытался влиять на ситуацию, устраивая “языческие моленья в поддержку удмуртского языка” (Мельников 2019). Это не дало результата и привело его к личной трагедии.
Не случайно появление официальных итогов переписи 2021 г. было специфическим образом воспринято в СМИ республики и трактовалось как масштабный культурный переворот, явно противоречащий лозунгам и идеям удмуртского движения. Сетевое издание “Udm-info” опубликовало в связи с этим комментарий, название которого – “Не хочу быть удмуртом” – носило явно некорректный, провоцировавший недовольство искренних приверженцев этнических традиций характер (Не хочу быть удмуртом 2023). В комментарии, однако, содержались вполне здравые идеи. К примеру, авторы обращали внимание на то, что на отрицательную динамику численности удмуртов как в стране, так и в Удмуртской республике повлиял тот факт, что довольно большое количество опрошенных вообще отказались отвечать на вопрос о своей национальности.
Феномен “отказников”
В масштабах России численность неуказавших свою этническую принадлежность была в 2021 г. наивысшей по сравнению с данными предыдущих постсоветских переписей: 16,6 млн человек или 11,3% опрошенных. Но реально эта цифра меньше, поскольку 1 млн 150 тыс. человек воспользовались гражданским определителем “россиянин” как этнонимом (Колебакина-Усманова 2023), а 500 тыс. использовали “альтернативные” этнонимы, среди которых были не только вымышленные, но и давно получившие распространение, такие как региональный маркер “сибиряк” (некоторые исследователи все же признают его этнонимом, как и сословный определитель “казак”). Реально отказались указывать этническую принадлежность только 7 млн человек. Данные об остальных лицах, причисленных к этой категории, переписчики заимствовали из официальных источников (поскольку не смогли лично встретиться с ними), в которых этническая принадлежность сегодня не указывается.
Таким образом, можно утверждать, что в России происходит серьезный идентификационный сдвиг, связанный в первую очередь с наметившимся изменением в характере культурной идентификации: место лояльности культурно-языковому и региональному сообществу начинает все активнее занимать лояльность политическому сообществу – российской нации. Кроме того, падает политическая значимость этнических определителей и все активнее начинают стираться культурные отличия и культурные границы между группами, всевозможные способы публичного маркирования которых были чуть ли не главным содержанием региональных моделей этнополитики с начала 1990-х годов (Шабаев, Чарина 2010).
Для иллюстрации вышеназванных доводов сошлемся на результаты опросов студенческой молодежи, регулярно проводившихся в республиках с финно-угорским населением с 2017 г. по единой методике, разработанной ИЭА РАН (Тишков и др. 2017). Опрос школьников и студентов, проведенный в 2017 г., показал, что молодые люди продемонстрировали приоритет не региональной, а гражданско-государственной идентичности. Подавляющее большинство предпочитало, чтобы в повседневной жизни окружающие воспринимали их в первую очередь как граждан России: до 87% в Марий Эл, более 89% в Коми, 81% в Удмуртии и 80% в Мордовии (примерно такие же данные были получены и при опросе в других регионах) (Шабаев и др. 2018).
Многие местные интеллектуалы сомневаются в правдивости результатов переписи 2021 г., подкрепляя это указанием на некорректные (с их точки зрения) формулировки вопросов и тем, что кампания проводилась в разгар пандемии, а переписчики работали недобросовестно (Переписали для галочки 2021). Отмечается также, что электронная процедура сбора данных в основном ориентирована на молодежь, у которой меньше выражено стремление к национальной самоидентификации. Но доводы сомневающихся достаточно часто слабо аргументированы.
Итоги переписи 2021 г. в этнополитическом контексте
Перепись в целом зафиксировала значительное сокращение численности целого ряда народов России (не только финно-угров, но и русских, некоторых тюркских народов). Причин такой динамики, помимо миграционного оттока и естественной убыли населения, много (в том числе, вероятно, и недоучет), но среди весьма значимых – смена идентичностей, причем речь идет не об этнических определителях, как уже сказано выше, а о замене этнической идентичности идентичностью гражданской. Здесь важно заметить, что это связано не только со стремительно усиливающейся привлекательностью гражданского определителя (политонима) “россиянин”, который многими используется в качестве этнонима, но и с попытками предлагать некие интегрированные образцы этнических определителей самими людьми – а таких граждан, как сказано выше, было около полумиллиона, хотя часть из них не столько предлагала свою альтернативу официальным этнонимам, сколько пародировала идею этнического маркирования.
Существенную роль в тех изменениях, которые зафиксировала перепись, играют и сугубо демографические факторы (половозрастные диспропорции, миграции, возрастающая естественная убыль, быстрое старение населения) и факторы этнокультурные. Еще во время предыдущих переписей финно-угров назвали “седеющими народами”, поскольку средний возраст их представителей был весьма высок (Шабаев 2019). Важно заметить, что наиболее активно стареет сельская часть этих этнических групп, а именно село является хранителем культурных традиций, ибо там полноценно функционируют финно-угорские языки (а точнее – их диалектные формы), сохраняются элементы традиционного уклада жизни и обычаев.
Комментаторы итогов переписи на местах во многом правы, когда говорят о том, что многолетние попытки маркировать этнические границы между группами внутри республиканских сообществ так и не были реализованы, призывы этнонациональных организаций, обращения местных культуртрегеров к представителям титульных этнических групп проявлять солидарность с традициями “своего народа” так и не были услышаны, а идеи этнического национализма оказались решительно отвергнуты теми, кого и местные этнические активисты, и региональные политики определяли как “коренные народы”. Это означает, что идеология этнического национализма в республиках с финно-угорским населением потерпела полный крах. И в этом смысле весьма показательна публикация, которая появилась в Карелии:
Совет уполномоченных IX съезда карелов еще до проведения переписи выступил с заявлением, в котором призвал всех представителей коренного народа Карелии обязательно указать свою национальность. В том духе, что давайте все, кто может, даже если вы не владеете карельским языком, записывайтесь карелами. Но оказалось, что или карелов осталось совсем мало, то ли этот орган, Совет уполномоченных, не обладает никаким авторитетом среди местного населения. И приходится напомнить в очередной раз, что уже 33 года в нашей республике весьма популярна тема сохранения карелов, карельских традиций и карельского языка. Сколько правильных слов сказано с высоких трибун! И ведь финансируется издание газет, книг, проведение различных мероприятий. Три муниципальных района официально названы национальными. Дорожные указатели там на карельском языке… А еще есть целое министерство по национальной политике. Есть Совет представителей карелов, вепсов и финнов при главе Республики Карелия… Все они вроде бы заботятся о карелах, многие за это получают из бюджета деньги, получают различные гранты… А толку никакого… Возникает и вопрос о том, нужно ли тратить деньги на регулярное проведение съездов карелов, если никакой пользы от них нет? Ведь статусные деятели национального карельского движения, заседавшие в его президиумах и “светившиеся” на телевидении, полностью обанкротились. Народ они сохранить не смогли… (Степанов 2023).
В Республике Коми перед переписью 2021 г. молодежный журнал “Йӧлӧга” запустил флешмоб и призвал молодых людей размещать его аватарку со значком “Родной язык – коми, национальность – коми”. К пропаганде “подсказок” на ответы переписного листа присоединилось и сыктывкарское отделение организации “Коми войтыр”, официально обратившееся к соплеменникам: “От правильного указания каждым из нас своей национальной принадлежности в ходе нынешней Всероссийской переписи населения зависит дальнейшая судьба нашего народа – исчезнет он или продолжит жить и развиваться, а также своей государственности” (Русские по умолчанию 2021). Но призывы этнических активистов просто не могли быть услышанными теми, кому они предназначались. Большая часть молодежи, хотя и признает значимость этничности как культурного ресурса, не видит угрозы существованию финно-угорских народов, а потому для нее не актуальны эти идеи и лозунги: только пятая часть молодых людей, по данным опроса 2020 г., что-то знает о деятельности этнически ориентированных организаций и поддерживает эту деятельность (Шабаев и др. 2021), но при этом практически не вовлечена в нее.
В том, что молодежь не восприимчива к проблемам сохранения этничности, отчасти виноваты и социально-экономические реалии республик с финно-угорским населением: темпы их экономического роста невелики, местная экономика не носит инновационного характера, уровень жизни везде невысок, а пятая часть населения Марий Эл и Мордовии имеет доходы ниже прожиточного минимума. Ясных перспектив развития у республик нет, и ни вообще население, ни молодежь в частности ничего о них не знает и в будущее благополучие не очень верит, а потому, как показали опросы последних лет, уровень социального оптимизма в этих регионах низок (Шабаев и др. 2021). Значительная часть молодежи в такой ситуации не хочет отождествлять себя ни с республиканскими социумами в целом, ни с активно стареющими титульными этническими сообществами. Системный кризис, который имеет место в Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии и отчасти в Удмуртии, провоцирует высокие темпы оттока из этих республик в первую очередь молодежи – и эти миграционные настроения не меняются, о чем свидетельствуют данные нашего опроса, проведенного осенью 2022 г. (см. Табл. 6). Мы согласны с теми исследователями, которые называют миграцию формой социального протеста (Brettell, Hollifiel 2000; Zaloznaya, Gerber 2012): очевидно, что отток молодежи есть отражение серьезных социально-экономических региональных проблем, форма общественной реакции на способы их решения. Конкретным выражением этой реакции как раз и является то, что активные и амбициозные молодые люди вынуждены искать счастья за пределами своих республик, утрачивая с местными сообществами и земляческие, и культурные связи.
Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: “Связываете ли Вы свое собственное будущее с будущим вашего региона?”, в %
№ | Наименование позиции | % указавших |
1 | Да, безусловно, я хотел бы здесь жить и работать | 30,8 |
2 | Скорее всего, нет, ибо я собираюсь реализовывать свои жизненные планы в более динамично развивающихся городах и регионах | 36,7 |
3 | Нет, безусловно, ибо здесь я не вижу никаких перспектив для себя | 9,9 |
4 | Затрудняюсь ответить | 22,5 |
* * *
Какие выводы можно сделать на основании результатов последней (2021 г.) и всех трех постсоветских переписей и опыта реализации этнополитики в СССР и РФ? Соотнесение материалов четырех кампаний вкупе с учетом характера социальных трансформаций, переживаемых финно-угорскими народами, и данных массовых опросов населения позволяют сделать вывод, что итоги переписи 2021 г. вполне логичны.
Вместе с тем эти итоги косвенным образом показывают, что этнические элиты утратили влияние в собственных этнических сообществах, особенно среди молодежи, а идеи этнического национализма обанкротились. Попытки навязывать и сохранять этничность с помощью ее огосударствления, равно как и с помощью политической мобилизации этничности и попыток использовать групповую солидарность для давления на культурные ориентации личности, могут иметь только ограниченный успех, ибо прочная этническая идентичность формируется преимущественно культурной средой, а не государством или организованными группами этнических антрепренеров и их идеологией. Очевидно, что региональные модели этнополитики, главным содержанием которых многие годы являлась пропаганда культурной отличительности (культурного многообразия), не работают, поскольку носят не конструктивно-прикладной, а преимущественно символический характер, заданный ориентацией региональных властей на лояльность идеям и требованиям этнонациональных движений и спонсирование их деятельности. Этничность сохраняет свое значение в культурном позиционировании финно-угров, на что указывают и данные массовых опросов, и данные переписей, свидетельствующие о приверженности значительной доли титульных групп этническим языкам (не путать с языковыми компетенциями). Сохранение этнических традиций, языков и идентичностей должно быть связано не только и не столько с тиражированием и финансированием фольклорных фестивалей, этнических съездов, съездов писателей и т. д. Эта цель может быть решена посредством разработки и реализации целого ряда более важных проектов, среди которых должны быть научно обоснованные стратегии экономического и социального преобразования сельской поселенческой сети в республиках и периферийных регионах, специальные программы языкового маркетинга и выработка методов повышения престижа этнических языков и мотивации молодежи к их изучению и, безусловно, последовательная работа государственных институтов и общественности по гражданской интеграции, укреплению культуры толерантности и традиций взаимопомощи и сотрудничества внутри региональных сообществ.
Источники и материалы
Всероссийская перепись 2020 – Всероссийская перепись населения 2020 года. Т. 5, Национальный состав и владение языками // Росстат. https://rosstat.gov.ru/vpn_popul
Декларация 1994 – Декларация об основных принципах, целях и задачах объединения финно-угорских народов мира // Штрихи этнополитического развития Коми Республики. Очерки. Документы. Материалы / Сост. Ю.П. Шабаев; ред. М.Н. Губогло. Т. 1. М.: ЦИМО, 1994. С. 257.
Закон 1994 – Закон Республики Коми “О статусе съезда коми народа” // Штрихи этнополитического развития Коми Республики. Очерки. Документы. Материалы / Сост. Ю.П. Шабаев; ред. М.Н. Губогло. Т. 1. М.: ЦИМО, 1994. С. 128–129.
Колебакина-Усманова 2023 – Колебакина-Усманова Е. Дмитрий Функ об итогах переписи: “Если людям стыдно говорить о своей идентичности – задайте вопрос себе” // БИЗНЕС Online. 02.04.2023. https://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=f56a02ba-e4f0–45dd-be6b-f23db44393ad&ysclid=lu2qgt2h5a534762457
Конституция 1994 – Конституция Республики Коми. Раздел 1. Гл. 1, ст. 3 // Штрихи этнополитического развития Коми республики. Очерки. Документы. Материалы / Сост. Ю.П. Шабаев; ред. М.Н. Губогло. Т. 1. М.: ЦИМО, 1994. С. 146–169.
Конституция 1994 – Конституция Удмуртской Республики. https://www.udmgossovet.ru/upload/documents/pravregdoc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D0%A0.pdf
Конституция 2021 – Конституция Республики Карелия. http://constitution.garant.ru/region/cons_karel
Международный пакт 1966 – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
Межконфессиональные… 2016 – Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике Марий Эл: научно-статистический бюллетень (МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева) / Авт.-сост. В.И. Шабыков, О.В. Орлова, Г.С. Зеленеева, А.В. Гуляев. Йошкар-Ола, 2016.
Мельников 2019 – Мельников А. Бунт языческого Разина // Независимая газета. 17.09.2019. https://www.ng.ru/ng_religii/2019–09–17/11_472_events01.html?ysclid=ll86tge2l2552873842
Не хочу быть удмуртом 2023 – “Не хочу быть удмуртом”: больше 100 тысяч жителей республики сменили национальность // Udm-info. 11.01.2023. https://udm-info.ru/news/2023–01–11/ne-hochu-byt-udmurtom-bolshe-100-tysyach-zhiteley-respubliki-smenili-natsionalnost-2634580
Переписали для галочки 2022 – Переписали для галочки: в Сыктывкаре масштабный “перерасчет” населения вызывает больше вопросов, чем ответов // Комсомольская правда в Коми. 02.10.2022. https://www.komi.kp.ru/daily/28350/4498477
Политический словарь б. г. – Политический словарь. https://my-dict.ru/dic/politicheskiy-slovar/2142679-etnicheskiy-antreprener
Постановление 2018 – Постановление Правительства Республики Карелия от 24.01.2018 об утверждении государственной программы Республики Карелия “Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов” // Официальный интернет-портал правовой информации. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000201801260004
Русские по умолчанию 2021 – Русские по умолчанию: как прошла перепись для коми // Коmi Daily. Коми культура ставныслы. 23.11.2021. https://komidaily.com/2021/11/23/perepis
Социологические исследования 2013 – Социологические исследования межнациональных и межконфессиональных отношений // Материалы межрегиональной научно-практической конференции. 7 июня 2012 г. Йошкар-Ола, 2013.
Степанов 2023 – Степанов А. Итоги переписи и полное банкротство “карельского движения” // Онлайн-журнал Черника. 16.01.2023. https://mustoi.ru/itogi-perepisi-i-polnoe-bankrotstvo-karelskogo-dvizheniya/?ysclid=lu3q0vo2y2185575733
Указ 2012 – Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N1666 “О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года” (с изменениями и дополнениями). http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
Уляшев 2005 – Уляшев О.И. Орöм вужъясысь кыöн кыввор // Войвыв кодзув. 2005. № 4. С. 62–66.
Финно-угорские регионы 1996 – Финно-угорские регионы России в цифрах / Ред. В.П. Марков. Сыктывкар: Комистат, 1996.
Примечания
1 Видный коми драматург и ученый О. Уляшев в статье “Лексика, оторванная от корней” (Уляшев 2005), опубликованной в комиязычном журнале “Войвыв кодзув”, дал крайне негативную оценку процессам языкового строительства в Республике Коми и охарактеризовал современный литературный коми язык как “китайскую грамоту”.
2 Примером служит народный коллектив “Бурановские бабушки”, ставший культурным символом республики без какой-либо серьезной финансовой поддержки со стороны государства и даже выступивший на Евровидении.
About the authors
Yurii P. Shabaev
Institute of Language, Literature and History of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: yupshabaev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0867-4662
д. и. н., заведующий сектором этнографии
Russian Federation, Kommunisticheskaia St. 26, Syktyvkar, 167982References
- Anderson, B.B., and B.D. Silver. 1984. Equality, Efficiency and Politics in Soviet Bilingual Education Policy, 1934–1980. The American Political Science Review 78 (4): 1019–1039.
- Arsentiev, N.M., D.V. Dolenko, and V.A. Yurchenkov. 2000. Tsentr i periferiia: istoriia Rossii ili mnozhestva Rossii? [Center and Periphery: The History of Russia or Many Russias?]. In Finno-ugorskii mir: istoriia i sovremennost’. Materialy II Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii finno-ugrovedov [Finno-Ugric World: History and Modernity: Materials II All-Russian Scientific Conference Finno-Ugric Scholars], edited by N.M. Arsentiev, 16–25. Saransk: Krasnyi Oktiabr’.
- Baker, C., and S.P. Jones. 1998. Language Marketing. In Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education, by C. Baker and S.P. Jones, 221–227. Clevedon: Multilingual Matters.
- Bart, F. 2006. Vvedenie [Introduction]. In Etnicheskie gruppy i sotsial’nye granitsy. Sotsial’naia organizatsiia kul’turnykh razlichii [Ethnic Groups and Social Boundaries: Social Organization of Cultural Differences], edited by F. Bart. Moscow: Novoe izdatel’stvo.
- Brettell, C.B., and J.F. Hollifiel, eds. 2000. Migration Theory: Talking Across Discipline. New York: Routledge.
- Denisenko, V.N. 2007. Rodnoi yazyk i etnos: komi i komi-permiaki [Native Language and Ethnicity: Komi and Komi-Permyaks]. In Materialy XXXVI mezhdunarodnoi filologicheskoi konferentsii. 12–17 marta 2007 g. Vyp. 9, Uralistika [Materials of the XXXVI International Philological Conference. March 12–17, 2007. Is. 9, Uralistics], 36–40. St. Petersburg: Filologicheskii fakul’tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta.
- Esman, M. 1994. Ethnic Politics. New York: Cornell University Press.
- Gellner, E. 1991. Natsii i natsionalizm [Nations and Nationalism]. Moscow: Progress.
- Kardinskaia, S.V. 2006. Etnichnost’ v ideologicheskikh konstruktsiiakh udmurtskikh SMI [Ethnicity in the Ideological Constructions of the Udmurt Media]. Sotsiologicheskie issledovaniia 6: 54–60.
- Рarekh, B. 2008. A New Politics of Identity: Political Principles for an Independent World. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Park, R.E. 1928. Human Migration and the Marginal Man. The American Journal of Sociology 33 (6): 881–893.
- Parsons, T. 2000. O strukture sotsial’nogo deistviia [On Structure of Social Action]. Moscow: Akademicheskii Proekt.
- Rakner, L. 1996. Rational Choice and the Problems of Institutions: A Discussion of Rational Choice Institutionalism and Its application by Robert Bates. Working Paper Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Bergen Norway (Bergen) 6.
- Razin, A. 1993. Udmurtskii etnos: problema formirovaniia patriotizma i internatsionalizma [Udmurt Ethnic Group: The Problem of the Formation of Patriotism and Internationalism]. In Finno-ugorskie narody i Rossiia [Finno-Ugric Peoples and Russia], edited by V. Kalabugin, 98–104. Tallinn: Institut Yaana Tynissona, 1994.
- Shabaev, Y.P. 2013. Kul’turnyi apokalipsis ili grazhdanskaia konsolidatsiia? [Cultural Apocalypse or Civil Consolidation?]. Sotsiologicheskie issledovaniia 3: 28–36.
- Shabaev, Y.P. 2019. Upravlenie kul’turnym mnogoobraziem Rossii: opyt natsional’nykh respublik [Managing Russia’s Cultural Diversity: The Experience of the National Republics]. Moscow: Izdatel’stvo RGGU.
- Shabaev, Y.P. 2022. Gorodskie landshafty na evropeiskom severe i evoliutsiia gorodskikh soobshchestv (antropologicheskii ocherk) [Urban Landscapes in the European North and the Evolution of Urban Communities (An Anthropological Essay)]. In Kul’turnoe nasledie i kul’turnye realii Evropeiskogo Severa: izuchenie, problemy, poiski [Cultural Heritage and Cultural Realities of the European North: Study, Problems, Searches], edited by Y.P. Shabaev, 11–73. Syktyvkar.
- Shabaev, Y., and N. Mironova. 2020. Fenomen Udmurtii-2: molodezh’ vs etnicheskie antreprenery [Phenomenon of Udmurtia-2: Youth vs Ethnic Entrepreneurs]. Voprosy etnopolitiki 1: 94–116.
- Shabaev, Y.P., and A.M. Charina. 2010. Finno-ugorskii natsionalizm i grazhdanskaia konsolidatsiia v Rossii (etnopoliticheskii analiz) [Finno-Ugric Nationalism and Civic Consolidation in Russia (Ethno-Political Analysis)]. St. Petersburg: SPbGUSE.
- Shabaev, Y.P., et al. 2018. Yazykovaia politika i yazykovye orientatsii naseleniia v natsional’nykh respublikakh: konflikt interesov mezhdu gruppami ili nesovershenstvo kul’turnykh praktik [Language Policy and Linguistic Orientations of the Population in National Republics: Conflict of Interests between Groups or Imperfection of Cultural Practices]. Voprosy filologii 1: 62–74.
- Shabaev, Y.P., et al. 2021. Molodezh’ v politicheskom i kul’turnom prostranstve respublik s finno-ugorskim naseleniem: pozitsii, nastroeniia, riski [Youth in the Political and Cultural Space of the Republics with the Finno-Ugric Population: Positions, Moods, Risks]. Moscow: Izdatel’stvo RGGU.
- Smith, E. 2004. Natsionalizm i modernizm. Kriticheskii obzor sovremennykh teorii natsii i natsionalizma [Nationalism and Modernism: A Critical Review of Modern Theories of Nation and Nationalism]. Moscow: Praksis.
- Sztompka, P. 1996. Sotsiologiia sotsial’nykh izmenenii [Sociology of Social Change]. Moscow: Aspekt Press.
- Tishkov, V.A. 1993. Natsional’nosti i natsionalizm v postsovetskom prostranstve (istoricheskii aspekt) [Nationalities and Nationalism in the Post-Soviet Space (Historical Aspect)]. In Etnichnost’ i vlast’ v polietnichnykh gosudarstvakh: materialy mezhdunarodnoi konferentsii (25–27 yanvaria 1993 g.) [Ethnicity and Power in Multi-Ethnic States: Materials of the International. Conference (Jan. 25–27, 1993)], edited by. V.A. Tishkov, 9–34. Moscow: Nauka.
- Tishkov, V.A., and Y.P. Shabaev. 2007. Finnougorskaia problema: otvet Evrosoiuzu [Finno-Ugric Problem: A Response to the European Union]. In Issledovaniia po prikladnoi i neotlozhnoi etnologii [Research in Applied and Urgent Ethnology], 196. Moscow: IEA RAN.
- Tishkov, V.A., V.S. Vorontsov, and V.V. Stepanov, eds. 2017. Etnokul’turnoe soderzhanie obrazovaniia, rossiiskaia identichnost’ i grazhdanskoe soglasie v Privolzhskom federal’nom okruge. Ekspertnyi doklad [Ethno-Cultural Content of Education, Russian Identity and Civil Harmony in the Volga Federal District: Expert Report]. Мoscow; Оrenburg; Izhevsk: Institut komp’iuternykh issledovanii.
- Tsypanov, E.A. 2005. Leksicheskoe obnovlenie v komi, udmurtskom i mariiskom yazykakh: obshchee i osobennoe [Lexical Renewal in the Komi, Udmurt and Mari Languages: General and Special]. In Materialy III Vserossiiskoi konferentsii finno-ugrovedov (1–4 iiulia 2004 g., Syktyvkar) [Materials of the III All-Russian Conference of Finno-Ugric Studies (July 1–4, 2004, Syktyvkar)], edited by A.A. Popov, 25–30. Syktyvkar: Izdatel’stvo Komi nauchnogo tsentra UrO RAN.
- Vorontsov, V.S., Y.P. Shabaev, V.D. Sharov, and N.V. Shilov. 2005. Finno-ugorskie narody Rossii: obshchee polozhenie, problemy i resheniia [Finno-Ugric Peoples of Russia: General Situation, Problems and Solutions]. In Issledovaniia po prikladnoi i neotlozhnoi etnologii [Research in Applied and Urgent Ethnology], 183, edited by V.A. Tishkov and Y.P. Shabaev. Moscow: IEA RAN.
- Zaloznaya, M., and T.P. Gerber. 2012. Migration as Social Movement: Voluntary Group Migration and the Crimean Tatar Repatriation. Population and Development Review 38 (2): 259–328.
Supplementary files