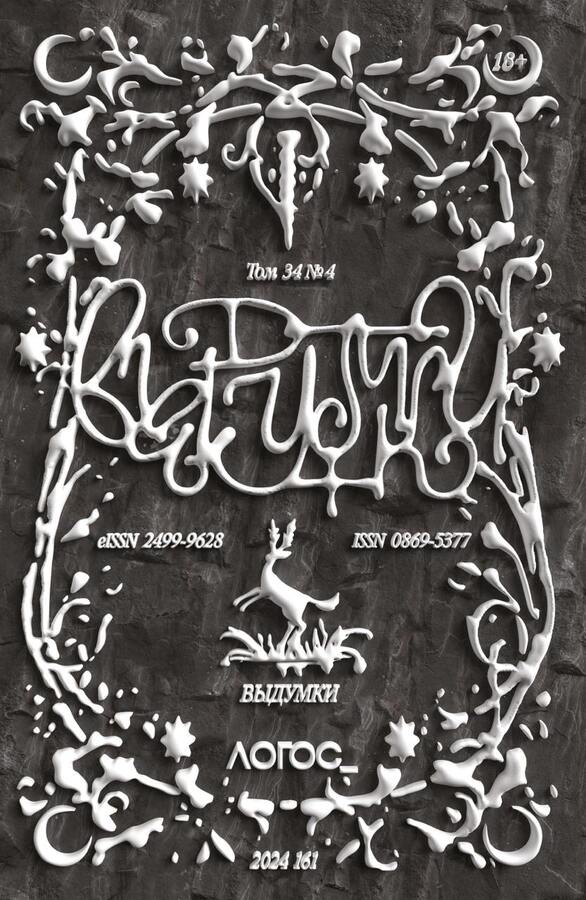Extro-science fiction and science falsity
- Autores: Likhachevskaya А.1
-
Afiliações:
- Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES)
- Edição: Volume 34, Nº 4 (2024)
- Páginas: 26-41
- Seção: ARTICLES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5377/article/view/290416
- DOI: https://doi.org/10.17323/0869-5377-2024-4-26-40
- ID: 290416
Citar
Texto integral
Resumo
The article presents a critical response to Quentin Meillassoux’s essay Science Fiction and Extro-Science Fiction and proves the impossibility of “fiction of worlds outside-science.” A reconstruction of Meillasoux’s three types of XSF-worlds followed by a demonstration of their failure. Author suggests a shift of emphasis in the notion of “science fiction” from the first word to the second: this move draws attention to the constitutive role of fictitiousness as a characteristic of XSF-worlds rather than their scientific nature. Referring to the philosopher’s earlier works, the author performs a “Ptolemy’s Revenge:” fictional worlds are the product of imagination, which implies the impossibility of decentring thought relative to extro-science fiction. Both classic and contemporary works of the SF are used as illustrations, so the text will be of interest not only to speculative realism researchers, but also to sci-fi fans.
Texto integral
Тени из пустоты, подобно гигантскому цветку, расцветут в черепе и раздвинут границы сознания так далеко, как человеку и не снилось.
Джефф Вандермеер. Аннигиляция
В рамках крестового похода на корреляционизм1 Квентин Мейясу решил обратиться к художественной литературе и провозгласить новый жанр вымысла — вненаучную фантастику2 (далее — ВНФ), которая по задумке автора должна помочь отстоять позиции его собственной философии.
Мы утверждаем, что попытку Мейясу нельзя считать удавшейся, и ВНФ в том виде, в котором он ее формулирует, невозможна. В качестве аргументации мы предварительно восстановим логику размышлений французского философа, а затем произведем операцию «реванш Птолемея»3 и найдем новую зону обитания тех миров, которые Мейясу отнес к ВНФ, для чего мы предложим достойную замену и сформулируем отличительные черты альтернативного жанра.
Вымысел по контракту
Чтобы продемонстрировать невозможность ВНФ, нам прежде предстоит реконструировать, каким образом Мейясу понимает научную и вненаучную фантастику. Оба этих жанра представляют собой режимы вымысла (fiction), а их различение на первый взгляд проходит по границе научности:
Мы понимаем под вненаучными мирами такие миры, где экспериментальная наука невозможна де-юре, а не просто неизвестна де-факто4.
Приведенное определение ВНФ открывает нам четыре типа вымышленных миров, в которых (1) наука известна и возможна; (2) наука возможна, но неизвестна; (3) наука известна, но невозможна; (4) наука неизвестна и невозможна. Из них только последний вариант соответствует ВНФ. В таком случае к чему мы можем отнести остальные три?
Первые два типа можно считать привычной научной фантастикой (далее — НФ); причем первый тип походит на «твердую» фантастику, в которой наука будет стоять в центре сюжета, а второй — на донаучную фантастику, куда можно отнести с равным успехом средневековые мифы и альтернативные вселенные вроде Арканара из «Трудно быть богом»5, потому что мир в них подчиняется законам, но обитателям этих миров они пока неведомы. Судьба же третьего типа выглядит туманной, но после недолгих раздумий в голову приходят произведения Франца Кафки и Льюиса Кэрролла, которые едва ли можно причислить к фантастике, хоть мы и найдем имена этих авторов на инфографике «История научной фантастики» Джеффа Вандермеера6.
Казалось бы, отношения между НФ и ВНФ прояснены — вторая не является частью первой, а противопоставлена ей. Но если мы остановимся на этом определении, в ряды вненаучных вымышленных миров попадут галлюцинации, а в научную фантастику — прогноз погоды на завтра. В таком случае проясним характерные черты фантастики как объединяющей категории.
Несмотря на то что Мейясу постоянно говорит о мирах будущего, поклонники жанра с легкостью назовут примеры фантастических рассказов про альтернативную современность и историю7. Кроме того, поскольку мы теперь говорим о вымышленных мирах вообще, а не только о подчиненных научным законам, сюда же можно отнести рассказы «вне времени» (или, по крайней мере, вне нашего привычного времени), истории со своим собственным летоисчислением, никак не соотносящимся с реальным, и в самом широком смысле вымышленные вселенные инопланетного, магического, мистического и абсурдного толка. Мы делаем вывод, что будущность не определяет жанр фантастики, как и не дает основания Мейясу выбросить братьев Стругацких и Филипа Дика на обочину НФ. Что в таком случае является родовым признаком фантастики в целом?
Проблема определения границ жанра довольно остро стоит в кругах литературных теоретиков: в одной только книге «Литературный вымысел»8 мы найдем с десяток формулировок того, что считать фантастикой. Но у всех из них будет нечто общее: разные авторы соглашаются, что принципиальное отличие фантастики состоит в том, что она представляет собой результат работы воображения конкретного автора. Фантастическое произведение представляет собой «текст, в котором ожидается, что читатель будет относиться к содержанию так, как если бы оно было вымышленным»9. Эта громоздкая конструкция значит, что в отличие от научно-популярной литературы фантастика может, но не обязана реферировать к реально существующим явлениям или событиям10.
Автор и читатель вымышленной истории заключают негласный контракт: они оба знают, что написанное — вымысел. Фантастика определяется именно вымышленностью, а уже в качестве спецэффекта к ней присоединяется «элемент необычайного»11.
От-научная фикция и еще одна бильярдная партия
Вернемся к четырем типам фантастических миров и дополним получившиеся различения характеристикой вымышленности. Конечно, она уже присутствовала у Мейясу и ранее, но нам надлежит правильно расставить акценты, чтобы перейти к доказательству невозможности вненаучной фантастики.
Благодаря критерию вымышленности мы теперь можем объяснить, что галлюцинации, прогноз погоды, а также суеверия, мифы и религиозные произведения не могут быть причислены ни к НФ, ни к ВНФ, поскольку во всех приведенных случаях либо автор, либо «читатель», либо они оба верят в реальность воображаемого. Здесь нам потребуется привести еще одно определение ВНФ:
Вненаучная фантастика определяет особый режим воображаемого, в котором мыслятся миры, структурированные — или, скорее, деструктурированные — так, что экспериментальная наука не может ни разворачивать в них свои теории, ни конструировать свои объекты12.
Мы хотим обратить внимание читателя на специфичную наукоцентричность: в центре ВНФ-миров Мейясу видит науку, а не фигуру, которая создает мир в своем воображении. Правильнее было бы назвать его нововведение от-научной фантастикой, потому что именно привычная нам наука становится точкой отсчета для ВНФ в системе координат Мейясу:
Такое повествование должно удовлетворять двум требованиям: а) наличию событий, которые нельзя объяснить никакой „логикой“, будь она реальной или воображаемой; б) присутствию, пусть и в негативной форме, темы науки13.
Прежде чем пойти дальше, акцентируем внимание на отсутствии категории причинности внутри ВНФ-миров. Как признается сам Мейясу, поначалу определение ВНФ — это определение «от противного»14, вненаучный вымысел представляет собой обратную сторону границы НФ и не существует в отрыве от нее. И если наука «позволяет нам предсказывать некоторые будущие явления»15, то вне-наука будет характеризоваться невозможностью прогнозирования.
Согласно первому требованию отсутствия какой бы то ни было логики, вненаучный мир лишен принципа «внутренней связности»16, однако ему не чужда некоторая регулярность, и именно по степени такой регулярности Мейясу различает три типа вненаучных миров: миры с редкими разрывами причинности, миры умеренной нерегулярности и миры, полностью лишенные регулярности17. Причем только второй из них, ВНФ-2, он считает истинно подходящим под его строгие стандарты.
Градиент регулярности оставляет нас с весьма размытыми границами типов: какой мир мы можем считать достаточно нерегулярным, чтобы заслужить высокое звание ВНФ-2? Мейясу считает, что это
…мир, в котором случались бы „вещекатастрофы“, внезапные „вылеты с дороги“ материальных объектов — катастрофы, слишком редкие для того, чтобы уничтожить всякую человеческую жизнь, но все же не настолько редкие, чтобы исключить надежное научное экспериментирование18.
Нам остается лишь предполагать, на каком основании непредсказуемые события с участием материальных объектов позволяют людям в таком мире сохранять сознательное существование. Если относительная стабильность вымышленного мира нарушается непредсказуемыми явлениями с непрогнозируемой частотой, такая вселенная превращается в неупорядоченный поток информации:
…синтетическое схватывание неспособно „совладать“ с величием схватываемых восприятий, которые бомбардируют субъекта19.
И если в таком мире изначально существовало что-то аналогичное нашим законам реальности, первое время после коллапса персонажи истории смогут опираться на уже имеющиеся рассудочные категории и пытаться осмыслить происходящее, однако с накоплением все новых разрывов регулярности мышление перестанет справляться с хаосом и сознание капитулирует перед новыми обстоятельствами.
В качестве подкрепления приведем иллюстрацию из НФ-романа, который переосмысляет знаменитый эксперимент с бильярдными шарами и демонстрирует, как влияет на человека науки невозможность прогнозирования.
«Задача трех тел»20 китайского фантаста Лю Цысиня повествует о вымышленном мире недалекого будущего, в котором ряд выдающихся ученых-физиков совершают самоубийство, поскольку они считают, что физики больше не существует. Цитата из предсмертной записки одной из героинь гласит:
Все факты свидетельствуют об одном: физика никогда не существовала и никогда не будет существовать21.
Поводом для этих трагических событий становится серия научных экспериментов, в которых поведение изучаемых объектов идет вразрез с фундаментальными законами.
Для того чтобы разобраться в произошедшем, один персонаж предлагает другому воспроизвести упрощенную версию одного из опытов с элементарными частицами, где роль частиц будут выполнять белый и черный бильярдные шары. Герою полагается совершить серию из пяти ударов белым шаром по черному с небольшого расстояния таким образом, чтобы черный оказался в лузе. В каждом из раундов меняется только положение бильярдного стола в комнате. Персонажи методично перетаскивают стол из одной части комнаты в другую, и после каждого перемещения один из них совершает очередной удар. Если вы вообразите себе эту сцену, вы скорее всего придете к заключению, что результат всех пяти раундов был идентичным.
В книге все ровно так и происходит, после чего инициатор эксперимента объясняет на языке физики, почему при изменении положения стола последствия столкновения шаров во всех случаях оставались одинаковыми. Затем он задает своему собеседнику вопрос:
Вообразите себе иные результаты. В первый раз белый шар толкнул черный в лузу. Во второй черный отскочил. В третий черный шар взлетел к потолку. В четвертый он пометался по всей комнате, как испуганный воробей, и канул в ваш карман. И в пятый раз черный шар, набрав скорость, близкую к скорости света, проломил бортик стола, пронзил стену и покинул Землю, а потом и Солнечную систему, как это описал Азимов. Что бы вы тогда сказал22?
Этой аналогией герой объясняет, что произошло во вселенной «Задачи трех тел» при попытке исследователей провести опыты по столкновению частиц в ускорителе и что стало причиной самоубийств ученых.
Все это пространное отступление было призвано проиллюстрировать то, что Мейясу посчитал бы прекрасным примером ВНФ-2: «…„лабораторная“ природа перестала подчиняться принципам относительности»23. Вымышленный мир, в котором физика отказалась работать на ограниченном участке, но при этом все остальное продолжило существовать как ни в чем не бывало. Впрочем, учитывая размытость понятия умеренной регулярности, приведенный эпизод мог бы быть разжалован до ВНФ-1.
Тем не менее что ценного мы находим в этом примере? Ученые, которые не просто верили в существование фундаментальных законов, а строили всю свою систему знаний о мироздании на этих законах, посчитали невозможным для себя жить в этом нерегулярном мире, потому что само его основание теперь разрушено. На это можно возразить, что погибшие персонажи утратили смысл жизни — и это не будет противоречить нашему предположению. В отличие от Мейясу мы никогда не упускали из виду то, что обсуждаем вымышленную историю, и каждый с помощью своего воображения может домыслить недостающее. Но это упражнение было необходимо нам с одной лишь целью — пригласить читателя помыслить мир, в котором вещи ведут себя непредсказуемо.
«Вещекатастрофа» во вненаучных мирах второго типа может произойти с любым материальным объектом. Что если им окажется не автомобиль или горшок с петуньей, а, допустим, молекула, человеческое тело или даже конкретный орган? Вообразите себе, что вы оказались в мире, в котором с вами в любой момент может произойти что угодно, а может и не произойти. Мир непредсказуемости, но при этом достаточно устойчивый для того, чтобы его осознавать. Мир, в котором завтра день может не наступить для всех или для вас лично. Насколько долго люди будут способны сохранять рассудок в этой нерегулярной вселенной?
Может показаться, что мы описываем нашу текущую реальность или, по крайней мере, ее вымышленную копию. Здесь стоит уточнить разницу между случайностью и контингентностью. В то время как объекты привычного нам мира способны быть другими, объекты миров ВНФ-2 способны быть любыми, потому что они не скованы никакой каузальностью. В нашей реальности даже самые необъяснимые вещи имеют причину, и ее наличие сужает спектр потенциальных возможностей материального объекта устроить саботаж. Кружка на вашем столе может упасть и разбиться, но не может развернуться в восьмимерном пространстве или превратиться в крысу.
Отметим, что в мире «акаузального беспорядка»24 Мейясу материальные объекты существуют непротиворечиво. Такой мир оказывается достаточно устойчивым, чтобы вещи сохраняли свою целостность, но недостаточно предсказуемым, чтобы предугадать траектории их движения.
Назад к корреляционизму
Мы подошли к причине, по которой подход Мейясу к вымыслу вненаучных миров оказывается нечувствительным к мышлению: наука для него является конститутивным признаком для ВНФ, в то время как настоящим источником вымысла стоит считать воображение конкретного человека. Художественное произведение будет (не) подчинено законам ровно настолько, насколько того пожелает автор.
Вместо того чтобы формулировать требования к ВНФ относительно науки, Мейясу следовало бы серьезно отнестись к фактору вымышленности и принять воображение за начало координат. За два года до выхода «Метафизики и вненаучной фантастики» он, сам того не подозревая, представил нам подтверждение в пользу первичности мышления относительно порядка в контексте литературы.
Сочинение «Число и сирена» Мейясу посвятил настойчивой попытке привнести логику в кажущийся хаотичным набор слов за авторством Стефана Малларме25. Поэма «Бросок костей» оказывается ловушкой для воображения Мейясу. Философ, который позднее будет убеждать нас в возможности помыслить неупорядоченные миры, не может устоять перед искушением найти скрытый закон, объяснить тайный замысел поэта. И ему это удается. Почему философ так уверен в успешности своих поисков, учитывая, что многие предшественники сомневались в наличии зашифрованного ключа? На основании более ранних работ Малларме Мейясу делает вывод, что поэт не мог оставить свое увлечение расчетами, а в «Броске костей» оно обрело новое воплощение26.
Дело в том, что даже за самым абсурдным и бессодержательным сочинением стоит фигура создателя, которая облекает произведение в определенную форму. Поэтому даже если вымышленный мир стремится казаться вненаучным, само изложение придает истории структуру и последовательность. Знание читателя о том, что вымысел родился в чьем-то сознании, позволяет предположить, что он подчиняется правилам языка, изложения или монтажа в случае кинематографа. Даже при полном отсутствии законов внутри воображаемой вселенной форма невольно задает их извне. В ситуации с Малларме работает еще и репутация автора. Вопреки критикам, Мейясу вовсе не считает, что «поэма не должна быть закодирована»27, для него все прошлые увлечения поэта шифрами скорее свидетельствуют в пользу наличия скрытого ключа.
Но предположим, что речь идет все же о менее экстравагантных и более близких к научной фантастике произведениях, где мы имеем дело в чистом виде с мирами, претендующими на ВНФ-2. Прежде всего в голову приходит «Пикник на обочине» Стругацких, в дополнение к нему предложим «Аннигиляцию» Вандермеера28 и рассмотрим эти два романа в паре, тем более что читатели обоих найдут в них массу сходств.
И «Пикник»29, и «Аннигиляция» повествуют о загадочной Зоне, которая появилась в определенный момент, ограничена конкретной территорией, и внутри нее происходят не поддающиеся законам земной науки явления, которые в то же время достаточно устойчивы для наблюдения и даже взаимодействия. По всем признакам обе истории можно было бы отнести к ВНФ-2, если бы не одна характерная особенность. Несмотря на кажущуюся необъяснимость происходящего, при прочтении возникает стойкое ощущение наличия имплицитных законов, которые никаким образом не описываются в рамках книг, но и не позволяют допускать откровенные несостыковки или казусы. Стругацкие посредством одного из героев прямо озвучивают одну из гипотез появления Зоны, в честь которой роман и получил свое название. Вандермеер разбрасывает в повествовании намеки, побуждая читателя самому найти более правдоподобное объяснение природы паранормальных явлений, будь то военные эксперименты, гипноз или падение метеорита.
В этих мирах ничто не случайно, и люди внутри них отчаянно пытаются найти объяснение произошедшему. Но не это делает обе истории блестящими примерами именно научной фантастики, а то, что авторы проделывают кропотливую работу, которая позволяет читателям распознать скрытую логику, выдвинуть собственные предположения и с помощью воображения достроить недостающие элементы.
Научная фальшь
Выше мы предположили, что обитатели миров типа ВНФ-2 неспособны долго осмыслять происходящее. Их жизнь раскалывается на два режима существования: попытки осознать и адаптироваться в ходе новых непредсказуемых происшествий или мучительное ожидание неожиданностей. Одновременно с этим мы определили подлинный исток вымышленного мира — это воображение его автора, что позволяет конвенционально вненаучные миры по Мейясу отнести к научной фантастике, выявив встроенную в них логику. В таком случае нам остается предложить новую прописку таким режимам вымысла, в которых законы нестабильны, а сознание стабильно, и определить жанровую принадлежность «Опустошения» Рене Баржавеля, который в представлении Мейясу считался почти безукоризненным примером ВНФ-2.
Напомним, что Баржавель изображает высокотехнологичный мир, в котором душевнобольных лечат электрошоком, девственность каким-то образом связана с электричеством, а из одного зерна пшеницы можно получить «буханку хлеба, сигару и один носок»30. Роман наполнен причудливыми деталями, за которыми искушенный любитель фантастики будет пытаться найти хоть какие-то закономерности, но не сможет. Здесь можно возразить, что ведь именно поэтому Мейясу отнес его к вненаучному вымыслу. Все так, только причуды сопровождают и первую часть повествования, еще подчиняющуюся законам науки, которые позднее дадут сбой.
Чтобы разобраться с этой несостыковкой, нам снова нужно обратиться к Борису Стругацкому.
Фантастика — это волшебный сплав чуда, тайны и достоверности. <…> Фантастика без тайны — скучна. Фантастика без достоверности — фальшива, напыщенна и назойливо дидактична. А фантастика без чуда — и не фантастика вовсе31.
Если чудес у Баржавеля хватает, а заглавная тайна становится локомотивом сюжета, то с достоверностью все не так благополучно.
Фальшивая научная фантастика отличается тем, что несмотря на кажущуюся логичность автор не позволяет выдвинуть сколько-нибудь правдоподобную гипотезу того, как могла произойти катастрофа или чем было вызвано конкретное явление. Причем он не позволяет этого ни себе, ни читателю. Все необычное — не более чем прихоть сочинителя, который не потрудился заложить прочное основание для своего мира, и это вызывает у читателя смутное ощущение подделки. Причем научность, о которой идет речь, вовсе не обязана быть привычной нам — вполне представим свойственный только этому конкретному вымышленному миру порядок вещей, который отвечает критериям каузальности и подчиняется каким-то законам.
Приведем для сравнения пример из близкого к НФ жанра фэнтези. В отличие от знакомого всем мира «Гарри Поттера», где законы магии не описываются детально, вполне прочные научные основания мы найдем в другой магической саге, «Дозорах» Сергея Лукьяненко. В «Сумеречном дозоре» писатель объясняет нам природу Иных, устройство Сумрака, вводит понятие «магической температуры» и выстраивает логичную систему мироустройства32. История про вампиров и колдунов парадоксальным образом оказывается более убедительной, чем роман Баржавеля, который поначалу изобилует технологиями и претендует на научную фантастику.
При всех стараниях автора отвлечь читателя затейливыми декорациями и необоснованными отступлениями, он не способен скрыть отсутствие фундаментальности, которое позволило бы непротиворечиво домыслить устройство изображаемых изобретений, происхождение новых культурных традиций или причины катаклизма. Единственное утешение, которое предлагает нам Баржавель, — это аллюзия на второе пришествие Христа, которая отсылает нас к идее всеведущего Бога и верховного законодателя этого мира.
Удивительно, что в «Опустошении» именно устройство общества не претерпевает радикальных изменений более чем за век33. Это только усугубляет ощущение фальшивости — если изменились законы физики, почему не изменилось общество? Возможно, подобные вопросы не возникали у читателей-современников, и в середине ХХ века произведение Баржавеля не казалось нескладной выдумкой, однако спустя 80 лет социальная ригидность в сочетании с безосновательными капризами природы выглядит крайне недостоверно.
Заключение
Мы приходим к выводу, что те вымышленные миры, которые Мейясу относил к ВНФ, на поверку оказываются либо научными, либо фальшивыми. Фантастика — всегда результат чьего-то воображения, а значит, по определению то, что не просто можно помыслить, а то, что уже было помыслено и зафиксировано в виде книги, фильма или любого другого медиума.
В попытке совершить «галилео-коперниканскую революцию34 в научной фантастике, которую он уже намечал в отношении доисторического35, Мейясу упустил критически важное отличие: в то время как доисторическое имеет данный нам (пусть и опосредованно) коррелят в бытии, вымышленные миры характеризуются своей необязательной отнесенностью к реальности, отсутствием такого коррелята.
Для Мейясу отсутствие правил внутри повествования означает отсутствие возможности создать художественный нарратив:
…во вненаучной фантастике, как кажется, не может быть установлен абсолютно никакой порядок и, следовательно, не может быть выстроена никакая история36.
Наука здесь первична, а вымысел вторичен. Это могло бы сработать относительно доисторического, но терпит фиаско в приложении к воображаемым мирам. Птолемей торжествует: невозможно произвести «децентрализацию мышления по отношению к миру»37, который сконструирован этим мышлением.
Вымышленные миры обладают вымышленной онтологией, но это не значит, что в них господствует хаос. Фантастические вселенные подчиняются тем законам, которыми их наделили автор и читатели. Этим законам не обязательно присутствовать эксплицитно, сама форма художественного произведения уже привносит первоначальный порядок, внутри которого любое, даже самое абсурдное содержание поддается логическому обоснованию.
Тем не менее разобравшись в источнике имманентного порядка художественного вымысла, последователи Мейясу могут продолжить свои поиски, но предварительно им придется отказаться от привычной формы и прибегнуть к новым экспериментальным медиумам и методам конструирования миров. Письмо из Простоквашино38 здесь может быть источником вдохновения для создателей ВНФ, поскольку превращение каждого нового читателя в соавтора позволяет преодолеть границы воображения единственного писателя и создавать вселенные, которые меняются с каждым новым прочтением, при этом не превращаясь в сухую хронику и не обретая регулярность.
1 Под этим Мейясу понимает «любое направление мысли, которое утверждает непреодолимый характер корреляции» между бытием и мышлением (Мейясу К. После конечности. Эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2015. С. 11).
2 Он же. Метафизика и вненаучная фантастика. Пермь: Гиле Пресс, 2020.
3 Он же. После конечности. C. 167.
4 Он же. Метафизика и вненаучная фантастика. С. 10.
5 Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Попытка к бегству. Трудно быть богом. М.: Текст, 1992.
6 Вандермеер Д. Книга чудес: Иллюстрированное пособие по созданию художественных миров / Пер. с англ. А. М. Гагинского. М.: АСТ, 2019. С. xii-xiii.
7 Например, «Понедельник начинается в субботу» Стругацких или «Человек в высоком замке» Филипа Дика.
8 Farner G. Literary Fiction: The Ways We Read Narrative Literature. N.Y.; L.: Bloomsbury Academic, 2014.
9 Ibid. P. 13.
10 Ibid. P. 8.
11 Стругацкий Б. Н. Что такое фантастика? День свершений. Л.: Советский писатель, 1988.
12 Мейясу К. Метафизика и вненаучная фантастика. С. 10.
13 Там же. С. 56.
14 Там же. С. 10.
15 Там же. С. 15.
16 Там же. С. 57.
17 Там же. С. 43-52.
18 Там же. С. 47.
19 Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии / Пер. с англ. С. Щукиной. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. С. 70.
20 Лю Цысинь. Задача трех тел / Пер. с англ. О. Глушковой. М.: Эксмо, 2023.
21 Там же. С. 73.
22 Лю Цысинь. Указ. соч. С. 83.
23 Мейясу К. Метафизика и вненаучная фантастика. С. 48.
24 Там же. С. 46.
25 Мейясу К. Число и сирена. Чтение «Броска костей» Малларме / Пер. с фр. С. Лосевой, К. Саркисова. М.: Носорог, 2018.
26 Там же. С. 17.
27 Там же. С. 16.
28 Вандермеер Д. Аннигиляция / Пер. с англ. М. Молчанова. М.: Эксмо, 2015.
29 Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Пикник на обочине. М.: АСТ, 2017.
30 Баржавель Р. Опустошение / Пер. с фр. И. Найденкова // TarraNova. 2004. URL: http://tarranova.lib.ru/fr_sf/authors/barzhavel/opustosh.htm.
31 Стругацкий Б. Н. Что такое фантастика?
32 Лукьяненко С. В. Сумеречный Дозор. М.: АСТ, 2015.
33 В романе Баржавеля, опубликованном в 1943 году, события разворачиваются в 2052 году.
34 Мейясу К. После конечности. С. 173.
35 Одна из вариаций формулировки этой проблемы: «Как помыслить способность экспериментальных наук производить знание о доисторическом?» (Там же).
36 Он же. Метафизика и вненаучная фантастика. С. 32.
37 Он же. После конечности. С. 172.
38 Успенский Э. Н. Дядя Федор, пес и кот: повесть-сказка. М.: Самовар, 2000.
Sobre autores
А. Likhachevskaya
Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES)
Autor responsável pela correspondência
Email: alina.likhachevskaya@yandex.ru
Rússia, Moscow
Bibliografia
- Barjavel R. Opustoshenie [Ravage], TarraNova, 2004. Available at: http://tarranova.lib.ru/fr_sf/authors/barzhavel/opustosh.htm.
- Farner G. Literary Fiction: The Ways We Read Narrative Literature, New York, London, Bloomsbury Academic, 2014.
- Liu Cixin Zadacha trekh tel [三体], Moscow, Eksmo, 2023.
- Lukyanenko S. Sumerechnyi Dozor [The Twilight Watch], Moscow, AST, 2015.
- Meillassoux Q. Chislo i sirena. Chtenie “Broska kostei” Mallarme [Le Nombre et la Sirène: Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé], Moscow, Nosorog, 2018.
- Meillassoux Q. Metafizika i vnenauchnaia fantastika [Métaphysique et Fiction des Mondes Hors-science], Perm, Hyle Press, 2020.
- Meillassoux Q. Posle konechnosti. Esse o neobkhodimosti kontingentnosti [Après la Finitude. Essai sur la Nécessité de la Contingence], Ekaterinburg, Armchair Scientist, 2015.
- Strugatsky A., Strugatsky B. Piknik na obochine [Roadside Picnic], Moscow, AST, 2017.
- Strugatsky A., Strugatsky B. Popytka k begstvu. Trudno byt’ bogom [Escape Attempt. Hard to Be a God], Moscow, Text, 1992.
- Strugatsky B. Chto takoe fantastika? Den’ svershenii [What is Science-fiction? A Day of Achievement], Leningrad, Sovetskii pisatel’, 1988.
- Uspensky E. Diadia Fedor, pes i kot: povest’-skazka [Uncle Fedor, His Dog, and His Cat: A Story-Tale], Moscow, Samovar, 2000.
- VanderMeer J. Annigiliatsiia [Annihilation], Moscow, Eksmo, 2015.
- VanderMeer J. Kniga chudes: Illiustrirovannoe posobie po sozdaniiu khudozhestvennykh mirov [Wonderbook: The Illustrated Guide to Creating Imaginative Fiction], Moscow, AST, 2019.
- Žižek S. Shchekotlivyi sub”ekt: otsutstvuiushchii tsentr politicheskoi ontologii [The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology], Moscow, Delo Publishers of RANEPA, 2014.
Arquivos suplementares