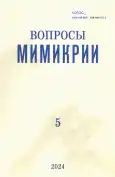From mineralogy to philology: researching the stone anthropograms
- Authors: Khan K.1,2
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- Friendship University of Russia
- Issue: Vol 34, No 5 (2024)
- Pages: 197-218
- Section: AN INNER EXPERIENCE
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5377/article/view/291436
- DOI: https://doi.org/10.17323/0869-5377-2024-5-197-216
- ID: 291436
Cite item
Full Text
Abstract
From Aristotle and Albert the Great and up to modern geological surveys the studies of stones and minerals as non-human forms of existence turned out to be more or less theoretically loaded with anthropomorphism. Stone as one of the first materials for technical and writing tools (from the Stone Age) used to provide elementary and radically passive prototypes for the works of art. A special provocation to create art consists precisely in those precious stones and crystals that strike the imagination as facts of beauty, bringing a person into a special state of mind (fascination in terms of Caillois). In his concept of the fantastic and in classification of games, Caillois criticizes the structuralist interpretation of magical universalism: the involvement of any object in the magical practices of mana circulation rather serves as a reflection of its specific objectification (Baudrillard) in modern commodity-money relations, rather than reveals the prospect of understanding of the function of the “demon of analogy.”
Due to Caillois’ argument against the concept of mimesis in the biological theories of the nineteenth century, we can better understand perspectivism in poststructuralist anthropology and adequately assess the philosophical and anthropological claims of all kinds of hermeneutics of reading and writing as well. Paradoxically, the same demon of analogy comes to the fore in the specific hermeneutics of reading texts, when we carry out disjunctive syntheses and build certain figures, or anthropograms of meaning, which serve as serifs, reminders of the desired image of ourselves. Imaginary anthropograms can lead to geophilia (Jeffrey Cohen) or geophilosophy (Valery Podoroga), but in each case, one should bear in mind the risk of falling into extremes — from hypostasis of fantastic hyperobjects, dreaming about the greatness of epochs of Titans, to the transformation of raw material into faceted souvenirs of a collector of trinkets.
Full Text
Именно тот, кто хочет исследовать природу лишь на эмпирических путях, как будто более всего нуждается в знании ее языка, чтобы понять речь, умершую для него. В высшем филологическом смысле эта речь является истинной. Земля — это книга, составленная из обломков и рапсодий очень разных времен. Каждый минерал есть истинная филологическая проблема. Геология еще ожидает своего Вольфа, который, точно как Гомер, исследует Землю и покажет ее состав.
Фридрих Шеллинг1
Введение
Исследование минерального царства, казалось бы, максимально далеко от антропологических штудий. Когда речь не заходит о высеченных на дорожном или надгробном камне древних письменах, драгоценностях или особых связанных с камнями социальных ритуалах (так, умерщвление камнями — один из древнейших способов казни), мы сталкиваемся с предельно инертной материей, напоминающей скорее о смерти, нежели о жизни, скорее о твердой почве под ногами, чем о звездном небе над головой. Окаменеть — значит буквально замереть или умереть. И хотя каменный век в истории человечества остается некоторым загадочным началом, сами камни, лишенные способности отражения, нечасто становятся темой философских рефлексий. Одна из наиболее развернутых попыток тематизировать работу воображения в связи с исследованием камней была представлена французским социологом Роже Кайуа:
И все же в архивах геологии уже существовала в готовом виде — хотя пока и не пригодилась, не произвела ни резонанса, ни потомства — модель того, что гораздо позднее станет алфавитом…2
Чистая пассивность камня, испещренного узорами природы, неспроста напоминает материальную гладь книжной страницы. Следы без шифра, миметические игры со смертью, меморабилии и антропограммы — подобные сюжеты можно развернуть в попытке углубиться в области исследований не только человеческого, обратившись от животных и растений — уже почти привычных философских сюжетов — к царству минералов. Непростой маршрут от Альберта Великого и его реминисценций античных авторов к Роже Кайуа, Валерию Подороге и Джеффри Коэну — в поисках завораживающих рисунков и аналитики материальных форм миметического там, где это казалось невозможным, — выводит на границу живого и неживого. Впрочем, граница между живым и неживым будет преодолеваться с помощью воображения и грез… Возможно, дешифровка построения фигур подобия живого в неживом и будет ключом к пониманию специфически человеческих фантазий о мире?
Гипотеза, которая легла в основу предлагаемого разбора, касается принципа работы фантазии и специфики мимесиса в игре воображения, захваченного интерпретацией некоторого условно-статического и пассивного образа. Миметическая модель, игра «демона аналогии», становится здесь центральной, но не единственно возможной: вместо мимесиса Другого как развертывания конкурентной борьбы мы можем изучить иные аспекты существования в мире и взаимодействия с вещами в нем. Будь то гравировка зодиакального знака или памятной надписи, обнаружение нерукотворного пейзажа на предельно плотном камне или попытка наделить воображаемой плотью призрак литературного героя в неосязаемой плотности литературного повествования, — схематизм воображения и миметическая игра осуществляются по общей логике, которую я постараюсь далее эксплицировать.
Альберт Великий и камни: рациональное истолкование высеченных созвездий
Попытки специального исследования минералов и их происхождения, во всяком случае в истории западноевропейской науки, обнаруживаются довольно поздно. Одним из первых теоретиков минералогии стал в XIII веке Альберт Великий. Его трактат о минералах и металлах (De mineralibus et rebus metallicis libri)3 наряду с другими его натурфилософскими и алхимическими трактатами составляет первый компендиум перипатетической физики в истории схоластики. Примечательно, что обращение к геологической проблематике для Альберта не сводится к систематизации описаний и наблюдений: он не ограничивается суммой описаний сущности минералов у четырех философов (Александра Афродисийского, Платона, Гермеса Трисмегиста и Авиценны) и опровержением их взглядов. Альберт отказывает камням в наличии души, а также упрекает Авиценну за наделение небесных интеллигенций чудовищным воображением4. Он опирается скорее на работы Птолемея и Плиния с позиции аристотелизма5, а его подробные рассуждения о возникновении камней, их материи и форме завершаются рассмотрением прагматики использования драгоценных камней.
Первая книга трактата посвящена теоретической минералогии: в ней представлены методологическое введение и описание общих и акцидентальных свойств минералов как таковых, в то время как вторая книга уже может служить практическим руководством по обращению с драгоценными камнями. Уточнив этимологию и перечислив известные физические свойства камней (цвет и светопроницаемость, твердость, прочность, пористость), распределив их на четыре основные группы по цветам и отдельно описав окаменелости, Альберт не касается тонкостей ювелирного искусства и сразу же переходит к перечню основных представлений о метафизических свойствах драгоценных камней (целительных, защитных, приносящих удачу и т. д.). Эффективность минералов, как считается, усиливается огранкой и гравировкой (немудрено, учитывая преимущественно эстетический характер описания этого воздействия — на камень достаточно смотреть или делать его видимым для других, надев на шею). Став талисманом или апотропеем, драгоценный камень выступает в качестве своего рода меморандума о намерениях, то есть материального напоминания о желанных благах, причем выгравированное на нем созвездие призвано усилить подобный эффект. Альберт отмечает:
Хотя несомненно, что для наших настоящих задач достаточно вышеизложенного, тем не менее для удовольствия наших читателей мы выскажем некоторые соображения о значении изображений, а затем об использовании лигатур и подвесок с камнями6.
Можно сказать, что, закрепив за камнем определенные мотивационные функции и наделив собственный мотив определенной формой, весом, плотностью, цветом и символическим изображением, тот, кто носит камень, конкретизирует мотивационные структуры, — а камень таким образом становится подлинной драгоценностью.
Показательно и то, что окаменелости, застывшие растения и животные, а также «естественные образы» не привлекают особого внимания средневекового мыслителя — гораздо важнее начертать, выгравировать на камне правильное созвездие или лигатуру. Материя камня мыслится все же несамостоятельной, пассивной основой, сама по себе она лишь прочная поверхность, с которой необходимо ассоциировать замысел, стихию, определенный знак зодиака. Неодушевленность неживой материи, согласно Альберту, приводит к возможности использовать камень как символ и след. Подлинный краеугольный камень — конечно, не материя, но акт веры.
Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день (Зах. 3:9)7.
Примечательно также, что, по преданию, на наперснике Первосвященника (Моисея), украшенном двенадцатью камнями, были выгравированы буквы. Камень с гравировкой священных символов, таким образом, становится отражением божественного взгляда, а его исходная неподвижность и пассивность, твердость и нерушимость выступает необходимой антитезой подвижности и вездесущности силы духа. Нет достаточных оснований считать, что все камни могли мыслиться как одушевленные или что драгоценные камни могли выступать в качестве достаточных гарантов удачи и жизненного благополучия. Зато можно действительно обнаружить в них один из вероятных прообразов письменности (ввиду долговечности сделанной засечки) и источников мотивов для искусства (ввиду разнообразия и эстетических свойств драгоценных камней).
От Кайуа к Коэну: мимесис камней и факты красоты — путь к геофилии?
Более современный взгляд на «прикладную минералогию» и работу воображения при взгляде на камни может представить нам другой теоретик, Роже Кайуа. Первым делом стоит вспомнить его ценное критическое замечание в отношении миметических классификаций биологов XIX века — прежде всего Альфреда Жиара, который предлагал выделять различные стратегии миметизма, например, мимикрию защитную и мимикрию нападающую, анализируя не столько способ маскировки, сколько ее результат с позиции внешнего наблюдателя8. Кайуа указывает на то, что вместо анализа самого эффекта фасцинации, или заворожения, — который по сути является привлекающим внимание маневром, позволяет как защищаться, так и нападать, — Жиар спешит сделать вывод о характере действия по его последствиям, обособляя организм-1, организм-2 и среду. Аргумент Кайуа состоит в том, что явление мимикрии раскрывает сущностно поливалентную тенденцию стирания границ организма со средой или границ одного вида с другим сообразно принципу Карно и стремлению к некоторому инстинктивному единообразию. Стоит добавить, что за подобной тягой к единообразию для живого можно было бы прочитывать тягу к смерти, что отмечает в своем разборе мимикрии и фасцинации Сергей Зенкин, показывающий, как эта ранняя теория мимикрии приводит Кайуа далее к проработке идеи игры-головокружения (ilinx)9. Рассмотрим этот аргумент более подробно. Как пишет Кайуа,
…обращение к магической тенденции искать сходства между вещами годится лишь как первое приближение, поскольку сама эта тенденция нуждается в объяснении10.
Кайуа показывает, что путь от гипостазирования некоторых обнаруженных корреляций до универсального действия маны (который предлагал, например, Марсель Мосс) будет верно указывать исходный и конечный пункт некоторой мифологемы, но не саму траекторию и способ ее задания; такой путь лежит через внимательное раскрытие самих техник аналогизирующего переноса. Если универсальные лингвистические и семиотические гипотезы будут более активно тематизироваться в структуралистской антропологии, то Кайуа предлагает посмотреть не столько на элементарные структуры воображаемых опытов, сколько на способы их классифицировать. Раскрытие загадки минералов будет развертываться, с одной стороны, в его исследованиях работы фантазии и разработке теории игры, а с другой — в своеобразной аналитике минералов как некоторых фактов красоты. И подобно тому как среди многообразия агатов особое внимание привлекает тот, на котором запечатлена картина, так среди многообразия переводимых иероглифических терминов важно не упустить тот, который окажется радикально непереводимым в силу обнаружения иного родового свойства11. При этом, прояснив доминирующие принципы игр, которые выступают как «самые диффузные и неразличимые имплицитные постулаты»12, из них можно будет обнаружить и выводить самые разные типы обществ.
Минералы представляют собой тот тип объектов, который позволяет разгуляться так называемому демону аналогии или дает прекрасный фон для развертывания игры воображения. Лишь редкие минералы являют собой поддельные знаки, воплощая мнимые совершенства и чудесные картины, будто бы высеченные рукой природы-творца в кварцевой пластине. Подобные экземпляры служат эталонами для символа и вызывают у созерцающего их тот же эффект фасцинации, который столь распространен в живой природе. Притягивая взгляд человека, диковинный узор минерала вызывает ассоциации и стимулирует работу фантазии, являя некоторую потенцию смысла там, где его в общем-то и не ждали. Неспроста Альберт Великий упоминает о том, что некоторые камни способны повышать способность дивинаторного искусства (!). Так, картина, которая распознается в Пирровом агате, считывается как послание неведомого адресанта, причем послание столь искусно изготовленное, что его хочется попытаться повторить. Статичность картины в камне — в отличие от живописного пейзажа, который стремительно меняется по мере того, как восходит и заходит солнце, — дает тот самый эталон сохранности, который оправдывает затрачиваемые на вырезание знаков время и усилия. Выступая одновременно в качестве модели и цели, каменная скоропись или картина в камне оказываются тем символом власти над временем, который впоследствии воплотят иероглифы, скрижали законов и эмблематические изображения в геральдике.
Фантастическое в таком случае — не фантазия. Оно присуще тому знанию, которое передают символы, ребусы и эмблемы13.
Мотивированное природой фантастическое раскрывает себя там, где человек замечает алфавит в каменных породах или часы в порядке раскрытия бутонов цветущих растений в различные моменты дня. Качественное разнообразие в сочетании с внезапно обнаруживаемой его соразмерностью и соизмеримостью наводит на мысль о том, что вполне возможно было бы собрать цветочные часы или отточить заложенную в мраморе возможность быть статуей, как писал Аристотель. Это становление, конечно, не содержит в себе чудесной метаморфозы, но все же является результатом приложенного сознательного усилия. Чтобы находить путь по звездам или ориентироваться во времени по цветочным бутонам, уловленной корреляции недостаточно: схематизм воображения требует также большого напряжения памяти. Чтобы изваять прекрасную Галатею, сама память требует овнешнения через могучее мускульное усилие и работу долотом. Искусство, которое передается изустно и требует постоянной практики, умирает каждый раз с каждым своим носителем, в то время как высеченное в камне будет хранить прозрения красоты навеки. Победа над камнем означает для человека победу над собственным временем.
Собственно, искусство скульптуры и архитектурные монолиты представляют собой апогей того, что способен распознать в царстве минералов человек, — а именно ту неподвижную маску смерти, о которой можено сохранить память вопреки естественному распаду органической материи. Как пишет Роже Кайуа,
…науке не измыслить точности, бреду не создать фантазии, искусству не добиться гармонии и смелости, которыми не обладали бы в зародыше, в идее или в несомненной и великолепной законченности структуры, формы, рисунки камней… минералы — исходный запас, основа существования всего, что способно растворяться, истощаться и рассеиваться14.
Собственно, здесь Кайуа соглашается с исходной взаимообусловленностью двух потенциалов — потенциала данности и творческого потенциала. Иначе говоря, факт красоты в камне — сложная комбинация подходящего материала и творческого внимания, позволяющего этот материал некоторым образом увидеть и освоить. Эту позицию можно противопоставить весьма расхожему мнению о кардинальном различии между природой и техникой. В изложении Владимира Бибихина в курсе «Лес» последнее обозначено так:
…если бы в составе природы было искусство строительства, то стволы, камни, глины сами собирались бы, сволакивались в здания и здания вырастали бы спонтанно… животные подражают человеку, ласточки строят гнезда по подобию человеческих домов15.
Признавая возможность миметического родства ласточкиного гнезда и человеческой хижины, равно как и подражания птичьим трелям в музыке Мессиана, все же не стоит забывать о раках-отшельниках, жемчужинах, прорастающих в раковинах, а также о каменных пещерах, служивших укрытием многим поколениям наших предков: некогда сконструированная дихотомия все же имеет весьма нечеткие контуры.
Воображаемая петрификация имеет место не только в области праксиса, но и в области игры, например, в некоторых разновидностях детской игры в салочки. Однако исторически такая игра скорее воспроизводит страх контактного заражения (дотронуться значит «запятнать», «заразить чумой»), где окаменение маркирует наихудшее состояние (замереть, выбыть из игры как бы значит «умереть»16). Здесь подражание камням — «смерть-самозванка»17 (Жорж Батай), и такая псевдомиметическая игра ничего не дает для жизни, но некоторым образом предоставляет почву для фантазирования о смерти. Элемент симуляции (mimicry, если следовать классификации Кайуа18) в подобной детской игре (paidia) сведен к незначительному (салочки все-таки не служат карнавалом или ритуальным вопроизведением эпидемии или даже охоты), в то время как на первый план выходит аспект состязательности (agôn), приправленный малой толикой головокружения (ilinx).
Альтернативная форма отношения к драгоценным камням — не становление-камнем, а объективация, накопление и собирание камней, своего рода сизифов труд счастливого обладателя бриллиантов, размыкает для нас еще один регион опыта — опыт коллекционера вещей.
Жан Бодрийяр в «Системе вещей» указывает на одно из значений понятия «предмет» в словаре Литтре, который определяет его как «повод страсти». Предмет коллекционера, как пишет Бодрийяр, служит зеркалом его личности и воплощением человеческой страсти к бегству. Коллекция, как пишет Бодрийяр, становится безупречным домашним животным, «собакой, от которой осталась лишь ее верность»19, и при этом наиболее ценны те экземпляры, которые в коллекцию еще не вошли, поскольку они постоянно откладывают смерть самого субъекта. Универсальная природа коллекционирования истолковывается Бодрийяром на основе некритического воспроизводства нескольких психоаналитических мотивов: как компенсаторный эффект критических фаз сексуальной эволюции, как превращенная форма нарциссизма, как сублиматорно-регрессивный уход в фанатичное обладание собираемыми вещами. В экзистенциальном же аспекте коллекция призвана некоторым образом обналичить и приручить ход времени, «переключить реальное время в план некоей систематики»20. Коллекции драгоценных камней и являются, таким образом, наиболее выразительными формами власти — ведь это обладание редкими и совершенно неподвижными фактами красоты, которые, покорившись ювелирному искусству, превращаются в атрибуты власти.
С учетом обозначенных выше перспектив мысленный эксперимент по одушевлению камня, предложенный Джеффри Коэном в работе «Камень: экология нечеловеческого»21, кажется другой версией сизифова труда. Под остроумной литературной попыткой предъявить под видом нечеловеческой (дизантропоцентричной) экологии новый, еще не выработанный пласт исследований (за которым должен обнаружиться подлинный, необработанный философский камень), на деле скрываются скорее пространно-патетические рассуждения о сохранении планеты и о возвышенном. Попытка открыть новую невыработанную жилу связывается с медитативным погружением в рассуждения о времени существования горных пород:
Камень — обыденный предмет, на который философ мог бы взгромоздиться, чтобы поразмышлять; необдуманное подспорье для порождения идей (ideation’s unthought support); камень на ладони же — повод (spur) к аффекту, познанию и созерцанию22.
Коэн склонен романтизировать первых людей, обитавших в пещерах и пребывавших в подлинной гармонии с окружающей средой, «пока камень не превратился в ресурс»23, однако экспликация нескольких пассажей из Августина и Исидора Севильского призвана скорее создать некоторый апокалиптический риторический эффект, чем прояснить историю идей о царстве минералов. Освоение каменных пород, начало каменного века в истории для Коэна открывает две весьма различные тенденции: возвеличивание минеральных пород и культы валунов как гиперобъектов (связывание их с космосом, загадочные культы вроде Стоунхенджа) — и воспевание красоты кристаллов в желании обладать малыми объектами. Многообразие одного из наиболее плотных и, казалось бы, неподатливых видов неорганической материи становится одним из первых инструментов, позволяющих как повысить смертоносность орудий охотника, так и стать знаком отличия. Коэн обращает внимание на практики освоения камней, отсылая тем самым к весьма любопытному и важному сюжету в истории культуры — к попытке наделить минералы свойствами растений и животных, придав им половой диморфизм и описав их генезис через аналогии роста и размножения24. Переход к новым технологиям не упразднит интереса к камням, которые веками будут использоваться в градостроении, обустройстве дорог и улиц, украшении предметов быта, выражать собой голоса и иллюстрировать братства тайных орденов.
Коэн будто призывает человечество из свободных каменщиков перейти в подлинные геофилы и осознать ответственность за несоразмерное использование величественных многовековых материй ради краткосрочных целей. Многие его этюды призваны усугубить ту самую антропоморфизацию, которая, будучи игрой, вовсе не лишена некоторой прагматики действия. Впрочем, предложенный Коэном перспективизм камней и гор с их радикально иным временем, с отказом от описания мира в терминах либидинальной экономики и биополитики в пользу загадочных движений литосферных плит сводится к указанию на масштабы истории Земли, превосходящей историю человеческого рода. Работа Коэна во многом представляет собой прозаические медитации экологически ориентированного интеллектуала, который пытается убедить своих читателей вернуться назад к средневековым трактатам о минералах, подумать о своей хрупкости и недолговечности перед лицом величественного молчания гор. Обладая несомненной риторической привлекательностью, они тем не менее являют собой непоследовательную концепцию одухотворения Земли. Да и Земля, настолько превосходя человека, едва ли нуждается в человеческом одобрении.
Не отрицая возможной пользы от вслушивания в драгоценную мощь камней и фантазирования над несоизмеримостью их времени существования нашему, стоит вернуться к тезису Кайуа о том, что «нет ничего, что не удалось бы разглядеть в камнях снисходительному воображению»25. Демоны аналогий легко способны привести любителя кремней к маниакально-карикатурным формам рассуждения26, и во избежание попыток выдать собственные страхи за конец всего сущего нам следовало бы обратиться к изучению собственного схематизма и способов построения антропоморфных фигур.
Камни, перспективизм и антропограммы (Подорога и де Кастру)
Попытки нащупать и описать краеугольные или философские камни в человеческой культуре привели нас к некоторым столпам веры, будь то вера экологическая (Коэн) или социологическая (Кайуа): неспроста, как отмечал Сартр, в позитивизме опытной науки возрождаются «религиозные церемонии жертвоприношения живых тел, практики актов петрификации»27: так диалектика живого толкуется через неживое, и чаще всего посредством умерщвления. Однако возможны ли другие стратегии? Да, если вернуться к камню как к столпу веры и проследить модификации работы воображения и миметические фантазии в поле нематериального творчества, в попытках картографирования не земли, а самих себя.
Такой переход от минералогии к филологии мог бы состояться самыми разными способами, будь то осмысление перехода от философии тождества к философии откровения у Шеллинга или медитаций о деятельности масонов. Но так или иначе, медитация о минералах и архэ каменного века подвели нас к ключевому вопросу: почему люди столь склонны к фантазированию и нестрогим подобиям? Указание на априорные структуры синтеза в данном случае — ход неудовлетворительный, хотя бы потому, что он-то как раз никогда не возвращается к подлинному морфологическому многообразию. Поэтому представляется резонным обратиться не к синтетической или философской, а к аналитической антропологии. Вместо попыток универсализировать человеческий опыт или выявить его инвариантные структуры аналитическая антропология Валерия Подороги стремится обнаружить в вещах и текстах бесценный экзистенциальный опыт, который может гарантировать — «не отражать или воспроизводить, а именно создавать… переживание смысла»28.
Итак, различные унифицирующие антропологические схемы можно вслед за Подорогой разделить на две группы по способу их формирования — это схемы включающего и схемы исключающего наблюдения29. Они, в свою очередь, приведут нас к наполненным антропограммам (литературным — в форме конкретных героев, сюжетов и фантастических миров) и антропограммам пустым (теоретическим — в качестве инструментализированных понятий: архетипов, эпистем, ризом, следов, анаграмм). Первый способ нам уже вполне ясно проиллюстрировал Коэн (литературизация геологии в попытке превращения ее в геофилию), а второй — скорее Кайуа (демистификация опыта визуальной завороженности в построении теории). Однако, как справедливо отмечает Подорога, пользуясь метафорикой Делёза и Гваттари, картографирование себя и своего опыта требует подвижной множественности с помощью концептов, существующих во времени30. Антропограммы Подороги стоит отличать от его же метода реконструкции «авто-био-графий». Антропограммы — это по сути схема, лаконичное картографирование читательского опыта, своего рода модель концептуальной сборки читательских стратегий развертывания смысла (снабженная комментарием, проясняющим генезис этой схемы). «Авто-био-графии» представляют собой развернутые «тетради» с попыткой построения целостной «автобиографической конструкции» на основе философски-психоаналитической интерпретации биографических фактов и свидетельств31.
Свою «Метафизику ландшафта» Подорога неспроста начинает именно с Кьеркегора — дело в том, что «картографирование уровней экзистенциального бытия» с помощью марионеток-псевдонимов, где каждый персонаж Кьеркегора, равно как и каждое предлагаемое им alter ego призваны сформировать множество траекторий для чтения и самоопределения, то есть наиболее эксплицитно выразить ту самую герменевтическую технику (или «коммуникативную стратегию»32), которую Подорога будет далее применять к другим философским и литературным текстам. Ключевую роль для Подороги здесь играют «высказываемость мысли» (практика описания стиля на основе ряда произведений, а не одного авторского текста) и «сериализация» (определенная позиция в мире чтения, которая утверждает избранную произвольную последовательность, или «серию авторов», в качестве осмысленного ансамбля имен не ввиду исторической или конвенционально сложившейся традиции или школы, но в ходе предъявленного интерпретативного анализа).
Истинный читатель выделяется из массы себе подобных маевтическим кружением рефлексии; он должен, уточняет Киркегор, быть «обманом втянут в истинное», а истинное — рождение его собственной субъективности — это он сам, вернувшийся к себе, но вернувшийся уже как Другой33.
Эта позиция вовсе не оригинальна, мы неоднократно встречаем ее в качестве общего места и у других авторов, увлеченных переводами и герменевтическими практиками — скажем, у Поля Рикёра или Бибихина. Однако в своем комментарии к трактовке философского эссе у Адорно (и Беньямина) Подорога предлагает весьма сильный тезис: «Философия становится наукой о происхождении философских имен»34. Подобное утверждение, помимо содержащегося в нем круга в определении, чревато радикальным отказом от возможности какого бы то ни было изобретательства; по сути, здесь можно обнаружить критерий различения философии и литературы (поэзии в особенности). Если термины философского письма — это своего рода «графематические метки» или смысловые узлы, знаки, повторяемые и пересобираемые с миметической виртуозностью, то поэтическая речь косноязычна и выражает головокружение, «ритм бездн», реализует принцип сделанности — будто бы подражая Творцу и пребывая предельно близко к нарождающимся вещам.
Для своей аналитической антропологии литературы Подорога, по-видимому, сознательно выбирает тех авторов, кто будет выражать подобного рода притязания: в числе его фаворитов Николай Гоголь, Андрей Белый, Андрей Платонов, обэриуты. Этот выбор не просто не случаен, но и обременителен — предоставляя замечательный материал для составления читательских антропограмм, Подорога словно прививает хороший вкус, выводя за скобки всякую возможность несогласия, полемики или аналитики опытов чтения чего-либо мучительного, скучного, побуждающего к спору. Он как будто совершенно уходит от ответственности за тот насильственный опыт «литературы воспитания», с которым может столкнуться читатель неискушенный. Практики узнавания себя в мире литературы оказываются лишены тех методических компендиумов, которые давали бы столь же простые и отчетливые руководства к чтению, что и азбука камней Альберта Великого, поскольку сборки себя через многочисленных персонажей и авторов осуществляются методом сложного варьирования ситуаций путем многочисленных проб и ошибок. Опыты завороженности книгой (фасцинации) столь часто уступают скуке, что рискуют отвратить от истинного читательства.
«Палеонтологические гипотезы» сознания, отсылки к вытесненным воспоминаниям, хранящимся в родовом бессознательном, или антропософские медитации Андрея Белого Подорога предлагает сопоставить с пантеизмом Толстого и литературно-философскими изысканиями Дэвида Лоуренса. Результат этого сравнения — некоторый ископаемый призрак или «дикий взгляд животного», которым мы боимся подражать, некоторый тип миметической реакции, которая оказывается устрашающей для самого человека. Релевантная отсылка к миру индейцев и тотемных животных наводит здесь на предложенную Эдуарду Вивейрушем де Кастру модель переноса дизъюнктивного синтеза35 на внутрикультурные множественности или попытку исследования перспективизма (мультинатурализма) человеческого/нечеловеческого36. Де Кастру упоминает дизъюнктивный синтез, указывая на исходную ситуацию двусмысленностей в различных языках, приводящую к гетерогенности словарей перевода (исходя из разных позиций, мы можем оказаться в ситуации непонимания, причем это непонимание у каждого свое). Условием целесообразности использования именно дизъюнкции здесь является гетерогенность посылок представителей различных культур: в каждом языке имеются свои семантические сдвиги, свои двусмысленности, которые при попытке обнаружения точных эквивалентов могут давать сбои. Вместо того чтобы выстраивать иерархию языков или культурных кодов (например, считать язык антрополога-исследователя языком par excellence и стремиться к однозначной переводимости понятий, жестов, ритуалов на язык исследуемых «туземцев»), следовало бы как раз учитывать возможность по меньшей мере двойственности самого непонимания.
Читаемое читает нас. Теперь смысл — это не то, что вменяет читатель философскому произведению, он развертывается одновременно с коммуникативным пространством, в котором читатель становится читаемым. Движение чтения конкурирует со своим двойником — видом философского письма. Другими словами, понимание читаемого зависит теперь от того, насколько я способен соучаствовать в другом письме37.
Если Подорога выступает за своего рода читательскую пересборку идентичности посредством механизмов миметического синтеза, где человек увлеченно подражает человеку, герою, марионетке или автору, ужасаясь самой перспективе подражания зверю или машине (целью является не столько понимание Другого, сколько антропограмма самого себя как Читателя), то де Кастру ориентирует нас на обнаружение устойчивых практик необычного мимесиса, где человек оказывается действительно способен подражать зверю, растению или духу38. Примечательно, что из области внимания и одного, и другого выпадают те самые безмолвные камни — тот базовый уровень предельно пассивной материальности, который так часто представляется краеугольной материей для исключительно сознательно запечатленного образа себя. Копировать зверя или даже цветок кажется возможным посредством имитации способа живого взаимодействия с вещами. Но что значило бы копирование камня — радикальную аскезу, предельную степень бесстрастности, отчужденность и совершенную пассивность? Что за бремя этот «философский камень»?
Заключение: к критике геофилософии
Встретив и обозначив некоторые типы антропограмм — будь то зодиакальные шлифовки на драгоценных камнях у Альберта Великого, одомашненные кристаллы и вековечные глыбы у Мандевиля и Коэна, фасцинации фантастического у Кайуа или литературные памятники у Подороги, — нетрудно вывести типологию материального, равно как и обнаружить труднопреодолимую границу миметического, связанного с обездвиженностью камня самого по себе. Однако схематизм минералогии наводит на мысль о том, что прекраснодушный пафос геофилии или экофилософии разбивается о факт банального сопротивления материала.
Стоит необдуманно признать за планетой либидинальное измерение или, как пишет Оксана Тимофеева, вдруг увидеть в нефти черного раба39, как следующим шагом потребуется дать отчет о собственном положении на этой планете. Очевидно, что та иерархия творений, которую нам предлагала схоластика — с человеком в качестве господина и венца божественных творений, — попадет под подозрение. Логика гипостазирования так или иначе рискует обернуться перевернутой эстетикой возвышенного. Тогда покажется, что гнев человеческий — жалкое подобие вулканического гнева, целеполагание людей — лишь попытка описания Гольфстрима, идеалы романтической любви — пародия лебединой песни, а всякий счастливый момент — отблеск радуги после дождя, и мы вернемся к протомифологической картине, где люди на первом шаге непременно осознают себя ресентиментными карликами, постоянно норовящими напакостить своими парниковыми газами в мире величественных сил природы.
Действительное сострадание уже не всему живому, но ко всему сущему потребовало бы утвердить бессмысленность права на жизнь и указало бы на беспочвенность любого владения чем бы то ни было в качестве ресурса (или возвращение к некоторому «завороженному господству» дискурсивных порядков). На практике же собирание и картографирование антропограмм на основе своего читательского опыта, коллекционирование магических камней, попытки составления словарей мифов и различных «религиозных» или «культурных» перспектив обнаруживают радикально избирательный, предвзятый и антропоцентристский характер. Все же последовательный дизъюнктивный синтез требует радикальной инклюзивности, которая выводит нас, например, за пределы возможной этики — и возвращает в измерение человеческих, слишком человеческих игр, в которых каждый несет экзистенциальную ответственность за то, кому или чему предпочитает подражать. Как писал Василий Бородин, «всё же всё же это написано // сердцем а не долотом»40. Каменные скрижали, стены, чаша и надгробие как воплощенные единства закона, опоры, дара жизни или памятного знака уступают место другим материальным носителям — а архитектоническая логика и завораживающие практики продолжаются.
1 Шеллинг Ф. В. Й. Лекции о методе университетского образования / Пер. с нем., вступ. ст., прим. И. Л. Фокина. СПб.: Міръ, 2009.
2 Кайуа Р. Отраженные камни // Он же. В глубь фантастического. Отраженные камни / Пер. с фр. Н. В. Кисловой. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006. С. 184.
3 См.: Albertus Magnus. Book of Minerals / D. Wyckoff (trans.). Oxford, UK: Oxford University Press, 1967.
4 Ibid. P. 64.
5 Сам Аристотель, впрочем, уделял минералогии совершенно незначительное и несамостоятельное место. Единственное упоминание камней встречается в третьей и четвертой книгах «Метеорологики», где вскользь названы два вида испарений из Земли, которые приводят к образованию ископаемых минералов (в результате сухих испарений) и плавких металлов (в результате влажных испарений, застывших прежде, чем они стали водой).
6 Ibid. P. 140.
7 Я благодарна Максиму Калинину, обратившему мое внимание на это место и комментарий к загадочному образу семиокого камня на основе рукописного текста сирийского мистика Иосифа Хаззайи «О семи очах Господа», перевод которого на русский язык готовят Максим Калинин и Полина Иванова.
8 Принципиальную роль для Кайуа играет попытка различить антропоморфную интерпретацию, связанную с позицией объективного наблюдателя и возможностью интерпретации извне, и некоторое универсальное фасцинирующее действие, непосредственно делающее наблюдателя пассивным. См.: «Совершенно очевидно, что в вышеуказанных случаях решающую роль играет антропоморфизм: сходство имеет место только в глазах человека, который смотрит на объект. Объективным же фактом является завораживающее действие (фасцинация) — что доказывает, в частности, Smerinthus ocellata, не похожая ни на какое опасное существо. Тут важны лишь пятна в форме глаз. Это подтверждается поведением бразильских туземцев — «глаза» Caligo можно сравнить с апотропейным oculus invidious — дурным глазом, способным и причинить вред, и защитить, если его направить против тех злых сил, частью которых он является. Здесь антропоморфизм уже ни при чем, поскольку фасцинирующее действие глаз имеет место во всем животном мире. Зато это сильное возражение против тенденциозных утверждений о сходстве; к тому же даже с точки зрения человека ни один из вышеприведенных фактов не дает основания для окончательных выводов о сходстве» (Кайуа Р. Мимикрия и легендарная психастения // Он же. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2003. С. 89).
9 См.: Зенкин С. Н. Явление сакральное (numen) // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1–2. C. 197–222.
10 Кайуа Р. Мимикрия и легендарная психастения. С. 96.
11 Здесь можно вспомнить разборы иероглифов из работы «Игры и люди», в которых, несмотря на весьма эффектное построение общей классификации игр, Кайуа показывает возможность альтернативных типологий на примере китайских иероглифов, обозначающих другие роды игр. Так, китайский термин yeou включает в себя «прогулки, игры с воздушным змеем, загробные странствия душ, блуждания шаманов, призраков и грешников», осциллируя между отдельными аспектами ludus и paidia и не вписываясь в собственном смысле ни в класс миметических игр, ни в класс игр-головокружений, ни роковых игр-alea. (Он же. Игры и люди / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: АСТ, 2022. С. 70).
12 Там же. С. 133.
13 Он же. В глубь фантастического. С. 66.
14 Он же. Отраженные камни. С. 177.
15 Бибихин В. В. Лес. СПб.: Наука, 2011. С. 128.
16 Впрочем, в некоторых вариациях игр в салочки возможны худшие исходы — вроде выбывания до конца игры, которое воспринимается как еще более негативное.
17 Батай Ж. Человек перед страхом смерти и пустоты // Делюмо Ж., Батай Ж. Пустота страха. М.: Родина, 2020. С. 138.
18 См.: Кайуа Р. Игры и люди. С. 71–72.
19 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Рипол-классик, 2022.
20 Там же.
21 Cohen J. J. Stone: An Ecology of the Inhuman. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2015.
22 Ibid. P. 11.
23 Ibidem.
24 Коэн приводит множество интересных пассажей о камнях и кристаллах как об испытывающих страсти, на основании разных источников — от Джона Мандевиля до Джейн Беннетт. Например, алмазы сравнивались у Мандевиля с питомцами: «Алмазы созревают, питаются, вожделеют и размножаются. Им потребуется всего лишь несколько капель росы, так что они представляют собой особо ценный вид домашних камней» (Diamonds mature, eat, desire, reproduce. Demanding no more than occasional drops of dew, they offer themselves as an especially precious kind of pet rock) (Ibid. P. 247).
25 Кайуа Р. Пирров агат // Он же. В глубь фантастического. С. 134.
26 Там же. С. 140–141.
27 Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. P.: Editions Gallimard, 1985. T. II. L’intelligibilité de l’histoire. P. 358.
28 См.: Подорога В. А. Антропограммы. Опыт самокритики. С приложением дискуссии. СПб.: ЕУСПб, 2017. С. 12.
29 Там же. С. 18–19.
30 Там же. С. 69–71
31 См.: Авто-био-графия. К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии № 1 / Под ред. В. А. Подороги. М.: Логос, 2001.
32 Он же. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX веков. М.: Канон+, 2021. С. 148.
33 Там же. С. 53.
34 Там же. С. 466.
35 Дизъюнктивный синтез — понятие, которое де Кастру заимствует из «Анти-Эдипа» Делёза и Гваттари (см. гл. 2, § 7 «Каннибальских метафизик»: Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 167–193). Здесь речь идет о способе указать на серию возможных смыслов и линий их смещений, то есть иметь в виду «горизонтальную цепочку» или даже сетку возможных интерпретаций: так, например, могут оказаться скрещены логика обмена дарами и логика обмена товарами, но, выбирая между «даром» и «товаром», эмпирически мы не можем выбрать привилегированную логику обнаружения некоторой уникальной «вещи как таковой», которая сама по себе является как то или другое. «Мы имеем дело с кровью или пивом, никто не пьет напитка-в-себе» (Там же. С. 76).
36 Корень радикального разнообразия для де Кастру здесь состоит в том, что различие между точками зрения должно мыслится не метафизически, «в душе», а «задаваться спецификой тела» (Там же. С. 39), что переводит исследователя-антрополога из семиотически-структуралистского анализа в область онтосемиотики, позволяющей акцентировать не только синонимическое общечеловеческое, но и «противоестественную омонимию дискурсов видов всего живого» (Там же. С. 41).
37 Подорога В. А. Метафизика ландшафта. С. 53.
38 Одно тело может испытывать метаморфозы, быть вместилищем множества логик, смыслов или «духов» (один из примеров индейского перспективизма у де Кастру: человек-охотник обнаруживает в себя ягуара, но тот же человек, на которого нападает ягуар, обнаруживает в себе уже тапира).
39 Тимофеева О. В. Черная материя // Опыты нечеловеческого гостеприимства: антология / Под ред. М. Крамар, К. Саркисова. М.: V–A–C Press, 2018. С. 178.
40 Бородин В. А. Клауд найн. М.: Центрифуга; Центр Вознесенского, 2022. С. 42.
About the authors
Kate Khan
National Research University Higher School of Economics; Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: katerina.inno@gmail.com
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Albertus Magnus. Book of Minerals (trans. D. Wyckoff), Oxford, UK, Oxford University Press, 1967.
- Avto-bio-grafiia. K voprosu o metode. Tetradi po analiticheskoi antropologii № 1 [Auto-bio-graphy. On the Question of Method. Papers on Analytical Anthropology] (ed. V. A. Podoroga), Moscow, Logos, 2001.
- Bataille G. Chelovek pered strakhom smerti i pustoty [L’homme devant la peur de la mort et du vide]. In: Delumeau J., Bataille G. Pustota strakha [The Void of Fear], Moscow, Rodina, 2020, pp. 126–167.
- Baudrillard J. Sistema veshchei [Le systeme des objets], Moscow, Ripol-classic, 2022.
- Bibikhin V. V. Les [Forest], St. Petersburg, Nauka, 2011.
- Borodin V. A. Klaud nain [Cloud Nine], Moscow, Tsentrifuga, Voznesensky Center, 2022.
- Caillois R. Igry i liudi [Les jeux et les hommes], Moscow, AST, 2022.
- Caillois R. Mimikriia i legendarnaia psikhasteniia [Mimétisme et psychasthénie légendaire]. Mif i chelovek. Chelovek i sakral’noe [Le mythe et l’homme. L’Homme et le sacré], Moscow, OGI, 2003, pp. 83–104.
- Caillois R. Otrazhennye kamni [Pierres reflechies]. V glub’ fantasticheskogo. Otrazhennye kamni [Au coeur du fantastique. Pierres reflechies], St. Petersburg, Ivan Limbakh Publishing House, 2006, pp. 153–252.
- Caillois R. Pirrov agat [L’agate de Pyrrhus]. V glub’ fantasticheskogo. Otrazhennye kamni [Au coeur du fantastique. Pierres reflechies], St. Petersburg, Ivan Limbakh Publishing House, 2006, pp. 129–152.
- Cohen J. J. Stone: An Ecology of the Inhuman, Minneapolis, MN, University of Minnesota Press, 2015.
- Podoroga V. A. Antropogrammy. Opyt samokritiki. S prilozheniem diskussii [Anthropograms: A Self-Critical Approach. With an Addition of Discussion], St. Petersburg, EUPRESS, 2017.
- Podoroga V. A. Metafizika landshafta. Kommunikativnye strategii v filosofskoi kul’ture XIX–XX vekov [Metaphysics of the Landscape: Communicative Strategies in the Philosophical Culture of the Nineteenth and Twentieth Centuries], Moscow, Canon+, 2021.
- Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique, Paris, Éditions Gallimard, 1985, t. II, L’intelligibilité de l’histoire.
- Schelling F. W. J. Lektsii o metode universitetskogo obrazovaniia [Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums], St. Petersburg, Mir, 2009.
- Timofeeva O. V. Chernaia materiia [Black Matter]. Opyty nechelovecheskogo gostepriimstva: antologiia [Experiences of Non-Human Hospitality: An Anthology] (eds M. Kramar, K. Sarkisov), Moscow, V–A–C Press, 2018, pp. 166–179.
- Viveiros de Castro E. Kannibal’skie metafiziki. Rubezhi poststrukturnoi antropologii [Cannibal Metaphysics: For a Post-Structural Anthropology], Moscow, Ad Marginem Press, 2017.
- Zenkin S. N. Iavlenie sakral’noe (numen) [The Sacred Phenomenon (numen)]. Sotsiologicheskoe obozrenie [Sociological Review], 2011, vol. 10, no. 1–2, pp. 197–222.
Supplementary files