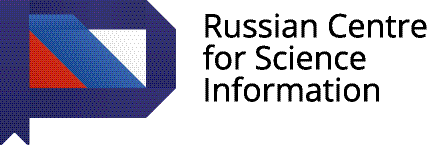Marquis de Sade — the inventor of the interface
- Authors: Ocheretyany K.1,2
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics (HSE University)
- St. Petersburg State University (SPbU)
- Issue: Vol 34, No 6 (2024)
- Pages: 47-66
- Section: THE RIGHT TO UTOPIA: THE INTERFACES OF COSINESS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0869-5377/article/view/290124
- DOI: https://doi.org/10.17323/0869-5377-2024-6-47-64
- ID: 290124
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyzes the user interface as a condition of presence in digital reality. It is shown that the interface in the unity of linguistic practices, desire apparatuses and social institutions is closer to forms of life than to formal systems. Therefore, based on a rational and technological approach to the interface, its capabilities, functions and limitations, it is necessary to recognize and describe the myth that determines the way of existence in the interface. It is a common belief that a myth suggested by a digital interface was inspired by Jean-Jacques Rousseau and could be described in terms of the social establishment, the perfect language, the optimum of government.
It is shown that we only imagine to be living in a Rousseau’s mythopoeic scenario while supporting and affirming with our actions and behavior a completely different one — quite far in its intentions from the first one (and just at the moment when we think that we are pursuing that first one). Thus, a number of epistemic distortions and contradictions make it clear that the forms of logic and pragmatics, which the interface prescribes to forms of digital behavior and interaction, are closer to the hallucinatory-autoerotic narrative machines created by Marquis de Sade than to Rousseau’s utopian myth. We always find Sade where we most aspire to Rousseau. To give Sade the voice as the inventor of the interface means to show that the antinomianism found at the heart of digital interaction is the product of the struggle between two views on utopia: formally-roussoistic one and another one — actor-sadistic, one of which is invariably hypostatized and another one is usually ignored.
Keywords
Full Text
Интерфейс как форма жизни
В современном мире мы встречаемся с понятием «интерфейс» в самых разных сферах жизни. Говорят о социальных интерфейсах, когнитивных интерфейсах, эпистемических интерфейсах и, конечно, о технологических интерфейсах — в частности, о человеко-машинном интерфейсе, куда относят в том числе пользовательский интерфейс и главным образом его графическую форму (graphical user interface, GUI). Последняя — в силу растущей роли и значения ее в повседневной коммуникации и применения в широком спектре межчеловеческого взаимодействия — стала основанием для мышления об интерфейсе в целом, а также источником многочисленных метафор, участвующих в деле продумывания опыта столкновения с миром.
Именно оптические и гаптические возможности современных пользовательских интерфейсов чаще всего подразумеваются, когда сегодня говорят об интерфейсе в широком смысле. И несмотря на многочисленные закрепившиеся определения интерфейса в технической сфере — интерфейс как инженерные и дизайнерские решения в сфере человеко-машинного взаимодействия, интерфейс как совокупность программных и аппаратных средств, интерфейс как лингвистико-перформативная форма (командная строка), интерфейс как конструкция, служащая описанию совокупных возможностей в коде программы, нейрокомпьютерный интерфейс как форма взаимодействия с электрической активностью мозга, интерфейс как телесно-ориентированная форма коммуникации (например, интерфейсы безмолвного доступа, тактильные и жестовые интерфейсы), интерфейс как функциональность программного компонента, — наиболее часто при обращении к интерфейсу как к понятию акцентируют методы организации, совокупность средств и правил, использующихся при построении и взаимодействии систем, которые в современном воображении с трудом отделимы от соответствующих языковых, телесных и оптических паттернов.
Иными словами, интерфейс становится ключевой формой опыта. В интерфейсе явлена нам вся логика технического мира, его эволюции и судьбы, однако именно поэтому интерфейс для нас не только условие возможностей, но и их предел — цена возможностей. Мир, схваченный и выраженный в интерфейсе, — на первый взгляд мир легко обозримый, а потому прекрасный, он отражает ценности открытости, коммуникации, доступности, но чтобы выявить цену этих возможностей, стоит обратиться к тому, чему они противостоят или что исключают, — к пределу. Интерфейс — предел рационализации: он позволяет нам в широком смысле взаимодействовать с людьми и не-людьми, программами, алгоритмами, ботами. Он представляет собой язык, имеющий не только дескриптивную, но и перформативную силу. Ars magnum, магический язык, язык Номотета, адамический язык, связывающий сущность и существование, знание и бытие, — будто бы явлен интерфейсом. И не как продукт алхимии и мистического богословия, но как позитивный результат гибридизации инженерных и дизайнерских решений, эстетических, социологических и психологических находок.
Пределом рационализации обычно полагают формализацию или построение формальной системы: достижение эпистемических добродетелей ясности, отчетливости, непротиворечивости, полноты, независимости аксиом, разрешимости, объективности. Но что, если пойти дальше: пойти до логического предела, то есть до перехода рационализации в противоположность? Не выйдем ли мы тогда к мифу? Но будет ли это настоящим парадоксом или даже скандалом? Ведь даже самые надежные и проработанные теории в силу своей сложности доходят до большинства людей в виде мифов, а силу и влияние получают скорее через культуру образов и рассказов — апеллируя средствами медиа не столько к мышлению, сколько к типам поведения и взаимодействия. И речь идет не только о современности. Уже логические построения Платона подводили рассуждение к определенной границе, дальше которой следовало созерцание, миф. Тот же ход повторяет и Рене Декарт для современного читателя, обрывающего рассуждение молчанием, но, по всей вероятности, для самого себя, обращающегося к созерцанию как к экзистенциальному откровению, вводя для достижения эпистемических задач аргумент от экзистенции. Наиболее яркие сюжеты феноменологии у Георга Вильгельма Фридриха Гегеля также насквозь мифологичны, если не по задумке, то по воздействию, и тем более влиятельны, чем меньше укоренены только в нарративном измерении (несчастное сознание, диалектика раба и господина, террор, конец истории). Впрочем, не то же ли самое имел в виду и Людвиг Витгенштейн, рассуждая об отбрасываемой лестнице аргументов и напрямую связывая языковые игры с формами жизни (ведь и миф в наиболее существенном своем проявлении — форма жизни, а не форма наррации)?
Возможно, рационализация, имеющая своим пределом миф, — не парадокс, а ключ к разрешению парадоксов: всякая рациональность должна прежде всего знать свой миф, даже возлюбить свой миф как свою интенцию и свою границу. В этом смысле кризис рациональности не в ее мифологизации, а в невозможности обратить ее к собственному мифу, примирить с ним, с фактом его существования, тем более перейти к мифу новому — обновляющему и созидающему. Например, современный кризис технической рациональности прогнозирует сингулярность, резкий переход в новую реальность и конец монополии на алгоритмизацию, длительное время принадлежащую человеку: гибриды новых технологий будут коммуницировать и взаимодействовать настолько совершенным образом, что производство — промышленное, художественное, интеллектуальное — перестанет быть той средой, в которой человек обнаруживал основания для идентификации. Машины и программы будут, с одной стороны, создавать кризис традиционных эстетических инстанций (гений, вкус), а с другой стороны — выдавать правильные решения, которые невозможно будет понять, а следовательно, принять. И фактически человеку остается то, с чем он не умеет справляться и в чем он видит скорее наказание: голая жизнь, высочайшая бедность, оставшееся время. Рассуждая, впрочем, о новой промышленной революции, кризисе алгоритмической модели, конце монополии на алгоритмизацию, мы ослеплены идеей рационализации и не видим стоящего за ней мифа — скорее не кризиса эпистемического позиционирования, сколько кризиса онтологической открытости: открыты ли мы еще новому мифу для альтернативной технической рациональности? и какие мифы управляли прежней?
Можно перечислить наиболее повторяемые — ставшие архетипическими и для литературы, и для философии. Миф о Прометее, рассказывающий о попытке дать место человеку в космосе путем разрушения космического баланса стихий, — дает нам вектор видения любого движения в сторону культуры только как катастрофы природы. Миф об Одиссее, мастере обходных путей, побеждающем своих противников хитростью, но потому лишенном прямого пути на Итаку, — дает нам основание полагать, что любая прямая встреча с природой, даже со своей собственной, — встреча с монстром, а потому ее можно и нужно обманывать и наказывать. Миф об Эдипе — где воображаемое и монструозное является той утопией, в жертву которой приносится реальное, живое и телесное. Признав за этими мифами не только нарративную, но и перформативную силу, нетрудно заметить, что истоком всех вопросов, вызванных новой техникой, является не столько наше мышление, сколько наше поведение по отношению к ней — поведенческие стандарты, не вышедшие из сферы указанных мифов. Возможно также заметить и перевес античного истока над иудеохристианским: трагическое поведение античных героев и титанов превалирует над провокационным и критическим, учитывающим язык жеста, игры, танца поведением иудейских царей и пророков — настолько, что кажется, будто фатализм европейской культуры затмевает ее же собственный эсхатологизм.
Вслед за Вальтером Беньямином и Эмманюэлем Левинасом правомерно предположить, что рационализм до сих пор не увидел своего мессианского значения как иного отношения мысли и материи в рамках технологической медиации именно потому, что видит возможность существования человека только там, где продолжается язык, труд и власть, а не рождаются нонсенс, игра и событие. Кризис здесь не столько в забвении иудеохристианский эсхатологизма в пользу античного фатализма — сколько в хронической слепоте к мифу как форме жизни, поведению его концептуальных персонажей и предписываемых им добродетелей. Более того, мы можем видеть один миф на месте другого, осуществлять бессознательную, но принципиальную подмену, которая рождает неразрешимые проблемы именно потому, что они принципиально неразрешимы в рамках того мифа, с которым, как мы считаем, мы имеем дело, как раз в тот момент, когда мы всецело вовлечены в другой миф. Кристин Йоргенсен рассматривает интерфейс как систему метафор для навигации и интерактивности1. Если предположить, что система метафор в организуемых ею языковых играх и есть форма жизни, то необходимо понять, не какие форматы взаимодействия, а какие формы жизни предлагают интерфейсы.
Следовательно, для понимания границ и возможностей интерфейса, а также его парадоксов, которые существенным образом влияют на доступный опыт мира, следует понять стоящий за ним миф, миф исключаемый, и то, каким образом миф исключающий подражает мифу исключаемому, притворяется им и паразитирует на нем.
Утопия единения сердец и политика бихевиориального дизайна
В интерфейсе, определяют ли его позитивно, негативно или аксиологически нейтрально, видят главным образом общественное установление — миф о связи речи, формы управления, общественного благополучия; прикасаясь к интерфейсу, мы наивно полагаем себя обитателями мира Жан-Жака Руссо. Однако что, если вместо утопии Руссо мы в действительности обживаем другую? Более того, если мы обживаем иной нарратив, разумно предположить следующую связь: чем большие усилия направлены на подержание псевдоруссоисткого мифа об интерфейсе, тем большую реальность получает утопия иного порядка, поскольку реальность поддерживается здесь не на уровне значения, а на уровне присутствия. Так, персонажи пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» сталкиваются с рядом неразрешимых парадоксов именно потому, что повествование, в котором они сталкиваются с событиями, являются инвертированными по отношению к другому нарративу, они — не субъекты, а потому вынуждены скорее испытывать на себе последствия, чем быть за них ответственными: иными словами, парадоксальность их положения в том, что причинно-следственные связи обнаружимы только в рамках другой истории. Для того чтобы не повторить судьбу Розенкранца и Гильденстерна, нам следует определить, что мы понимаем под интерфейсом и как мы присутствуем в нем, то есть обнаружить ряд парадоксов, в которые нас ввергает приписываемое ему значение в тот момент, когда мы действуем посредством него.
Интерфейс как общественное установление видится из утопии Руссо концом скитаний, подведением итогов неравновесных отношений природы и культуры:
Отказ от праязыка дикого человека делает его глухим к голосу природы, переход от пылких южных языков к скудной речи «северных варваров» ставит их в зависимость от материальных потребностей, а подчинение разговорного языка письменности извращает характер общественной связи (lien social) между гражданами свободного полиса2.
Интерфейс — одновременно постписьменное, постисторическое и постматериальное установление. Во-первых, он порывает с письменностью как репрезентацией устного слова и эмансипирует последнее с его перформативностью, аффективностью и суггестивностью из-под власти значения. Мы не пишем и не читаем в интерфейсах, правильнее будет сказать, что посредством них мы управляем, координируем, адаптируемся. Во-вторых, мы больше не мыслим себя в истории: история как поиск равновесного отношения потребностей, управления и знака утратила реальность. В интерфейсах мы обрели природу, поскольку любой вопрос о контроле и адаптации — скорее вопрос об осознании границ и условий возможностей. В этом смысле природа не предшествует истории, а следует за ней, существует не как натуралистический базис, а как криптотеологическое откровение и спасение. В-третьих, материальные отношения заменяются новыми: мы вступаем в мир не-вещей, программ, кода, энергетического обмена и трансформаций. Соответственно, этот мир диктует новые этические и эпистемические добродетели: главное — преобразование деятельности, превращение ее в не-труд, значение непроизводительности, открытости, созерцательности, игры. В этих установках определяют и поведение, обусловленное интерфейсом: открытость обсуждения, учет альтернатив, внимание к другому, признание его прав и особенностей, а главное, преодоление кризисов во взаимодействии и поиск оптимума существования — не важно, идет ли речь о взаимодействии с людьми или не-людьми, ботами, программами, аппаратами, иными формами внегуманистической агентности.
Интерфейс как общественное установление исходит из идеологии понимания — интеллектуального и сентиментального «единения сердец», — однако уже первые модели и метафоры интерфейса дают иной концептуальный ряд, упирающийся скорее в идеологию служения и принятия, рассматривающую интерфейс как дисциплинарную практику, цена возможностей в которой измеряется скорее в терминах экономики жертвы и дара, а также поэтики мимезиса и катарсиса. Чем мы готовы пожертвовать? Что мы претендуем получить? Что нас соблазняет? Что мы хотим пережить? — эти вопросы звучат в отношении интерфейса не менее настоятельно, чем классические: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? На первый взгляд, проблемы сентиментализма и рационализма снимаются дискурсом бихевиоризма. И действительно, видение интерфейса со своих технологических истоков питается психологическим и логическим бихевиоризмом, а именно: представлениями о том, что любое чувство может быть сведено к языку его описания, а любое мышление — рассмотрено как форма поведения.
Постараемся реконструировать ультракороткую историю бихевиориального дизайна интерфейса. Например, уже 1945 году в журнале Atlantic Monthly публикуется статья «Как мы можем мыслить?» Ее автор, Вэнивар Буш, — ученый, работающий в системе обороны США. Основная идея — воображаемая машина Memex, представляющая собой стол с прозрачными экранами. Экраны позволяют работать с документами, книгами, периодическими изданиями, изображениями, которые конвертируются в микрофильмы по определенным правилам (алгоритмам) — что облегчает доступ к информации, скорость обработки, эффективность взаимодействия с данными, упрощает их обзор и анализ3. Устройство мыслилось как аналоговое и не было создано, но содержало в себе ключевые метафоры, определившие развитие компьютерных технологий: рабочий стол, файлы и папки, иконки приложений, функциональные изображения. Модель Буша предлагала симбиоз человека и машины в новой реальности, и уже позже — после построения первого цифрового компьютера ENIAC в 1946 году (Университет штата Пенсильвания), после создания в 1951 году первого компьютера UNIVAC, пригодного к работе с текстовыми данными, после возникновения кибернетики, — в 1961 году благодаря Теодору Нельсону (усилившему и развившему ключевые идеи Буша) родилась идея docuverse — совокупности взаимосвязанных материалов. Теодор Нельсон предполагал, что тексты, образы и звуки можно связать между собой электронным образом, а осознавать и чувствовать их возможно коллективно в коммуникационной сети без ярко выраженного центра. В 1964 году корпорация RAND[4] представила рабочую модель такой коммуникационной сети, а к 1969 году
...четырьмя «суперкомпьютерами» того времени (Университет штата Калифорния в Лос-Анджелесе, Университет штата Калифорния в Санта-Барбаре, Стэнфордский научно-исследовательский институт и Институт штата Юта) был создан прообраз интернета, называющийся ARPANET по имени своего спонсора из Пентагона5.
Примерно в то же время, в конце 1968 года, Дуглас Энгельбарт, работавший в Стэнфордском институте, усовершенствовал модель «мыши» — манипулятора, который был придуман им еще в 1963 году, заменившего датчик перемещения из двух перпендикулярных колес шаровым приводом для взаимодействия с окнами и поэлементно адресуемыми изображениями. Графический пользовательский интерфейс и рабочий стол с окнами, послойно расположенными на экране, стал возможен благодаря тому, что была установлена связь между пикселем на экране, электрическим импульсом, элементом компьютерной памяти, движением и кликом мыши, осуществляемым пользователем вручную, тактильно. В 1970-е годы идеи Энгельбарта были доработаны Аланом Кеем и группой ученых из Xerox PARC в Пало-Альто, а затем в качестве метафоры рабочего стола стали прочно ассоциироваться с компанией Apple и «компьютером для всех» Macintosh — парадигмальным ПК.
Бихевиориальный дизайн интерфейсов — создание условий возможности, подталкивание к осуществлению действия, вознаграждение за выбранную модель поведения и повторение вплоть до истощения, а не до результата — это свидетельство глубинного сбоя в том, что Джорджо Агамбен называет антропологической машиной как совокупностью концептуальных схем, сил и аппаратов управления, которая была способом для человека приостановить собственную животность: создать чрезвычайное положение, свободную и пустую зону. Антропологическая машина служила мотором историзации человека, но вместо свободы чрезвычайное положение создало отделенную от себя самой и исключенную жизнь — «голую жизнь»6.
Единственным отношением становится предельно интенсивное использование животного/тела как ресурса, оборачивающегося принуждением и насилием. Именно эти моменты и подлежат деконструкции, поскольку бихевиориальный дизайн интерфейса, биополитически и биосемиотически приостанавливающий в человеке животность и от имени разума (точнее, организации такого поведения и общения, через которые может быть явлен Разум) вводящий чрезвычайное положение и противостоящий голой жизни, — это уже не утопия Руссо, в которой символический интеракционизм и формы управления примирили, наконец, природу и воображение, но утопия маркиза де Сада, где символический интеракционизм позволяет пересобрать в машинах письма тело для того, чтобы от имени новой семиотической природы бросить вызов любому воображению.
Театр де Сада: катастрофы, монстры, праздник
Интерфейс-технологии подготавливают человека к существованию в новом цифровом мире, скрыто программируя его психофизиологические возможности, поэтому понимание интерфейса, его принципов и правил, его понятийно-выразительных и интерактивно-иммерсивных возможностей является герменевтической задачей, решение которой необходимо для ориентации в лабиринтах медиареальности. Следует показать, как интерфейс получает действительность в качестве дисциплинарной практики и входит в тело, сознание, язык, актуализируя и стимулируя имеющиеся в социальном воображении запросы — архаичные по своему истоку, но могущие быть реализованными только на новейшем техническом потенциале. Если мы открыты в своих техниках, практиках, навыках той дисциплине, которую предоставляет интерфейс, и той трансформации опыта, которую он производит, то нужно рассмотреть три уровня интерфейса: 1) интерфейс как форма представления; 2) интерфейс как форма воли; 3) интерфейс как регулятивная форма. Именно в этих трех формах (или моментах) интерфейса сосредоточено влияние де Сада, или символического садистcкого интерфейс-нарратива в противовес воображаемой руссоистской интерфейс-утопии. Раскрытие их призвано показать, какие возможности и почему мы претендуем обрести, что мы ищем, подчиняясь интерфейсу, и от чего надеемся в нем спастись.
Во-первых, именно де Сад ответственен за новое понимание репрезентации: репрезентация дает не обоснование, а головокружение. Метафизика XVII века с открытыми ею подходами к природе как к вещи протяженной, оторванной от вещи мыслящей, как к агрегату или даже как к автомату дала утопическим проектам XVIII века надежду на введение телесной природы в координаты разума — где политика вместо теологического обращения ко времени, эсхатологическому или мессианскому, а также связанному с ним концептам воли и могущества, могла бы оперировать языком протяженности, организации пространств, созданием обстоятельств. Начиная с Иммануила Канта вопрос о действительности сменяется вопросом о возможности и ее условиях — а сама метафизика попадает под критическое подозрение. Сад идет дальше, рассуждая об условиях метафизической невозможности создании невозможных обстоятельств. Изоляция, инструкция, организация — понятия, которые пришли в интерфейс будто из словаря де Сада. Так же как и интерфейс, миры де Сада зам-кнуты на себя, оторваны от истории, внешних событий, какой бы то ни было генеалогии и теологии, они закрыты для чуда, божественного вторжения — они элиминируют все моральное и метафизическое как невозможные обстоятельства7.
Интерфейс — тотален, определяя реальность возможностями, он не продолжает нашу телесность, он репрезентирует всю телесность, он не расширяет нашу чувственность, а представляет всю чувственность, он не дает средства коммуникации, а является всей коммуникацией. В этом смысле интерфейс наследует изолированным и автономным мирам де Сада — мирам многочисленных монастырей, госпиталей, замков, — для того чтобы дать место телу в условиях фантазматического производства — не имея ничего трансцендентного, интерфейс гипостазирует имманентное, все превращается в тела и языки: язык доводит критическую функцию до состояния галлюцинаторного аутоэротизма; а тело, лишенное моральных и метафизических координат, само предстает в гипостазированном и фантазматическом виде, не репрезентируя ничего кроме себя, телесность в интерфейсе обречена на избыточную саморепрезентацию, балансирующую между нехваткой и невозможностью, которую языковая коммуникация не сглаживает, а усиливает. Иными словами, все присутствует в интерфейсе, но поскольку он ставит запрет на метафизическое и моральное, сводя человека к вещи, или даже не-вещи, изобретая новые знаки только для того, чтобы расчленить природу от имени воображения, то все присутствующее в нем дается через призму невозможных обстоятельств — и потому языки интерфейса в своей претензии на реальность требуют от тела только невозможного: само тело становится чудом, чем-то, что выведено за пределы причинно-следственных связей, а любое материальное взаимодействие превращается скорее в форму затронутости, чем касания.
Джей Болтер и Ричард Груcин, оперируя концептами иммедиации и гипермедиации8, пишут об интерфейсе как особом перформативном медиаторе присутствия, или посреднике, то навязывающем, то скрывающем себя и тем самым задающем ритм и тон нашему расположению, открытости, ожиданию, указывают на аспекты работы интерфейса с допредикативным настроением. Однако само настроение может быть понято не только через корреляцию, но и через растождествление — проблематическое отношение мысли и материи, асимтотических колебаний в попытке их примирения, в отличие от эпистемологий как теорий опыта, — политического, социального, повседневного, видящих своей целью избавление от этого колебания; де Сад акцентирует значение эпистемологий для существования и поддержания этого колебания. Для персонажей де Сада любое взаимодействие — эксцесс или экстаз, любое высказывание — инструкция или манифест; причем манифест и инструкция призваны не предупредить эксцесс и экстаз, а, напротив, усилить их, растворить в них, использовать рациональные элементы не для выстраивания баланса чувств и оптимума переживания, но для того чтобы окончательно вырвать какую бы то ни было почву из под ног, не для обоснования, а для ниспровержения, для создания семиотическими средствами эффекта головокружения.
Подобным образом и в интерфейсе: действие сводится к сценарию или инструкции, которое именно предполагаемой собой последовательностью дает скорее не логику, но ритм, потоковое переживание, в которое включаются для того, чтобы отключится, — таким образом, тело либертена, созданное машиной садовского письма, лежит в основании цифрового гипосубъекта, условий невозможности как игры идентичностей и репрезентаций, ответственных не за опыт взаимодействия с цифрой, а за опыт головокружения в цифре.
Во-вторых, де Сад переизобретает концепт воления, который на удивление созвучен тому, что имплицитно подразумевается логикой интерфейса: довольно простой тезис, согласно которому реальна только сила, в его описаниях подчиняется многочисленным лишенным диалектики интерференциям; одновременно реальность (институциональная, конвенциональная, субституциональная) дается как бессилие, а высшая сила (событие, действие, творение) как ирреальность. Александр Галлоуэй, опираясь на работы Маршалла Маклюэна 1960-х годов и Фридриха Киттлера 1980-х годов и несколько модернизируя их тезисы о медиа для XXI века, соглашается с первым в том, что интерфейс как медиа дает значение сообщению, а со вторым — в том, что интерфейс как медиа определяет нашу ситуацию, — и приходит к пониманию интерфейса скорее как брикколажа, чем инженерной задумки, не как определенной сущности, но как свободной игры эффектов, воплощающих сообщение через взаимодействие9 (и сопутствующие ему искажения) в коллективных телах в антропологических и социальных практиках. Венди Чун в близком смысле говорит о software в целом и об интерфейсе в частности как о функциональном аналоге идеологии и в этом приближается к известному тезису10 Ролана Барта о языке-фашисте:
...язык как перформация всякой языковой деятельности не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто11.
Нетрудно увидеть, что взаимодействие с элементами интерфейса фактически замещает взаимодействие посредством элементов интерфейса, следовательно, вопрос о воле — соотношения силы и реальности — интерпретируется либо как вопрос подчинения, либо как задача революции. Так происходит, поскольку обычно воление рассматривают в духе конца естественного состояния или борьбы всех против всех — общественное установление или категорический императив являются преимущественной и даже образцовой формой воления именно потому, что они знаменуют собой конец животного в человеке и начало морального, — в том числе начало стыда и смеха как метафизических эмоций, обнаруживающих отсутствие власти природы над волей.
Но в мифе де Сада, или в той форме жизни, которые предполагают его протоинтерфейсы — системе наррации и машине письма, — нет места ни метафизике, ни морали, а следовательно, стыд и смех становятся не формой отношения к природе, а формой откровения самой природы, они онтологизируются в качестве телесного аналога душевного смущения: сгущения, смещения, искривления, то есть в виде катастроф и монстров. Можно предположить, что запрет на трансценденцию ограничивает мир исключительно материальными явлениями, которые подчиняются предсказуемости и расчету, но в действительности число уже есть трансценденция, поскольку осуществляет переход в противоположное — переход от беспредельного к пределу. Поскольку мера есть ключ к сущности, то само ее понятие заражено метафизикой, следовательно, когда персонажи де Сада озабочены счетом, количество для них парадоксальным образом не представляет меру, а противопоставлено ей, открывает доступ к несоизмеримости — счет для них не процедура мышления, а своеобразная языковая мантра как движение по ту сторону сущности, материя же, лишенная трансценденции, больше ни с чем не соотносится, представляет собой всегда иное — а потому лишена истории и представляет собой театр катастроф и монстров, которые осмеивают любое проявление силы, любую революцию, принижают любую волю в несоизмеримом масштабе природы.
Реальность бессильна, поскольку ни одна конвенция или институция не сможет противостоять природным катастрофам, следовательно, высшая сила хоть и идет от природы, но ирреальна, всегда представляет собой нечто монструозное — она не связана с роком, судьбой или провидением, а только с телесной ирреальностью с монструозной силой, здоровьем персонажей де Сада. В интерфейсах, обеспечивающих опыт взаимодействия с цифрой, мы наблюдаем развитие этой логики: уже оптическая археология интерфейсов показывает, что они, наследуя инструментам расширения человеческой чувственности, замещали ее, позволяя видеть дальше и больше, снимали вопрос о мере — соответственно, доходит до абсурда, когда в соответствии с буквой де Сада сами здоровье, сила даются только как нечто монструозное, — пусть природа и раскрывается только как серия катастроф, но происходит это лишь потому, что субъект в своей индивидуальности оказывается ей глубоко чужд, индивид — эхо метафизического понятия меры, масштаба, а потому ему требуется стать монстром, существом по ту сторону нормы: посредством интерфейсов мы можем сделать большее, а потому мы обязаны сделать большее, — такой садистский нарратив выдвигают интерфейсы.
Если Гегель открыл мир повседневности, заменив вопрос о предельной реальности на рассмотрение сети отношений и взаимодействий, то де Сад открывает мир интерфейсов как форм пользовательского опыта: чем более ирреален опыт, тем на большую силу он претендует. Максима взаимодействия в таком мире — быть субъектом-вне-себя для того, чтобы можно было пережить мир, вывернутый-на-изнанку — позволяет приблизиться к гротескным, карнавальным и парадоксальным формам взаимодействия («негодный субъект», по выражению Марселя Энаффа), с которыми все чаще ассоциируются формы цифрового поведения и общения.
В-третьих, де Сад переопределяет ряд регулятивных принципов для поведения человека — вводя природу в качестве ультимативной инстанции, от лица которой выносятся все возможные суждения. Космос настолько совершенное существо, что питается собственным тлением — так учит нас Платон. Однако человек настолько отчужден, или отдален, от космоса, что создает творения, которые космос не может переварить, — вопрос мусора встает все более остро, для этого не нужно заниматься вопросами этики и политики, даже отрываться от интерфейсов и выходить во двор, достаточно вслед за Вилемом Флюссером вспомнить, что ряд ключевых наук о человеке, такие как лингвистика, психоанализ, археология и т. д., — в то же самое время являются науками о мусоре, а многочисленные формы управления и организации — способом сосуществования с оставленными человеком следами, прообразом которых вполне может рассматриваться мусор.
Персонажи де Сада на удивление экологичны: на них не остается следа и они не оставляют следы; их можно убить, но нельзя изменить; можно заставить их замолчать, но нельзя переубедить; все, что они испытывают, происходит будто не с ними, но около них, вокруг них, мимо них, — такие модели поведения мы наблюдаем в блокбастерах и компьютерных играх, когда разрушения и травмы, собственно, ничего не меняют в некой космической траектории — в конечном счете все возвращается в природу. Странным образом, стремление к коллективным телам — их соединению, связи, взаимной пригнанности — совпадает с желанием не оставлять следов. Однако такая тенденция кажется противоречивой только на первый взгляд, ведь любой след является идентификацией и индивидуализацией, которая совпадает с метафизическим понятием об индивиде, с тем, кто бессилен и лишен реальности, соответственно, след — не указание на реальность, а уход от нее, напротив, коллективная телесность и ее гипертрофия — все более сложные мегамашины — не оставляют следов, снимают проблему индивидуального.
С одной стороны, природой оказывается то, что уничтожает или поглощает любые возможные следы, то, что делает смехотворными любые усилия человека, не только его страхи и надежды, но само его существование; с другой стороны, создание коллективной мегамашины, не оставляющей следов, по сути является спасением от всех возможных страхов. Нам кажется, что задача интерфейсов состоит в оставлении следа, но если прочесть их логику из мифа де Сада, то их функциональность состоит в том, чтобы стереть следы, обратить их в ничто и тем самым — освободить от связанных с ними страхов и надежд: дело не в том, что де Сад, как ряд его современников, философствующих о природе в рамках социальных, экономических и политических программ, рассматривает природу как бесконечный ресурс, питающий незнающие масштабов замыслы человека, дело в том, что все созданное человеком он рассматривает из перспективы уже вышедшего из циклов производства, то есть как мусор. Ведь мусор напрямую связывается с индивидуальностью, коллективные тела уже имеют дело не с мусором — а с парадоксальными объектами, природа не знает уже и парадоксальных объектов, скорее их рост, дает разнообразие проявление природы, а следовательно, обуславливает ее могущество: персонажи де Сада не оставляют следов в той мере, в какой спасаются от индивидуальности, они не знают страхов, надежд, смерти, также как не знает их природа, но то, что они ищут у природы, а именно пластичности, мы находим в интерфейсах.
Пластичность противостоит ригидности, всему, что связанно с неизменностью, памятью, следом, всем, что может быть возвращено к нам или быть использовано против нас, — любой договор в этом смысле дает возможности через апелляцию к ответственности, а следовательно, к памяти. Так же как память оказывается эпистемическим аналогом онтологической смерти, идентичность становится приравнена к хронической уязвимости. В этой перспективе машины коллективной телесности, изобретаемые де Садом, противостоят общественному договору — коллективная телесность обеспечивает бессмертие и силу через забвение и уничтожение следов, в то время как общественный договор лишь дает видимость могущества, а на самом деле лишь умножает следы, осуществляет перепроизводство образов и знаков, тем самым лишь увеличивая уязвимость и слабость, производя реальность индивида как воплощенное бессилие, делая единственным правом — право на отчаяние. Если из мифа Руссо интерфейс есть общественный договор и его функция — реализация утопии управления, то из мифа де Сада интерфейс есть машина коллективной телесности и дисфункциональность в праздничном уничтожении знаков — обращении их в ничто для того, чтобы ничего не имело над жизнью власти: дискурсу управления и труда здесь противостоит дискурс праздника.
Возможно, именно это последнее размышление дает основание для преодоления наших мифов об интерфейсе, которые существуют в диапазоне от Руссо до де Сада, — и дело даже не в том, что именно в тот момент, когда мы интерпретируем интерфейс как опыт взаимодействия с цифрой или даже как условие цифрового присутствия через логику символического интеракционизма, мы оказываемся в координатах мифа де Сада в тот самый момент, когда сами мы, как полагаем, приближаемся к утопии Руссо; дело в том, что мы до конца не избавили де Сада от мифа о садизме. Со времен Раймунда Луллия ученые были озабочены машиной, могущей
...с помощью различных средств сформировать мир фантазмов, призванных выразить методом приближения невещественную, сверхчувственную реальность, по отношению к которой наш мир является приблизительной и незавершенной копией12.
Марсилио Фичино полагал, что
…законы фантастического языка, которые передают непонятные отношения, могут быть представлены в театральной форме, чтобы их увидел и воспринял тот, у кого имеется в этом потребность13.
Джулио Камилло осуществил эту идею, представив игру Божественной Премудрости с Богом до начала времен на магическом языке взаимодействия фантасмагорических фигурок. Ибн аль-Хайсам, Роджер Бэкон, Джамбаттиста делла Порта, Декарт, Афанасий Кирхер позволили превратить игру кукол в игру света и тени. Гравюра из десятой книги Ars magma lucis et umbrae (1671) Кирхера показывает «мультимедийный театр для одновременной проекции образа, буквы и числа»14. Киттлер увидит в этих опытах трансформации фантазмов в игру света и тени дискурс cogito, в основе которого оптические метафоры — душа обнаруживается не в теле, а в аппаратах, вплоть до изобретения графического пользовательского интерфейса15. Но что если произведения де Сада следует рассматривать как театр фантазмов, близкий тому, о котором мыслили Фичино и Камилло, который был реализован Кирхером (в интерпретации Зигфрида Цилински) и португальскими иезуитами в Китае (в интерпретации Киттлера)?
Тогда действия, описываемые через игру и праздник, в гораздо большей степени отвечают логике сопротивления репрезентации. Аппараты распространения света и захвата внимания в ходе картезиаской революции — объединения оптики, геометрии и дискурса о субъекте — постепенно становились аппаратами власти и контроля, не просто позволяя переводить логику фантазма с магического языка на технический, но и давая систему метафор, в которых оказывалось возможным выстроить драму cogito — вплоть до распятия сознания в интерфейсе. И в таком случае именно де Сад увидел не воображаемую, а символическую изнанку этой драмы — создал теневую логику поведения для оптической машины, формы представления, воления, регулятивов по ту сторону монополии cogito — точнее, по ту сторону доступных cogito метафор, которые кажутся вызовом, провокацией и даже насилием, на деле являясь альтернативным ключом к интерфейсам: ведь катастрофы, чудовища, праздник — все это возвращает логику игры, осуществляя обратный картезианской революции процесс — переводя оптические технологии и дискурс cogito на язык фантазмов.
1 Jørgensen K. Gameworld Interfaces. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.
2 Блинов Е. Н. Речь как первое установление общества: Руссо и революционная политика языка // Логос. 2013. Т. 23. № 6. С. 67–97.
3 Bush V. As We May Think // From Memex to Hypertext: Vannevar Bush and the Mind’s Machine / J. Nyce, P. Kahn (eds). L.: Academic Press, 1991. P. 85–112.
4 Признана нежелательной организацией.
5 Пол К. Цифровое искусство. М.: Ad Marginem, 2017. С. 10.
6 Агамбен Дж. Открытое: Человек и животное. М.: РГГУ, 2012. С. 50.
7 Энафф М. Маркиз де Сад. Изобретение тела либертена. СПб.: Гуманитарная академия, 2005. С. 43–46.
8 Bolter J. D., Grusin R. Remediation. Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
9 Galloway A. R. The Interface Effect. Cambridge, UK: Polity. 2012.
10 Chun W. H. K. On Software, or the Persistence of Visual Knowledge // Grey Room. 2005. № 18. P. 26–51.
11 Барт Р. Актовая лекция, прочитанная при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс 7 января 1977 года // Избр. раб. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, Универс, 1994. С. 549.
12 Кулиану Й. П. Эрос и магия в эпоху Возрождения. 1484. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 114.
13 Там же. С. 116–117.
14 Цилински З. Археология медиа. М.: Ад Маргинем, 2019. С. 228.
15 Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. М.: Логос, Гнозис, 2009. С. 14.
About the authors
Konstantin Ocheretyany
National Research University Higher School of Economics (HSE University); St. Petersburg State University (SPbU)
Author for correspondence.
Email: kocheretyany@gmail.com
Russian Federation, St. Petersburg; St. Petersburg
References
- Agamben G. Otkrytoe: Chelovek i zhivotnoe [L’Aperto. L’uomo e l’animale], Moscow, RSUH, 2012.
- Barthes R. Aktovaia lektsiia, prochitannaia pri vstuplenii v dolzhnost’ zaveduiushchego kafedroi literaturnoi semiologii v Kolledzh de Frans 7 ianvaria 1977 goda [Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire au Collège de France prononcée le 7 janvier 1977]. Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika [Selected Works. Semiotics. Poetics], Moscow, Progress Publishers, Univers, 1994, pp. 545–569.
- Blinov E. N. Rech’ kak pervoe ustanovlenie obshchestva: Russo i revoliutsionnaia politika iazyka [Speech as the First Institution of Society: Rousseau and the Language Policy Of Revolution]. Logos (Russia), 2013, vol. 23, no. 6, pp. 67–97.
- Bolter J. D., Grusin R. Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MA, MIT Press, 2000.
- Bush V. As We May Think. From Memex to Hypertext: Vannevar Bush and the Mind’s Machine (eds. J. Nyce, P. Kahn), London, Academic Press, 1991, pp. 85–112.
- Chun W. H. K. On Software, or the Persistence of Visual Knowledge. Grey Room, 2005, no.18, pp. 26–51.
- Culianu I. P. Eros i magiia v epokhu Vozrozhdeniia. 1484 [Eros et magie a la Renaissance. 1484], St. Petersburg, Ivan Limbakh Publishing House, 2019.
- Galloway A. R. The Interface Effect, Cambridge, UK, Polity, 2012.
- Hénaff M. Markiz de Sad. Izobretenie tela libertena [Sade: l’invention du corps libertin], St. Petersburg, Humanitarian Academy, 2005.
- Jørgensen K. Gameworld Interfaces, Cambridge, MA, MIT Press, 2013.
- Kittler F. Opticheskie media. Berlinskie lektsii 1999 g. [Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999], Moscow, Logos, Gnosis, 2009.
- Paul C. Tsifrovoe iskusstvo [Digital Art], Moscow, Ad Marginem, 2017.
- Zielinski S. Arkheologiia media [Archäologie der Medien], Moscow, Ad Marginem, 2019.
Supplementary files