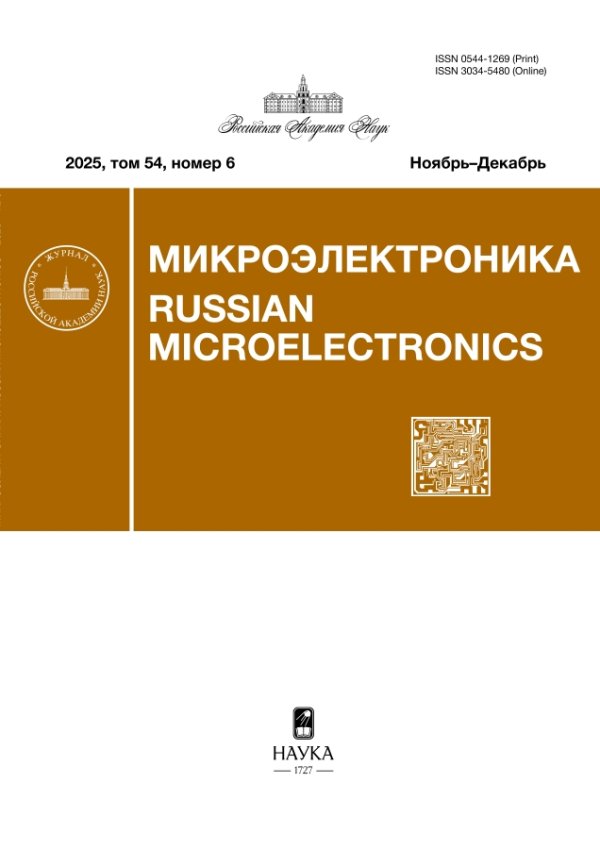Structural features and electrical properties of si(al) thermal migration channels for high-voltage photovoltaic converters
- Authors: Lomov A.A.1, Seredin B.M.2, Martyushov S.Y.3, Tatarintsev A.A.1, Popov V.P.2, Malibashev A.V.2
-
Affiliations:
- Valiev Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences
- Platov South Russian State Polytechnic Institute (NPI)
- Technological Institute for Superhard and Novel Carbon Materials
- Issue: Vol 53, No 2 (2024)
- Pages: 119-131
- Section: ДИАГНОСТИКА
- URL: https://bakhtiniada.ru/0544-1269/article/view/262672
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0544126924020018
- ID: 262672
Cite item
Full Text
Abstract
The results of a study of the structural features and electrical properties of Si(Al) through thermomigration p-channels in a silicon wafer are presented. Structural studies were performed using X-ray methods of projection topography, diffraction reflection curves and scanning electron microscopy. It is shown that the channel-matrix interface is coherent without the formation of mismatch dislocations. The possibility of using an array of thermomigration p-channels of 15 elements to form a monolithic photovoltaic solar module in a Si(111) silicon wafer based on p-channels with a width of 100 microns with walls in the plane is shown. The monolithic solar module has a conversion efficiency of 13.1%, an idle voltage of 8.5 V and a short-circuit current density of 33 mA/cm².
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных направлений в микро- и наноэлектронике является уменьшение размеров элементной базы вплоть до нескольких нанометров. В то же время для генерирования большей мощности современные фотопреобразователи, создаваемые на основе традиционных полупроводников солнечных элементов [1, 2] или с применением новых неорганических [3] и органических материалов [4], имеют сравнительно гигантские размеры. Проблема заключается в физических свойствах используемых материалов, ограничивающих работоспособность фотопреобразователя как для генерации тока, так и выходного напряжения. В основе любого фотоэлектрического элемента лежит плоская структура, состоящая из p–n-перехода, позволяющая получить выходное напряжение U ~ 1 В. В последние годы активно разрабатываются каскадные структуры, в которых формируются несколько переходов с разной шириной запрещенной зоны для поглощения всей видимой области солнечного спектра. Эффективность каскадных структур достигает 39.5% и позволяет получить на одном элементе напряжение U ~ 3 В [5]. Обычно для увеличения U фотоэлектрические элементы собирают в батареи, внедряя в их конструкцию дополнительные межэлементные и коммутационные цепи, которые приводят к увеличению размеров изделия. Альтернативный подход, снимающий проблему коммутационных цепей, основан на формировании в пластине монокристаллического кремния массива сквозных вертикальных легированных областей – р-каналов. Кроме диффузионного процесса, традиционно используемого для локального легирования полупроводниковых подложек, массивы р-каналов могут быть получены [6] на основе явления термомиграции (ThM) [7, 8], которое для полупроводниковых кристаллов изучалось в работах [7–12]. Процесс ThM примеси выгодно отличается от диффузии небольшой продолжительностью (менее 1 ч) [6–10], возможностью управления формой канала [12, 13], однородностью области легирования и наличием резких границ сквозных вертикальных p–n-переходов [8, 12]. В работах [6, 13, 14] предложено использовать вертикальные p–n-переходы для формирования монолитной кремниевой солнечной батареи (далее модуль MSCM – monolithic solar cells module. Не путать с CTM – cell-to-module [3]). Исследования электрических, фотовольтаических и структурных свойств p–n-переходов представлены в [6, 13, 14] соответственно. Применение метода ThM для получения различных полупроводниковых структур приведены в [6, 15].
Массивы сквозных линейных каналов p-типа шириной 10–100 мкм в матричных полупроводниковых пластинах являются основой для компактных высоковольтных монолитных горизонтальных солнечных модулей. Отметим, что введение легирующей примеси в канал вызывает в нем механические напряжения. Механические напряжения в области формируемого канала оказывают воздействие на процесс его кристаллизации во время формирования. В результате это может привести к искажению формы канала и расположения его в кристаллической пластине. Такие структурные искажения канала в латеральном (по сечению) и нормальном (по глубине) к поверхности пластины направлениях приведут к изменению свойств не только отдельного p–n-перехода, но и окажут влияние на соседствующие с ним. Известно [16], что локальные механические напряжения влияют на ширину запрещенной зоны и изменяют электрические свойства формируемого p–n-перехода и солнечной батареи [17]. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно при формировании массива узких периодических каналов с маленькой “скважностью”. Их величина и однородность будет зависеть как от ширины канала, так и от межканального расстояния. Это требует получения узких однородных каналов с незначительными механическими напряжениями. Для этого необходим контроль за влиянием полей деформации в канале и вблизи его границ на электрические свойства формируемых p–n-переходов.
Формирование кремниевого p-канала методом ThM алюминия проводится при квазистационарных условиях в вакуумной камере в диапазоне температур 1100–1450 K при градиенте температур 50–100 К/см. Подчеркнем, что скорость движения жидкой зоны [6, 8, 9], а значит, и скорость перекристаллизации областей кремния с примесными атомами алюминия зависят от температуры. Это должно привести по аналогии с трансформацией габитуса растущей були кремния [16] к зависимости рельефа границы матрица – канал от температуры. В процессе отжига полученной пластины с каналами в ней возможно образование структурных дефектов: в объеме p-канала, на границе p–n-перехода и вблизи выхода канала на поверхность пластины. Состав, строение и структурное совершенство термомиграционных областей в приповерхностных слоях пластины и сквозных каналов p-типа были ранее изучены [8, 14]. Однако детальных исследований структурных особенностей массивов p-каналов и их влияния на электрофизические и фотовольтаические свойства как единичного p–n-перехода, так и на высоковольтный монолитный модуль в литературе не представлено. В связи с этим возникает задача контроля структурного совершенства каналов и влияния искажений кристаллической решетки на электрофизические свойства p–n-переходов.
При термомиграции и последующих технологических процессах в p-канале, на межфазных границах и внутри матрицы пластины кремния происходят искажения кристаллической решетки и образование различных структурных дефектов (дислокации, преципитаты AlxOy и т. д.). Для исследования реальной структуры широкое применение получили дифракционные рентгеновские методы: проекционная топография, кривые дифракционного отражения (геометрия Брэгга) и кривые дифракционного прохождения (геометрия Лауэ). Особенность рентгеновских методов состоит в неразрушающем воздействии, высокой (∆d/d ~10–6) чувствительности к искажениям кристаллической решетки, возможности исследовать образцы толщиной в несколько сотен микрон и получать численные характеристики об объекте исследования. Ранее эти методики впервые были продемонстрированы при исследовании p-каналов [14, 18, 19]. Независимый контроль геометрических размеров каналов выполнялся методами металлографии и растровой электронной микроскопии [7, 12, 14, 15, 20].
Настоящая работа посвящена исследованию реальной структуры и электрофизических свойств термомиграционных кремниевых легированных алюминием p-каналов Si(Al) и фотовольтаических свойств монолитного солнечного модуля MSCM.
2. ЭКСПЕРИМЕНТ
Образцы
Сквозные вертикальные р-каналы Si(Al) были получены на монокристаллических пластинах Si(111) (P) n-типа (удельное сопротивление ρ = 45 Ом × см, диаметр – 76 мм, толщина – 400 мкм, плотность дислокаций – менее 102 см–2). Для легирования каналов использовался 99.99% алюминий. С этой целью перед началом процесса ThM на фронтальной поверхности кремниевой пластины методом магнетронного напыления были нанесены массивы алюминиевых ламелей. Ламели имели длину 20 мм, ширину и толщину 100 и 10 мкм соответственно и наносились на подложку с интервалом 3 мм. Ламели на поверхности пластины были ориентированы вдоль направления <211>. Процесс ThM проводился в вакууме при температуре 1450 К при градиенте температуры 90 K/см. Перед проведением рентгенодифракционных исследований для устранения остатков материала от процесса ThM фронтальная и тыльная поверхности пластины подвергались полировке и последующему химическому травлению до остаточной толщины h ~ 300 мкм. Из пластины с каналами Si(Al) был вырезан образец в виде прямоугольника с размерами 25 × 45 мм. Каналы были параллельны меньшей стороне образца. Фрагмент схемы образца с каналами представлен на рис. 1, а, а на рис. 1, б показаны точки приложения контактов для измерения электрических характеристик отдельного канала.
Рис. 1. Фрагмент схемы образца-пластины Si(111) с р-каналами Si(Al) (а) и места контактов для измерения электрических U—I—R-параметров p—n-перехода (б), где h — толщина пластины; L — расстояние между каналами; l — ширина канала; x = 0 — положение центра канала на поверхности пластины.
Отличие условий формирования массива р-каналов для MSСM модуля с 15 ячейками состояло в двухстадийном ThM процессе. Решалась задача стабилизации движения зоны расплава Al(Si) и формирования всего массива неразрывных однородных р-каналов [21, 22]. Начало процесса, являясь наиболее уязвимой стартовой точкой [23, 24] термомиграции, проходило при температуре 1350 K в течение 15 мин. Далее ThM процесс проводился при постоянной температуре 1450 K в течение 100 мин. После окончания ThM процесса пластина с массивом р-каналов проходила технологические стадии создания монолитного солнечного модуля (рис. 2).
Электронная микроскопия
Геометрия и состав р-каналов вблизи их выхода на поверхность пластины и на ее сколах были изучены методом растровой электронной микроскопии (SEM). Эксперименты выполнялись на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss Ultra 55, оборудованном энергодисперсионным спектрометром (EDS) рентгеновского излучения Oxford Instrument INCA X-act.
Рентгеновская топография
Структурное совершенство и геометрия сквозных вертикальных p-каналов были проверены с использованием метода проекционной топографии на камере XRT100 CCM (Rigaku) с серебряным анодом (λ = 0.056 нм). Параметр съемки µt = 0.36, где μ = 8 см–1 – линейный коэффициент фотоэлектрического поглощения в кремнии. Изображение на представленных топограммах образца и устройства MSСM соответствует кинематическому контрасту.
Кривые дифракционного прохождения
Структурное совершенство кристаллической решетки объемной части пластины с р-каналами было изучено методом двухкристальных кривых дифракционного прохождения (кривые качания в геометрии (Rocking Curve) Лауэ – LRC). Двухкристальные LRC были записаны от ортогональных поверхностей образца плоскостей на трехкристальном рентгеновском спектрометре ТРС (СКБ ИКАН имени А. В. Шубникова). Источником рентгеновского излучения служила рентгеновская трубка мощностью 1 кВт с молибденовым анодом. В качестве монохроматора использовался плоский кристалл Si(220). Ширина щелей коллиматора была равна 0.02 мм для плоскости дифракции (горизонтальной) и 2 мм для перпендикулярной плоскости (вертикальной).
Электрофизика
Измерения электрических характеристик I, U, R отдельных каналов проводились в соответствии со стандартными методами через контакты, отмеченные на рис. 1, б. Запись кривых P–U фототока как отдельных каналов, так и от монолитного 15-элементного модуля MSCM проводилась на имитаторе импульсного солнечного излучения. Условия измерения соответствовали атмосферной массе AM 1.5D, плотность мощности падающего излучения составляла 1000 Вт/м2, температура модуля – 300 K, сопротивление нагрузки R = 10 Ом. В ходе исследования были измерены ток и плотность тока короткого замыкания Isc и Jsc, напряжение холостого хода и Uoc и эффективность преобразования солнечной энергии Eff.
Рис. 2. Схема монолитного солнечного модуля из нескольких элементов: 1 — исходная кремниевая пластина; 2 — p-канал Si(Al) (ThM процесс); 3 — рабочий p—n-переход; 4 — разделительная канавка; 5 — шунт Ag; 6 — p-слой Si(B) (твердотельная глубокая диффузия).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Структурные исследования
На рис. 3 представлены фрагменты SEM-изображений поверхности (а), скола (б) и микрофотографии поверхности (в) одного и того же участка р-канала шириной 100–110 мкм. Хорошо видно (рис. 3, а), что вид рельефа поверхности канала Si(Al) практически не отличается от вида поверхности матрицы пластины (Si). По всей поверхности изображения наблюдаются слабоконтрастные фигуры травления в виде размытых треугольников, что характерно для поверхности Si(111). Наиболее характерными деталями на SEM-изображении поверхности канала являются его границы (1, 2), состоящие из скопления мелких неоднородных по интенсивности рассеяния участков и ямок травления в виде скоплений равносторонних треугольников (А, В) со сторонами {112}. Ямки травления появляются из-за локальных изменений скорости травления кристалла в местах с неоднородной деформацией. Деформация кристаллической решетки на границах (1, 2) канала вызвана ступенчатым изменением ее состава из-за внедрения в р-канал атомов алюминия. Наличие ямок травления (А) вдоль центра канала, вероятнее всего, связано с локальной деформацией в центре канала вблизи поверхности образца [19].
Рис. 3. Фрагменты SEM-изображений (а, б) и микрофотография (в) одного и того же участка поверхности Si(111) (а, в) и скола (б) термомиграционного p-канала Si(Al), ориентированного на поверхности пластины вдоль направления .
На изображении скола образца в области канала (рис. 3, б) видно, что р-канал является однородной вертикальной сквозной областью по толщине пластины. Отметим, что получение скола перпендикулярно сечению канала и поверхности пластины является трудной задачей из-за механических напряжений образца, вызванных предшествующим высокотемпературным процессом. Из-за этого на сколе образца наблюдается искривление, размытость и искажение размеров р-канала ближе к тыльной (нижней) поверхности. Четкие границы как поверхности канала, так и его торца видны на сколе вблизи верхней части пластины. Из-за геометрических искажений ширина канала выглядит уже, чем на рис. 3, а. Для сравнения на рис. 3, в приведено оптическое изображение этого же р-канала.
Согласно рис. 3, в ширина канала равна 107 мкм, что согласуется с шириной по данным SEM (см. рис. 3, а). Отметим, что границы канала на оптическом изображении видны из-за теневых эффектов, связанных с углублением поверхности канала из-за более высокой скорости травления относительно нелегированной части пластины.
К нижней части пластины канал уширяется и достигает 140–150 мкм. Увеличение ширины р-канала вблизи его выхода на тыльную поверхность пластины является естественным и закономерным эффектом, сопровождающим процесс термомиграции при постоянном градиенте температуры [8]. Одной из существенных проблем при формировании массивов р-каналов является минимизация этого эффекта или его учет.
Рис. 4. Фрагменты SEM-изображений тыльной поверхности Si(111) (а) и скола (б) двух соседних термомиграционных каналов Si(Al), ориентированных вдоль направления и .
Кроме этого, как отмечалось выше, возможно влияние соседних р-каналов друг на друга в процессе их формирования. На рис. 4 представлены изображения участков поверхности (а) и скола (б) соседних каналов Si(Al), сформированных в виде квадратов на поверхности пластины Si(111). Скол образца был получен вблизи места пересечения каналов.
На рис. 4, б видно, что по мере формирования каналов Ch-A и Ch-B переменного сечения их внешние границы (out) выглядят резкими с минимальными искажениями. В то же время на внутренних границах (in) обоих каналов наблюдаются изломы, приводящие к заметному искажению формы каналов и изменению их ширины. Видно, что эти искажения ThM-каналов наблюдаются при примерном равенстве ширины канала и межканального расстояния. По-видимому, здесь проявляется эффект влияния теплового поля соседних расплавов Al(Si) на процесс перекристаллизации на границе фаз (стенок каналов) из-за изменения температуры переохлаждения. Кроме того, сформированные участки канала создают напряжения в матрице пластины, что также должно влиять на формирующийся канал. Оценить размеры этих полей напряжения кристаллической решетки можно на основе данных рентгеновской проекционной топографии и двухкристальных кривых прохождения.
Рис. 5. Фрагменты проекционных топограмм с массивом сквозных вертикальных ThM каналов Si(Al), сформированных вдоль направления пластины Si(111). Отражения: g || () (а), (б) и g || () (в). Излучение AgKα₁.
На рис. 5 показаны рентгеновские проекционные топограммы исследуемой пластины с р-каналами Si(Al). Каналы визуально видны в виде параллельных полос переменной контрастности. Более светлые полосы соответствуют центральной области каналов. Плотность изображения совпадает со средней плотностью пластины.
Контраст полос показывает, что внутренние части каналов являются монокристаллическими областями с достаточно совершенной структурой. Полосы, наблюдаемые в областях пластины, представляют собой полосы скольжения вдоль направлений <011>, которые образуются из-за радиальных тепловых напряжений, возникших во время процесса термомиграции. Таким образом, каналы, а также области между каналами представляют собой довольно совершенный монокристалл с низкой плотностью дислокаций. Темные полосы по обе стороны канала соответствуют его границам и вызваны искажениям кристаллической решетки из-за внедрения примесных атомов алюминия в решетку кремния с концентрацией CAl ~ (1–2) × 10¹⁹ см⁻³ [25, 26]. Контраст изображения, связанного с деформацией на границе р-каналов, определяется условием экстинкции и не наблюдается при εg = 0, где ε и g – градиент поля деформации и вектор дифракции соответственно [27]. Можно видеть, что ширина полос (изображение границ) значительно изменяется в зависимости от направления вектора дифракции g относительно линии канала (срав. рис. 5, а и б).
Считается [6], что металлургические границы каналов довольно резкие и смещаются в глубину пластины от 2 до 20 мкм из-за диффузии атомов примеси при формировании канала термомиграции. Однако дифракционное изображение границ канала связано с полем деформации, которое может значительно превышать ширину металлургических границ, что наблюдается на топограммах. Необходимо отметить, что размер поля деформации связан с чувствительностью методики, которой проводят ее измерение. На рис. 5, а наблюдаемая ширина границы канала составляет 200–300 мкм. Границы структурно совершенных каналов не должны были бы наблюдаться на топограмме (рис. 5, в). Их появление в первую очередь связано с наличием границ на фронтальной и тыльной поверхностях пластины. Кроме того, появление границ стенок р-канала может быть обусловлено смещением относительно выбранной кристаллической плоскости, изменением ширины канала по глубине пластины, локальным изгибом кристаллических плоскостей и формированием рельефа, а также наличием микродефектов на границе канала.
На фрагментах топограмм (см. рис. 5, б, в) на границах каналов наблюдаются полупетли дислокаций. Они лежат на границах каналов в приповерхностных слоях матрицы кремниевых пластин. В исследуемом образце их разбег от центра канала составил до 5 его ширин. Эти дислокации образуются из-за частичной релаксации напряжений вблизи выхода канала на поверхность пластины. Дислокации несоответствия в объеме образца на границе раздела канал – матрица не наблюдаются. В данном случае граница между р-каналом и матрицей пластины является когерентной. Сравнительные исследования структурных дефектов в структуре ThM р-слой Si(Al) (CAl ~ 10¹⁹ см⁻³, T = 1350 K) на подложке Si(111) толщиной 10–60 мкм не обнаружили появление дислокаций несоответствия [26] и подтвердили возможность формирования когерентных границ в таких структурах.
Необходимо отметить, что на топограммах (см. рис. 5) видны дислокации, проходящие сквозь канал из матрицы пластины. Они будут являться цепями короткого замыкания при работе p–n-перехода. И, наконец, характерной чертой дифракционного изображения p-канала на топограммах вне зависимости от направления вектора дифракции является узкая темная линия, проходящая вдоль центра канала. Сопоставляя ее положение с изображениями электронной и оптической микроскопии на рис. 3, можно предположить, что она связана с деформацией кристаллической решетки канала вблизи поверхности. Влияние этих деформаций на p–n-переход (см. рис. 1, б) должно усиливаться при сужении канала и исследоваться отдельно.
На рис. 6 показаны экспериментальные двухкристальные кривые дифракционного прохождения в геометрии Лауэ в зависимости от места х падения рентгеновского пучка относительно центра канала (см. рис. 1, б). В эксперименте положение образца смещалось в латеральном направлении с шагом 10 мкм.
Рис. 6. Кривые дифракционного прохождения 220 отражения в области ThM канала Si(Al) в матрице Si(111) в зависимости от положения рентгеновского пучка относительно центра канала: х = 350 (1), 50 (2), 0 (3), –50 мкм (4). Излучение λ = 0.070931 нм.
Видно, что форма, полуширина кривых и угловое положение максимумов зависят от величины сдвига х. Кривая LRC, записанная вдали от центра канала Si(Al), при x = 350 мкм или больших отступах имеет минимальную полуширину и более низкий коэффициент отражения. Ранее было показано [18], что такие кривые соответствуют дифракции от монокристаллов кремния. Это подтверждает, что несмотря на проведенный процесс термомиграции и появившиеся в объеме пластины дислокации (см. рис. 4) матрица пластины, в среднем, еще достаточно совершенна. При дальнейшем увеличении смещения x ≥ ±350 мкм от центра канала параметры кривой LRC (1) не изменялись вплоть до границы аналогичных полей деформации следующего канала. Анализ формы, ширины коэффициента отражения кривой LRC (3), полученной при падении рентгеновского пучка в центр канала при x = 0, показывает, что канал представляет собой достаточно совершенную монокристаллическую область. Этот результат подтверждает выводы рентгеновской топографии (см. рис. 5) о монокристалличности средней кристаллической решетки в канале. Вклад диффузного рассеяния от дислокаций в канале в кривую LRC (3), по-видимому, незначителен. Асимметричность “хвостов” кривой LRC связана с измененным межплоскостным расстоянием кристаллической решетки канала относительно матрицы пластины и структурными искажениями на его границе. Наличие искажений средней решетки на границе p-канал – матрица пластины хорошо демонстрируется кривыми (2) и (4) (см. рис. 6), на которых наблюдается два уширенных пика. В рамках теории упругости ожидаемое угловое расстояние между пиками на кривых (2) и (4) (луч излучения при смещении его относительно х = 0) захватывает канал и матрицу пластины) не может превышать 1–2 угловых секунды. Чтобы объяснить это несоответствие, появление двух пиков на кривых отражения в [18] было отнесено к заметным структурным искажениям кристаллической решетки в канале: деформация ε = 2.7 × 10–5, изгиб плоскостей, параллельных границе канала радиусом 1.7 м, и градиент деформации внутри канала ∇ε = 10–4.
U–I–R-измерения
Испытания n–p–n-структуры на “пробой” проводились при подаче постоянного напряжения на контакты A и B (см. рис. 1, б). На рис. 7, а показаны обратные вольт-амперные характеристики для отдельных n–p–n-структур (два p–n-перехода включенных встречно друг другу). Видно, что I–U кривые (1, 2) симметричны в первом и третьем квадрантах.
Рис. 7. Обратные характеристики I(U) (1, 2) для отдельных n—p—n-структур (см. рис. 1, б) образца и модельная кривая I(U) (3) для кремниевой пластины n-типа (Р, 10¹⁴ см⁻³) (а); металлургическая микрофотография канала SiAl (б); G — направление градиента температуры при термомиграции.
Это свидетельствует об эквивалентности свойств этих n–p и p–n встречных переходов на противоположных границах (сторонах) p-канала с матрицей образца. Максимальное полученное значение обратного напряжения, равное 500 В (начало возникновения лавинообразного увеличения обратного тока на кривой 1), соответствует высокому качеству этого p–n-перехода. Вместе с тем наблюдаются и более низкие значения 200 В напряжения пробоя (см. кривую 2). По сравнению с теоретически рассчитанной зависимостью I(U) (3) обратные ветви измеренных кривых (1, 2) являются “мягкими”. Измеренные “мягкие” кривые в меньшей степени связаны с объемом канала, чем с его участками вблизи поверхности пластины. Такие кривые I(U) характеризуются повышенными поверхностными токами утечки из-за остаточных примесей и микрочастиц во время подготовки образца к измерениям, различиями в свойствах поверхности структуры и окружающей среды. Кроме того, наблюдаемое снижение напряжения пробоя в значительной степени зависит от плохо контролируемых искажений рельефа поверхности вблизи канала, как на лицевой (входной), так и на тыльной (выходной) стороне образца. Важным фактором, снижающим величину напряжения пробоя, является наличие сквозных дислокаций, обнаруживаемых методом рентгеновской топографии (см. рис. 5, б, в). Их количество увеличивается при повышении температуры процесса термомиграции за счет латерального градиента температуры, увеличения текучести кремния [16].
Рис. 8. I(U)-характеристики p—n -переходов AC (1) и BC (2) на границе р-канала (см. рис. 1, б). Сплошные линии (3), (4) представляют собой моделирование резкого p—n -перехода для Si n-типа (ρ = 45 Ом×см с α = 1.54 и α = 1 соответственно (а); температурные зависимости сопротивления R от ширины l канала Si(Al) для T = 1300 K (5), 1350 K (6) и 1400 K (7) (б).
На рис. 8, а показаны измеренные вольт-амперные характеристики p–n-переходов, образованных обеими границами (см. рис. 1, б) p-канала образца. Видно, что существенных различий в значениях I(U) между p–n-переходами не наблюдается. В реальных устройствах представляет интерес механизм протекания тока через сформированный p–n-переход. Он может быть описан моделью Саха, Нойса и Шокли [28] через параметр α в формуле
где I0 – насыщение ячейки темновым током; q = 1.6 × 10⁻¹⁹ Кл – заряд электрона; α – безразмерный коэффициент; k = 1.38 × 10⁻²³ Дж/К – постоянная Больцмана; T – рабочая температура ячейки, К.
Результаты измерений прямых характеристик I(U) показывают, что параметр α = 1.54 для исследованных термомиграционных переходов. Следовательно, ток, протекающий через n–p-переходы, имеет компоненты диффузии и рекомбинации сопоставимой величины. Ток насыщения I0 (оцененный экстраполяцией до U = 0) равен ~10⁻⁸ А. Полученные данные указывают на наличие токов утечки вблизи электронно-дырочного перехода в местах выхода p-канала на поверхность образца. На поверхности всегда имеются дефекты, которые приводят к появлению заряда и, следовательно, к появлению сопротивления утечке, шунтирующего p–n-переход. Видно, что поверхностные токи утечки почти на четыре порядка превышают теоретически рассчитанный обратный ток.
На рис. 8, б показаны измерения сопротивления R(l) каналов Si(Al) различной ширины (50–200 мкм) в кремниевой подложке толщиной 500 мкм, сформированной при температуре 1300–1400 К. Видно, что при уменьшении ширины канала его сопротивление R(l) увеличивается экспоненциально. Увеличение температуры процесса термомиграции приводит к снижению R. Концентрация легирующей примеси в канале термомиграции для стандартных кремниевых пластин и малых значений коэффициента распределения твердое вещество – жидкость (solid-liquid distribution coefficient) (например, Sb, Al) предполагается однородной [6, 8, 29]. Поведение кривых R(l) показывает, что в узких (менее 100 мкм) каналах могут появляться структурные дефекты, влияющие на проводимость канала. Измеренное удельное сопротивление каналов p-типа находится в диапазоне от 0.01 до 0.05 Ом×см. Было показано [26], что в случае кремния концентрация примеси может меняться от 1 × 10¹⁹ до 2 × 1018 см⁻³. Значения концентраций алюминия в ThM каналах, полученные с помощью SIMS и рентгеновской дифрактометрии [30], хорошо согласуются с этими данными.
P–I–U-измерения
Сравнительные исследования эффективности фотопреобразования монолитного 15-элементного солнечного модуля были проведены на двух образцах MSCM: #А – эталонный (с максимальными фотоэлектрическими параметрами) и #B – дефектный (с заниженными рабочими характеристиками). Фотоэлектрические характеристики как отдельных i = 1, 2, …, 15 элементов, так и их групп в модулях #А и #B были измерены в атмосфере в условиях солнца AM 1.5D. Эффективность фотопреобразования модулей #А и #B: плотность тока J, плотность мощности Pd от генерируемого напряжения U показаны на рис. 9.
Рис. 9. Характеристики J — U (а) и Pd — U (б) для монолитных солнечных модулей MHSM при мощности излучения 1000 Вт/м². На обоих рисунках: 1 — эталонный модуль #A; 2 — дефектный модуль #B.
Максимальные величины плотности тока и генерируемой мощности при фотопреобразовании были получены при использовании модуля #A. Для него напряжение холостого хода Uoc и плотность тока короткого замыкания составляли 8.5 В и 33 мА/см² соответственно (рис. 9, а), при этом коэффициент заполнения вольт-амперной характеристики FF был выше 0.7. Эффективность Eff эталонного модуля составила 13.1%. Фотоэлектрические характеристики для модуля #B оказались заметно ниже: Uoc = 6.7 В, Js = 25 мА/см², Eff = 7,3%.
Чтобы изучить фотоэлектрические свойства модуля, мы измерили значения Jsc, Uoc и Eff для каждого солнечного элемента. Результаты представлены на рис. 10.
Отметим, что в нашем эксперименте генерируемая на основе первых 8 элементов мощность Pd модуля #B практически не меняется. Параметры фотопреобразования монолитного солнечного модуля определяются рабочими характеристиками каждого входящего в него солнечного элемента и зависят от различных факторов. В частности, эти параметры зависят от удельного сопротивления p-канала, участков границы с коротким замыканием, ловушками в p—n-переходе, сопротивлением контактов и “размерными” дефектами, созданными при изготовлении модуля.
На рис. 11 показаны фрагменты рентгеновской проекционной топограммы модуля #B с изображениями эффективных (а) и дефектных (б) р-каналов. Необходимо отметить, что на топограмме видны дифракционные изображения деталей как на лицевой, так и на тыльной стороне модуля.
Рис. 11. Фрагменты рентгеновской проекции топограммы по методу Ланга 15-элементного MSCM-модуля (см. рис. 2) с совершенными (а) и дефектными (б) солнечными элементами: Sh₂₃, Sh₈₉ — Ag-шунты между каналами на задней стороне модуля; 1, 2 — рабочий р—n-переход; 3 — граница Ag-шунтов; 4 — левая граница разделительной канавки; nᵢ — номер p-канала. Отражение – , излучение — МоКα₁.
На рис. 11, a и б хорошо видны дифракционные изображения р-каналов Si(Al) n₂, n₃, n₈ и n₉ в виде параллельных более светлых полос с боковыми тонкими черными линиями, аналогичных полосам, показанным на рис. 5, в. Хорошо проявляются (срав. с рис. 2) границы серебряных шунтов Sh₂₃, Sh₈₉ между р-каналами n₂, n₃ и n₈, n₉. Правые границы шунтов Sh₂₃ и Sh₈₉ отмечены стрелками 3. Наиболее интересно расположение рабочих p—n-переходов, совпадающих с границами каналов: (n₂, n₃) и (n₈, n₉) соответственно. Стрелки 1 и 2 указывают “рабочие” границы каналов n₃ и n₉ во фрагментах (а) и (б) соответственно. Видно, что расположение правой границы 3 контактной пленки Sh₈₉ выходит за пределы канала и попадает в область матричного кремния. Такое относительное смещение границ р-канала и шунта вероятнее всего приводит к короткому замыканию рабочего p—n-перехода на тыльной стороне модуля. Этот размерный дефект наблюдается, начиная с 8-го канала для модуля #В. Подчеркнем, что для первых семи каналов модуля границы канала с рабочим p—n-переходом и границы шунта Ag совпадают. Такое смещение границы контактной пленки (3) на фрагменте (б) должно привести к короткому замыканию рабочего p—n-перехода и уменьшению значений тока. Это наблюдение полностью соответствует форме кривой, показанной на рис. 10, а, где наблюдается резкое уменьшение тока короткого замыкания Jsc, начиная с канала 7. Мы полагаем, что смещение границ, а также уменьшение ширины каналов SiAl обусловлены наличием радиального градиента теплового поля в процессе термомиграции. На полной топограмме MSСM слева от каналов видны слабые черные линии (стрелка 4). Их положение соответствует границе разделительной канавки между солнечными элементами. Возможно, что процесс лазерной абляции, образовавший разделительные канавки, был нестабильным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлены результаты комплексных исследований реальной структуры и электрических свойств массива сквозных вертикальных p-каналов в пластине Si(111), а также фотовольтаических свойств 15-элементного монолитного солнечного модуля. Массивы p-каналов шириной 100 мкм были получены методом термомиграции алюминия при температурах 1300–1450 К. Структурная характеризация каналов была проведена методами растровой электронной микроскопии, рентгеновской проекционной топографией и кривыми качания геометрии дифракции Лауэ.
Установлено, что величина обратных пробивных напряжений в элементе структуры n—p—n (на основе p-канала) достигает 500 В. Ток насыщения I0 на полученных рабочих переходах не превышает 10–8 А. Удельное сопротивление каналов, в зависимости от ширины канала и температуры процесса термомиграции, находится в диапазоне от 0.01 до 0.05 Ом×см. Если ширина канала p-типа, образованного при T = 1450 K, менее 100 мкм, его удельное сопротивление увеличивается нелинейно, что может ограничить количество возможных каналов на единицу длины солнечного модуля. Показано, что одним из основных структурных дефектов Si-пластин с каналами SiAl является отклонение плоскости канала p-типа от нормали к поверхности пластины. Это приводит к снижению эффективности как соответствующего солнечного элемента, так и всего модуля. Ясно, что формирование многоканальной структуры — чрезвычайно сложный процесс, включающий множество тонких особенностей, которые до сих пор неизвестны и должны быть поняты в будущем исследовании.
И, наконец, в работе представлены измеренные фотоэлектрические свойства для эффективного монолитного горизонтального 15-элементного солнечного модуля с КПД 13.1%, напряжением холостого хода 8.5 В и плотностью тока короткого замыкания 33 мА/cм². Для сравнения приведены свойства модуля с низкой эффективностью, показано и обсуждается влияние “размерных” дефектов. Следует отметить, что полученные характеристики отдельных солнечных элементов имеют сопоставимые значения с основными фотоэлектрическими параметрами обычных планарных аналогов, несмотря на конструктивные особенности р-каналов и наличие структурных искажений вблизи их границ с матрицей подложки. Конечно, современные солнечные элементы A3B5 со встроенным каскадом внутренних областей на основе простых структур обладают более высокой эффективностью (до 40–50%). Тем не менее многоэлементные модули MSCM могут быть использованы для изготовления солнечных модулей с любым выходным напряжением, пропорциональным количеству элементов, и они, в силу конструктивных особенностей, более надежны.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания Южно-Российскому государственному политехническому университету (НПИ) им. М.И. Платова по теме FENN-2023-0005 и при частичной поддержке Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН по теме № FFNN-2022-0019. Часть экспериментальной работы выполнена при инструментальной поддержке Центра коллективного пользования “Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов” ФГБНУ ТИСНУМ.
About the authors
A. A. Lomov
Valiev Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: lomov@ftian.ru
Russian Federation, Moscow
B. M. Seredin
Platov South Russian State Polytechnic Institute (NPI)
Email: lomov@ftian.ru
Russian Federation, Novocherkassk
S. Yu. Martyushov
Technological Institute for Superhard and Novel Carbon Materials
Email: lomov@ftian.ru
Russian Federation, Troitsk
A. A. Tatarintsev
Valiev Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences
Email: lomov@ftian.ru
Russian Federation, Moscow
V. P. Popov
Platov South Russian State Polytechnic Institute (NPI)
Email: lomov@ftian.ru
Russian Federation, Novocherkassk
A. V. Malibashev
Platov South Russian State Polytechnic Institute (NPI)
Email: lomov@ftian.ru
Russian Federation, Novocherkassk
References
- Markvart T., Castafier L. Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications. Oxford — New York — Tokyo: Elsevier Science Ltd., 2003. 984 р.
- Philipps S.P., Cristóbal López A., Martí Vega A., López L. Present Status in the Development of III—V Multi-Junction Solar Cells, Next Generation of Photovoltaics, Springer Series in Optical Sciences. 2012. V. 165. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23369-2_1
- Da X., Chen C., Deng Y., Wood A., Yang G., Fei C., Huang J. Pathways to High Efficiency Perovskite Monolithic Solar Modules // PRX ENERGY. 2022. V. 1. Р. 013004. https://doi.org/10.1103/PRXEnergy.1.013004
- Ryan C.Ch., Remco W.A., Havenith Jan. C., Hummelen L., Koster Jan A., Loi M.A. Modern Plastic Solar Cells: materials, mechanisms and modeling // Materials Today. 2013. V. 16. P. 281.
- France R.M., Geisz J.F., Song T., Olavarria W., Young M., Kibbler A., Steiner M.A. Triple-junction solar cells with 39.5% terrestrial and 34.2% space efficiency enabled by thick quantum well superlattices // Joule. 2022. V. 6. No. 5. Р. 1121–1135. https://doi.org/10.1016/j.joule.2022.04.024
- Anthony T.R., Cline H.E. Lamellar devices processed by thermomigration // J. Appl. Phys. 1977. V. 48. P. 3943–3949.
- Pfann W.G. Zone Melting. 2nd Ed. New York: Wiley, 1963. 236 p.
- Lozovskii V.N., Lunin L.S., Popov V.P. Zonnaya perekristallizaciya gradientom temperatury poluprovodnikovyh materialov. M.: Metallurgiya, 1987. 232 p. [in Russian].
- Lozovskii V.N., Udaynskaya A.I. Investigation of the Mechanism of Silicon Crystallization from an Aluminum-Silicon Melt by Temperature Gradient Zone Melting // Sov. Phys. Crystallography. 1968. V. 13. No. 3. P. 565–566.
- Lozovskii V.N., Popov V.P. On the stability of the growth front during crystallization by the moving solvent method // Sov. Phys. Crystallography. 1970. V. 15. No. 1. P. 149–154.
- Cline H.E., Anthony T.R. Thermomigration of aluminum-rich liquid wires through silicon // J. Appl. Phys. 1976. V. 47. No. 6. P. 2332–2336.
- Buchin E.Y., Denisenko Y.I., Simakin S.G. The structure of thermomigration channels in silicon // Tech. Phys. Lett. 2004. V. 30. No. 3. P. 205–207.
- Norskog A.C., Warner Jr.R.M. A horizontal monolithic series-array solar battery employing thermomigration // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. No. 3. P. 1552–1554.
- Lozovskii V.N., Lomov A.A., Lunin L.S., Seredin B.M., Chesnokov Yu.M. Crystal Defects in Solar Cells Produced by the Method of Thermomigration // Semiconductors. 2017. V. 51. No. 3. P. 285–289.
- Eslamian M., Saghir M.Z. Thermodiffusion Applications in MEMS, NEMS and Solar Cell Fabrication by Thermal Metal Doping of Semiconductors // FDMP. 2012. V. 8. No. 4. P. 353–380.
- Renyan W.R. Silicon Semiconductor Technology. McGraw-Hill: McGRAW — Hill Book Company, 1965. 277 p.
- Jasurbek G., Rayimjon A., Bobur R. Effect of the Local Mechanical Stress on Properties of Silicon Solar Cell // J. of Mech. Eng. Res. and Devel. 2021. V. 44. No. 9. P. 125–133.
- Lomov A.A., Punegov V.I., Seredin B.M. Laue X-ray diffraction studies of the structural perfection of Al-doped thermomigration channels in silicon // J. Appl. Cryst. 2021. V. 54. P. 588–596. https://doi.org/10.1107/S1600576721001473
- Lomov A.A., Punegov V.I., Belov A.Yu., Seredin B.M. High resolution X-ray Bragg diffraction in Al-doped thermomigration channels in silicon // J. Appl. Cryst. 2022. V. 55. P. 558–568. https://doi.org/10.1107/S1600576722004319
- Morillon B. Etude de la thermomigration de l’aluminium dans le silicium pour la réalisation industrielle de murs d’isolation dans les composants de puissance bidirectionnels. Doct. Thesis, Toulouse: INSA de Toulouse, 2002. https://tel.archives-ouvertes. fr/tel-00010945/
- Seredin B.M., Lomov A.A., Zaichenko A.N., Gavrus I.V., Pashchenko A.S., Malibashev A.V., Ruban L.V. Elektricheskie svojstva kremnievyh vysokovol’tnyh fotopreobrazovatelej na osnove skvoznyh termomigracionnyh kanalov // Fizika. Sankt-Peterburg: Politekh-Press, 2021. P. 456–458 [in Russian].
- Seredin B.M., Popov V.P., Gavrus I.V., Zaichenko A.N. Primenenie lokal’noj perekristallizacii kremniya alyuminiem v fotovol’taike // Mokerovskie chteniya. Moskva: NIYAU MIFI, 2023. P. 146–147 [in Russian].
- Lozovskij V.N., Popov V.P., Darovskij N.I. Startovaya nestabil’nost’ linejnyh i tochechnyh zon pri zonnoj plavke s gradientom temperatury. Sbornik Trudov, Kristallizaciya i Svojstva Kristallov. Novocherkassk, 1970. V. 208. P. 39–43 [in Russian].
- Poluhin A.S. Termomigraciya neorientirovannyh linejnyh zon v kremnievyh plastinah (100) dlya proizvodstva chipov silovyh poluprovodnikovyh priborov // Komponenty i tekhnologii. 2008. No. 11. P. 97–100 [in Russian].
- Yoshikawa T., Morita K. Solid Solubilities and Thermodynamic Properties of Aluminum in Solid Silicon // J. Elect. Society. 2003. V. 150. No. 8. https//doi: 10.1149/1.1588300
- Seredin B. M., Kuznetsov V. V., Lomov A. A., Zaichenko A.N., Martyushov S.Yu. Precision silicon doping with acceptors by temperature gradient zone melting // J. Phys: Conf. Series. 2019. P. 39–46.
- Bowen D.K., Tanner B.K. High Resolution X-ray Diffractometry and Topography. London, Bristol: Taylor & Francis, 1998. 252 p.
- Sah C.T., Noyce R.N., Shockley W. Carrier Generation and Recombination in p—n Junction and p—n Junction Characteristics // Proceedings of the IRE. 1957. V. 45. No. 9. P. 1228–1243.
- Sze S. M., Kwok K. Ng. Physics of semiconductor devices // A. John Wiley & Sons. Inc. Publ. 2007. 832 p.
- Lomov A.A., Seredin B.M., Martyushov C. Yu., Zaichenko A.N., Shul’pina I.L. The Formation and Structure of Thermomigration Silicon Channels Doped with Ga // Technical Physics. 2021. V. 66. No. 3. P. 453–460. https://doi.org/10.1134/S1063784221030178
Supplementary files