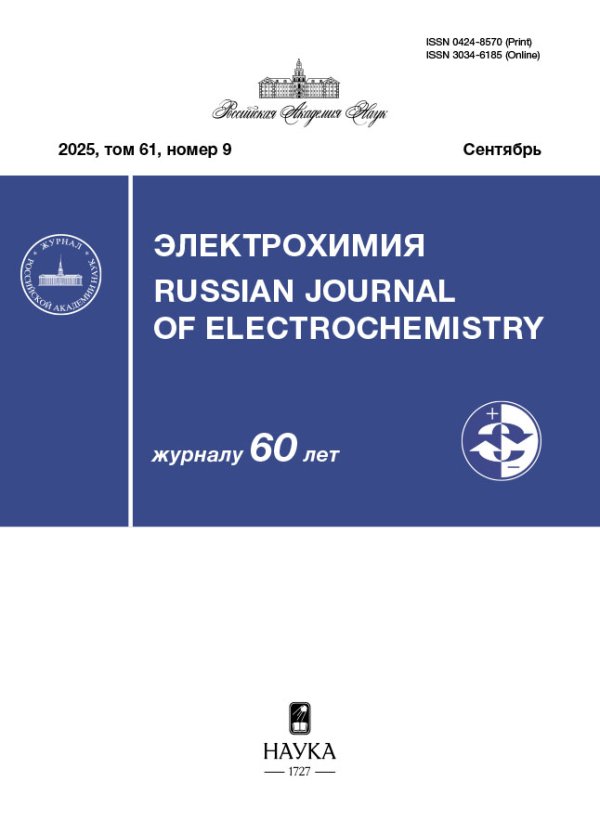Fabrication of NiO-Ce0.8Gd0.2O2-based anode for a solid oxide fuel cell using inkjet 3D printing and study of its microstructure
- Authors: Asmedianova A.D.1,2, Bagishev A.S.1, Logutenko O.A.1, Titkov A.I.1
-
Affiliations:
- Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
- Novosibirsk State University
- Issue: Vol 60, No 3 (2024)
- Pages: 174-181
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0424-8570/article/view/265482
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0424857024030028
- EDN: https://elibrary.ru/RBXTOJ
- ID: 265482
Cite item
Full Text
Abstract
A paste composition for inkjet 3D printing based on the NiO-Ce0.8Gd0.2O2 composite was developed and an anode billet for a solid oxide fuel cell of planar geometry was made using direct inkjet 3D printing. Effect of the printing mode and thermal annealing on the morphology and structure of the samples has been studied. The anode billet was reduced and the resulting sample was characterized by a number of physicochemical methods.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В связи с растущим в мире интересом к чистой, низкоуглеродной энергетике, топливные элементы (ТЭ) являются перспективными кандидатами для энергетической инфраструктуры будущего [1]. ТЭ представляют собой электрохимические устройства, способные напрямую преобразовывать химическую энергию топлива в электрическую с высоким КПД. Существует несколько типов ТЭ: твердополимерный, щелочной, метанольный, с протонно-обменной мембраной, на основе расплавленного карбоната и фосфорнокислый ТЭ. Одним из перспективных типов ТЭ являются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), которые обладают рядом значительных преимуществ, таких как универсальность в выборе топливного газа (благодаря высокой рабочей температуре), безопасность для окружающей среды и относительно высокая химическая устойчивость [2]. Однако при высоких температурах (800–1000°С) химическое взаимодействие материалов ТОТЭ сокращает срок службы таких устройств, а также значительно повышает стоимость эксплуатации.
На сегодняшний день большинство производственных ТОТЭ являются анод-несущими, что объясняется необходимостью уменьшать толщину электролита для снижения омических потерь при переходе к среднетемпературной области (500–800°С) [3]. При выборе материала анода важными характеристиками являются высокая электрокаталитическая активность в реакции окисления топлива, высокая смешанная электронная и ионная проводимость, термическая устойчивость в условиях рабочей температуры, высокая пористость и малый размер частиц [4]. Этим требованиям отвечают керметы: никель – диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия (Ni-YSZ), никель – оксид церия, легированный оксидом гадолиния (Ni-GDC) и др. [5]. Электродные композиты на основе никеля получают смешиванием NiO с YSZ или GDC. Затем NiO восстанавливают до Ni, чтобы получить каталитически активную металлическую фазу.
Кермет Ni-YSZ традиционно используется в качестве анодного материала в высокотемпературных ТОТЭ, в то время как GDC используется в среднетемпературных. Композит Ni-GDC имеет хорошую общую электропроводность анодного слоя, которая при 850°С равна 400 См см–1. Кроме этого, во время работы ТОТЭ каркас из GDC защищает частицы никеля от агломерации, что является основной причиной деградации анода [6]. По типу конструкции ТОТЭ можно разделить на планарные и (микро-)трубчатые. Последние обладают такими преимуществами, как высокая прочность, устойчивость к термоциклированию, высокая скорость запуска и др. [7]. Одним из основных лимитирующих факторов в развитии ТОТЭ является сложность их производства, а также плохая масштабируемость и высокая стоимость производственных процессов.
В последние годы активно развиваются аддитивные технологии (АТ) изготовления ТОТЭ, которые являются достойной альтернативой традиционным методам, таким как ленточное литье, экструзия и трафаретная печать [8]. Аддитивные технологии (технологии послойного наращивания объектов) позволяют сократить количество технологических стадий производства ТОТЭ, увеличить коэффициент использования материала, улучшить эксплуатационные и мощностные характеристики ТОТЭ, усовершенствовав геометрию и микроструктуру, а также сформировать уникальную текстуру и форму изделия [9].
Модифицированные технологии струйной печати позволяют получать объекты разнообразной формы. Так, авторами работы [10] с использованием вибрационного сопла получены 3D-объекты с высокой точностью и минимальной потребностью в дополнительных опорах. Некоторые технологии используют для изготовления нескольких компонентов ТОТЭ. Например, струйную печать применяли для изготовления различных функциональных слоев [11]. Авторами работы [12] изготовлены симметричные ячейки ТОТЭ с помощью гибридной 3D-печати: тонкий электролит (2.8 мкм) получали струйной печатью, а пористые электроды – робокастингом с последующим совместным спеканием. Полученная ячейка продемонстрировала хорошие электрохимические характеристики.
Важным этапом изготовления ТОТЭ является термическая обработка керамики, поскольку в процессе обжига формируются ее свойства, такие как прочность, пористость, твердость и др. В связи с этим исследование влияния условий термической обработки на микроструктуру, пористость, электрические характеристики, стабильность ТОТЭ в условиях эксплуатации является актуальной задачей. Такие исследования проводились для керметов: никель – оксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия (Ni-YSZ) [13] и никель – оксид церия, стабилизированный оксидом самария (Ni-SDC) [14], которые используются в качестве анодов ТОТЭ, однако в литературе не сообщалось о систематических исследованиях, связанных с оптимизацией температурного режима получения кермета Ni-GDC.
Целью данной работы являлось послойное изготовление анода ТОТЭ с применением метода струйной 3D-печати [15] и исследование влияния режима термического спекания на микроструктуру, пористость и электрические характеристики анода.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалы
Для синтеза композитных материалов использовали оксид никеля(II) (SOFCMAN, Китай, ≥99.5%), оксид церия, стабилизированный оксидом гадолиния 20 мол. % GDC20 (SOFCMAN, Китай, ≥99.5%), бутилгликоль 99% (Sigma Aldrich), полимер поливинилбутираль (PVB) (Sigma Aldrich), дибутилфталат (DBF) 99% (Sigma Aldrich), дисперсант BYK (BYK Chemie).
Методика получения пасты для печати
Для получения композитного материала NiO/GDC проводили предварительное измельчение порошков оксида никеля(II) и GDC в лабораторной погружной бисерной мельнице APS (VMA-Getzmann, Германия) с использованием мелющих тел из оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия YSZ8. Измельчение проводилось в этаноле, объемное соотношение NiO : спирт : шары равно 1 : 1.5 : 2. Полученный порошок сушили в сушильном шкафу при температуре 100°С до полного испарения спирта. Для приготовления пасты полимер (PVB), пластификатор (DBF) и дисперсант BYK растворяли в бутилгликоле и помещали в бисерную мельницу с мелющими телами из YSZ8, затем добавляли порошки NiO и GDC (60/40 мас. %) и диспергировали при скорости вращении ротора мельницы 4500 об/мин в течение 2 ч, затем пасту отделяли от мелющих тел.
Аппаратура и физические методы исследования
Печать образцов проводили на лабораторном 3D-принтере, изготовленном по индивидуальному заказу. Принтер является гибридным и сочетает в себе возможность использования различных систем дозирования низковязких и высоковязких композиций для прямой струйной печати различных материалов [16]. Все эксперименты по печати проводили с использованием пневматического дозирующего клапана с соплом диаметром 0.25 мм (Nordson Corporation, Германия – США).
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на порошковом дифрактометре D8 Advance (Bruker, Германия) с CuКα-излучением при регистрации одномерным детектором Lynx–Eye с никелевым фильтром, шаг сканирования 0.02°, время накопления в точке 35.4 с. Исследование образцов методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа TM1000 (Hitachi Ltd., Япония). Для измерения пикнометрической плотности твердых образцов использовали газовый пикнометр UltraPyc 3000 (Anton Paar, Австрия), в качестве инертного газа-измерителя объема образца использовали гелий. Пористость рассчитывалась путем сравнения пикнометрической плотности со значением теоретической плотности композита NiO/CGO, равной 6.67 г/см3. Вязкость паст измеряли с помощью вискозиметра Brookfield DV3T-RV (Brookfield Engineering Labs Inc., США) в геометрии конус/пластина при 25°C. Для анализа гранулометрического состава использовали лазерный анализатор частиц Microsizer 201 (Microsizer, Россия). Для определения оптимальных параметров спекания использовали прибор синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter (NETZSCH, Германия). Напечатанный образец нагревали в атмосфере 0.2O2 – 0.8Ar со скоростью 5°С/мин до температуры 1000°С.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из важнейших требований, предъявляемым к композитным материалам, является однородный гранулометрический состав частиц. Для этой цели исходные порошки NiO и GDC измельчали с использованием жидкого помола в бисерной мельнице в течение двух часов. На рис. 1 и 2 представлены распределения частиц по размерам для исходных частиц GDC и NiO и частиц GDC и NiO после измельчения. Как видно из рисунков, исходные и конечные порошки NiO и GDC имеют мономодальное распределение по размерам, при этом кривые распределения измельченных образцов смещаются влево, что указывает на уменьшение размера частиц. Так, после измельчения в бисерной мельнице средний размер частиц NiO уменьшается от 1.48 до 0.07 мкм, а средний размер частиц GDC – от 0.14 до 0.03 мкм.
Рис. 1. Кривые распределения частиц оксида никеля по размерам до и после измельчения в бисерной мельнице.
Рис. 2. Кривые распределения частиц GDC по размерам до и после измельчения в бисерной мельнице. восстановления анодных заготовок.
На основе полученного композита NiO-GDC готовили пасту. Для этого полимер PVB, дисперсант BYK и дибутилфталат (DBF) растворяли в бутилгликоле и помещали в бисерную мельницу с мелющими телами из YSZ8, затем добавляли порошки NiO и GDC. Для печати использовали пасту, содержащую 11.5% BYK от массы органической составляющей пасты. Чтобы соответствовать требованиям для струйной печати при использовании дозирующих сопел разного диаметра, состав органической пасты был следующим: массовое содержание твердой фазы ≤60 мас. %, размер частиц с процентильным содержанием D50 < 3 мкм (средний размер частиц должен быть примерно в 100 раз меньше диаметра сопла [17]). Полученную смесь диспергировали при скорости вращении ротора мельницы 4500 об/мин в течение 2 ч, затем пасту отделяли от мелющих тел. Исследована зависимость динамической вязкости полученной пасты от скорости сдвига (рис. 3). Как видно из рисунка, эта зависимость является нелинейной, что указывает на неньютоновский характер ее течения. При скорости сдвига, равной 6, 20 и 75 с–1, вязкости паст составляют 560, 396 и 300 Па c соответственно.
Рис. 3. Зависимость динамической вязкости пасты NiO-GDC от скорости сдвига.
Для выбора оптимального режима прямой струйной печати 3D-объектов выполнялась тестовая печать с разными режимами по частоте и времени открытия клапана печатающей головки. Диаметр сопла составлял 250 мкм. Особенности процедуры печати и оптимизации параметров струйной печати рассмотрены в статье [14], авторами которой установлено, что оптимальными параметрами для рабочей пасты являются частота открытия клапана 20 Гц и длительность открытия клапана 700 мс. Следует отметить, что, в отличие от пьезоструйной печати, которая позволяет формировать лишь тонкие слои (0.05–5 мкм) пленок, в нашей случае, при использовании пневматического дозирующего клапана, можно получать более толстые слои толщиной от 1 до 50 мкм, что является важным требованием, предъявляемым к анод-поддерживающим ТОТЭ (толщина примерно 1 мм) [18]. Помимо этого, системы пневматического дозирования, в отличие от классической пьезоструйной печати, имеют менее жесткие требования к характеристикам печатной композиции, в том числе позволяют использовать материалы для печати с более широким диапазоном вязкостей и концентрацией наполнителя, формировать капли большего размера [19].
Для определения влияния параметров и режимов 3D-печати на микроструктуру анодных заготовок методом литья была изготовлена серия референсных образцов. Для этого в тефлоновую форму заливали пасту, которую затем помещали в сушильный шкаф при температуре 100°С. На рис. 4 приведены микрофотографии образцов, изготовленных методом литья (a, в) и струйной печати (б, г) с их последующим отжигом. Из микрофотографий видно, что в обоих случаях образцы имеют схожую микроструктуру, однако на сколе видно, что структура образца, полученного методом струйной печати, более пористая. В обоих случаях распределение микропор однородно, но в образце, изготовленным методом струйной печати, присутствуют макропоры, которые формируются в результате удаления органических компонент при сушке с последующим температурном отжигом.
Рис. 4. Микрофотографии анодных заготовок, полученных методами литья (a, в) и струйной печати (б, г), при двух увеличениях.
Для оптимизации параметров спекания анодной заготовки NiO-GDC был проведен его термогравиметрический анализ (рис. 5). Результаты термогравиметрии показали, что основная потеря массы образца NiO-GDC происходит при температуре 300–450°С. Максимальная потеря массы в ходе термического отжига достигается при ~450°С и составляет 84%, а при более высоких температурах кривая потери массы выходит на плато. Таким образом, для полного удаления органики из образцов, что необходимо для предотвращения деформации при усадке, надо выдерживать их какое-то время в указанном диапазоне температур.
Рис. 5. Термограмма анодной заготовки NiO-GDC.
Для оптимизации режима отжига анодных заготовок варьировали скорость нагрева (1–2°С/мин) и температуру промежуточной выдержки, необходимую для отжига основных органических компонент пасты (300–500°С). Все исследованные режимы температурного отжига анодных заготовок представлены на рис. 6.
Рис. 6. Режимы термического спекания анодных заготовок.
Внешний вид анодных заготовок, изготовленных литьем и струйной печатью, представлен на рис. 7.
Рис. 7. Изображения композитных анодных заготовок, полученных методами литья (a), струйной печати (б) и после отжига по программе 3 (в).
Исследовано также влияние метода изготовления и режима спекания на пористость полученных образцов (табл. 1). В результате проведенных исследований найдены оптимальные условия спекания анодных заготовок: температура промежуточной выдержки напечатанных образцов 250 и 420°С, скорость нагрева 1°С/мин. Это позволяет увеличить пористость анодных заготовок вследствие более медленного режима нагрева-охлаждения и двухступенчатой выдержки для начального отжига органических компонент пасты. Помимо этого, при использовании струйной печати пористость анодной заготовки увеличивается (табл. 1), что, вероятно, связано с менее плотной структурой полученного образца из-за особенностей процесса печати.
Таблица 1. Значения пористости анодных заготовок NiO-GDC
Способ печати и режимы спекания | Пористость, % |
Программа 1, литье | 6 |
Программа 1, струйная печать | 4 |
Программа 2, литье | 3 |
Программа 2, струйная печать | 11 |
Программа 3, литье | 15 |
Программа 3, струйная печать | 25 |
Образец, изготовленный струйной печатью, после отжига при оптимальных условиях (программа 3) был восстановлен в токе водорода. Это было необходимо для того, чтобы исследовать свойства образца в условиях работы ТОТЭ, когда анод находится в восстановительной атмосфере, в результате чего оксид никеля восстанавливается до металла. Процесс восстановления проводили в проточной печи длиной 20 сантиметров. Образцы помещали внутрь кварцевой трубки, поток газа, состоящего из водорода и аргона в объемных соотношениях 1 : 1, регулировали с помощью газового смесителя, расход газа составлял 30 мл/мин. Образец нагревали со скоростью 300°С в час до температуры 600°С. При заданной температуре композит выдерживали 1 ч. Схема проточного реактора приведена на рис. 8.
Рис. 8. Принципиальная схема печи для восстановления анодных заготовок.
На рис. 9 приведены рентгенограммы напечатанного образца до спекания, после спекания в оптимальных условиях (программа 3) и после восстановления спеченного образца. На рентгенограммах видно, что ширина дифракционных пиков образца после спекания уменьшается, следовательно, происходит укрупнение частиц. В образцах исходной пасты и после ее спекания присутствуют только рефлексы, относящиеся к фазам NiO и GDC, тогда как рентгенограмма восстановленного образца содержит рефлексы, принадлежащие фазам Ni и GDC.
Рис. 9. Рентгенограммы образцов NiO-GDC до спекания (а), после спекания (б) и после восстановления спеченного образца при 600°С (в).
Морфология восстановленного образца Ni-GDC исследована методом электронной микроскопии. На рис. 10 приведены микрофотографии полученного анода Ni-GDC при двух увеличениях. Согласно данным РФА и электронной микроскопии, можно сделать вывод о том, что восстановление прошло полностью при сохранении структурной целостности образца. При этом восстановленный анод на микроуровне демонстрирует зернистую структуру, а на макроуровне – наличие сквозных пор и неоднородное распределение никеля по структуре.
Рис. 10. Микрофотографии композитного анода Ni-GDC после восстановления.
При восстановлении наблюдается увеличение пористости; детальные анализ пористости анодов и численные значения будут приведены в отдельной статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для изготовления анода для ТОТЭ разработан и исследован новый состав пасты на основе оксида никеля и оксида церия, стабилизированного гадолинием. Проведена печать трехмерных тестовых образцов с использованием разработанной керамической пасты. Показано, что, используя струйную печать, можно послойно формировать 3D-объекты из паст с различными наполнителями, а последующая термическая обработка позволяет сформировать конечный образец. Исследовано влияние режима термического отжига анодных заготовок на микроструктуру и пористость. Установлено, что использование струйной печати и оптимизация режима термической постобработки (выдержка при 250 и 420°С, скорость нагрева 1°С/мин) позволяют увеличить пористость композита NiO-GDC до 25%. Восстановление анодной заготовки при 600°С в течение 1 ч проходит полностью и без визуальных деформаций.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках государственного задания ИХТТМ СО РАН (проект № 122032900069-8).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Спонсоры не играли никакой роли в разработке исследования, в сборе, анализе или интерпретации данных; в написании рукописи или в принятии решения о публикации результатов.
About the authors
A. D. Asmedianova
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University
Author for correspondence.
Email: asmedianova@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
A. S. Bagishev
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Email: asmedianova@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk
O. A. Logutenko
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Email: asmedianova@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk
A. I. Titkov
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Email: asmedianova@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk
References
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/International Energy Agency (IEA), Key World Energy Statistics 2014, OECD, Paris, 2014.
- Tai, X.Y., Zhakeyev, A., Wang, H., Jiao, K., Zhang, H., and Xuan, J., Accelerating fuel cell development with additive manufacturing technologies: state of the art, opportunities and challenges, Fuel Cells, 2019, vol. 19, no. 6, p. 636.
- Buccheri, M., Singh, A., and Hill, J.M., Anode versus electrolyte-supported Ni-YSZ/YSZ/Pt SOFCs: Effect of cell design on OCV, performance and carbon formation for the direct utilization of dry methane, J. Power Sources, 2011, vol. 196, no. 3, p. 969.
- Bagotsky, V.S., Skundin, A.M., and Volfkovich Y.M., Electrochemical power sources, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA 2015, p. 199–212.
- Shaikh, S.P.S, Muchtar, A., and Somalu, M.R., A review on the selection of anode materials for solid-oxide fuel cells, Renewable Sustainable Energy Rev., 2015, vol. 51, p. 1.
- Iwanschitz, B., Sfeir, J., Mai, A., and Schütze, M., Degradation of SOFC anodes upon redox cycling: a comparison between Ni/YSZ and Ni/CGO, J. Electrochem. Soc., 2010, vol. 157, no. 2, p. B269.
- Pihlatie, M., Kaiser, A., and Mogensen, M., Redox stability of SOFC: thermal analysis of Ni/YSZ composite, Solid State Ionics, 2009, vol. 180, no. 17–19, p. 1100.
- Истомин, С.Я., Антипов, Е.В. Катодные материалы на основе перовскитоподобных оксидов переходных металлов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов. Успехи химии. 2013. Т. 82. Вып. 7. С. 686.
- Weller, C., Kleer, R., and Piller, F.T., Economic implications of 3D printing: market structure models in light of additive manufacturing revisited, Int. J. Prod. Econ., 2015, vol. 164, p. 43.
- Zhongqi, Z.H.U. and Zhiyuan, G.O.N.G., Additive manufacturing of thin electrolyte layers via inkjet printing of highly-stable ceramic inks, J. Adv. Ceram., 2021, vol. 10, no. 2.
- Han, G.D. and Bae, K., Inkjet printing for manufacturing solid oxide fuel cells, ACS Energy Lett., 2020, vol. 5, p. 1586.
- Anelli, S., Rosa, M., Baiutti, F., Torrell, M., Esposito, V., and Tarancon, A., Hybrid-3D printing of symmetric solid oxide cells by inkjet printing and robocasting, Addit. Manuf., 2022, vol. 51, p. 102636.
- Nguyen, X.V., Chang, C.T., Jung, G.B., Chan, S.H., Huang, W.C.W., Hsiao, K.J., Lee, W.T., Chang, S.W., and Kao, I.C., Effect of sintering temperature and applied load on anode-supported electrodes for SOFC application, Energies, 2016, vol. 9, no. 9, p. 701.
- Skalar, T., Lubej, M., and Marinsek, M., Optimization of operating conditions in a laboratory SOFC testing device, Article in Mater. and Technol., 2015, vol. 49, no. 5, p. 734.
- Bagishev, A., Titkov, A., Vorobyev, A., Borisenko, T., Bessmeltsev, V., Katasonov, D., and Nemudry, A., Development of composite electrode materials based on nickel oxide for additive manufacturing of fuel cells, MATEC Web of Conferences, 2021, vol. 340, 01054.
- Багишев, А.С., Мальбахова, И.А., Воробьев, А.М., Борисенко, Т.А., Асмедьянова, А.Д., Титков, А.И., Немудрый, А.П. Послойное формирование композитного анода NiO/CGO для ТОТЭ струйной 3D-печатью в комбинации с лазерной обработкой. Электрохимия. 2022. Т. 58. С. 1.
- Modak, C.D., Kumar, A., Tripathy, A., and Sen, P., Drop impact printing, Nat. Commun., 2020, vol. 11, 4327.
- Song, C., Lee, S., Gu, B., Chang, I., Cho, G.Y., Baek, J.D., and Cha, S.W., A study of anode-supported solid oxide fuel cell modeling and optimization using neural network and multi-armed bandit algorithm, Energies, 2020, vol. 13, no.7, p. 1621.
- Uddin, J., Hassan, J., and Douroumis, D., Thermal Inkjet Printing: Prospects and Applications in the Development of Medicine, Technologies, 2022, vol. 10, p. 6.
Supplementary files

Note
Публикуется по материалам IX Всероссийской конференции с международным участием “Топливные элементы и энергоустановки на их основе”, Черноголовка, 2022.