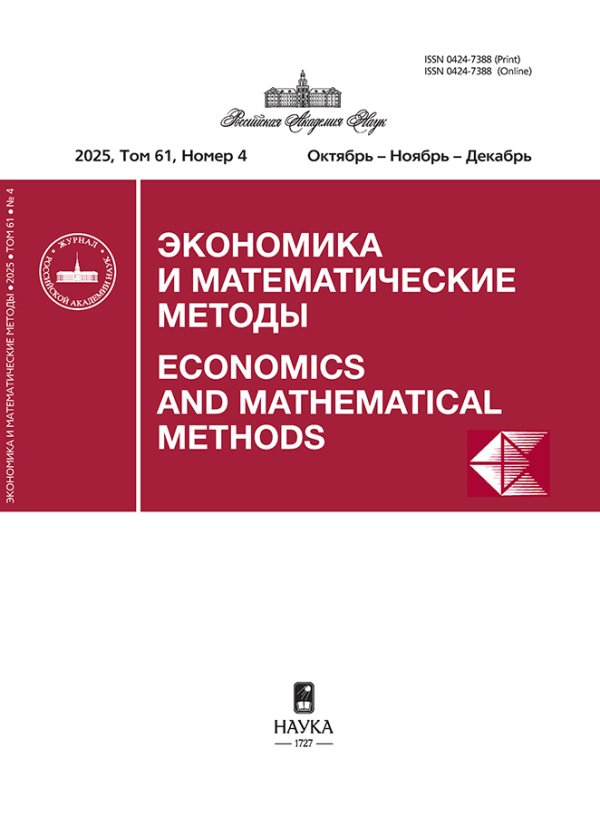Наука, знание и интеллектуальная собственность: десять лет спустя. Часть 1
- Авторы: Рубинштейн А.Я.1, Чуковская Е.Э.2
-
Учреждения:
- Институт экономики РАН
- Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики
- Выпуск: Том 60, № 1 (2024)
- Страницы: 5-16
- Раздел: Теоретические и методологические проблемы
- URL: https://bakhtiniada.ru/0424-7388/article/view/258407
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0424738824010014
- ID: 258407
Полный текст
Аннотация
В первой части статьи представлены результаты теоретико-методологического исследования, основанные на новом взгляде на процессы производства знания в виде общественного блага и его последующей трансформации в частные, мериторные и нормативно-общественные товары, обладающие индивидуальной и социальной полезностью, с акцентом на одну из ветвей этого превращения — публикацию научных статей. Важная особенность данного процесса, отличающая указанный вид деятельности, обусловлена проблемами интеллектуальной собственности и авторского права. Эта область современной науки определяет институциональные условия превращения знания в продукты рыночного обмена. Осуществляемая законодательством об авторских правах защита интеллектуальной собственности породила множество теоретических и практических проблем, связанных с развитием данного института, ограничивающего распространение знания и сужающего его доступность. Особая роль принадлежит развивающейся договорной практике передачи авторских прав издателям, включая вопросы публикационной этики, и особенностям, возникающим в такой ситуации экономических отношений, целесообразной составляющей которой является выплата авторских гонораров и оплата труда рецензентов.
Ключевые слова
Полный текст
Настоящая статья продолжает исследования в рамках разрабатываемой теории гуманитарного сектора патерналистского государства. Основное внимание в данной работе уделено ряду теоретических и методологических аспектов научной деятельности, обеспечивающей производство знания и его распространение. В центре исследования — процессы создания знания и обсуждение места, которое занимают в экономической теории все участники производства, распространения и воспроизводства знания.
Важная особенность данного процесса, отличающая указанный вид деятельности, обусловлена проблемами интеллектуальной собственности и авторского права. Именно эта область современной экономической науки определяет институциональные условия превращения знания в интеллектуальную собственность и его трансформацию в потребительское благо, т. е. в товары и услуги, участвующие в рыночном обмене.
При этом осуществляемая законодательством об авторских правах защита интеллектуальной собственности породила множество теоретических и практических проблем, связанных с развитием данного института, ограничивающего распространение знания и сужающего его доступность. В этом контексте особая роль принадлежит развивающейся договорной практике передачи авторских прав и особенностям возникающих в такой ситуации экономических отношений.
1. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЯ
Так случилось, что экономисты стали чаще рассматривать науку с прагматических позиций получения новых результатов, обеспечивающих развитие различных направлений как самой науки, так и ее приложений, касающихся экономического роста и инноваций в различных секторах экономики (Иванова, 2002; Макаров, 2003; Макаров, Клейнер, 2007; Экономика знаний, 2008; Мильнер, 2003, 2009; Гохберг, 2012). При этом экономическая теория не обошла и проблем производства знания, его воспроизводства, распространения и сохранения (Machlup, 1962, 1984; Maunoury, 1972; Foray, Mairesse, 1998; Foray, 2004). И все же для нового столетия характерным стало усиленное внимание к распространению знания в отрыве от процессов его производства.
1.1. О категории «знание»
Анализируя практику научной деятельности последних десятилетий, подчеркнем, что «патернализм в любой его форме представляет собой навязывание установок “патера”» (Гуманитарный сектор …, 2023, с. 74). Здесь, по существу, и проявляется феномен государственного патернализма, который, так или иначе, ограничивает свободу индивидуумов. В этом контексте отметим, что гражданское общество не сумело противостоять эскалации патерналистского государства с самовозрастающей бюрократией и ликвидацией ряда институтов самоуправления.
И начать, наверное, следует с Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ. Реорганизация РАН с подчинением академических институтов сначала ФАНО, а затем Министерству науки и высшего образования РФ (Минобрнауки), завершилась закреплением вмешательства государства в научную жизнь страны (Рубинштейн, Городецкий, 2018, с. 41).
Усомнившись в эффективности самостоятельной науки, патерналистское государство стало внедрять методы управления, позволяющие, особо не вникая в содержание работ, их новизну и научную ценность, решать на основе разного рода формальных показателей, какие публикации и их авторы важнее для развития науки. Все это трансформировалось в возрастающие требования к публикационной активности и процветанию наукометрии, показатели которой превратились в бюрократические нормы. Их выполнение стало фактически основным содержанием государственных заданий, а введение зависимости оплаты труда от числа публикаций и их цитирования по сути определило публикационную активность в качестве главной мотивации научных работников.
Создание знания. С учетом этого попытаемся обсуждение публикационной активности вернуть к исходному состоянию, выделив процесс создания знания, без которого публикации превращаются в собрание пустых статей в мусорных журналах. Остановимся в связи с этим на самой категории знания, которое создатели «Экономики знаний» рассматривали в качестве общественного блага с его известными свойствами неисключаемости и несоперничества: «Если благо кому-то доступно, то оно должно быть доступно всем, его потребление кем-то одним не может препятствовать потреблению других» (Блауг, 1994, с. 550). В дополнение к этому ряд авторов указывают еще на одну фундаментальную особенность, которая проявляется в возможности многократного использования знания, способствующего его накоплению (Machlup, 1984; Foray, 2004).
Следует отметить также, что одним из главных трендов развития экономики знания с середины XX в. стали теоретические решения, направленные на рыночное использование знания посредством его персонализации и превращения в частные товары и услуги. Методологически эффективным решением этой задачи стало разделение процесса создания знания на несколько подсистем (Maunoury, 1972; Foray, Mairesse, 1998). Речь идет о производстве знания в процессе академических исследований (университетов и научных центров), распространении знания в результате публикационной активности (журналы и книги), его воспроизводстве в системе образования и сохранении в архивах и библиотеках. Имея это в виду, остановимся на академических исследованиях, в процессе которых создается знание.
Важное место в этом смысле принадлежит концепции «рассеянного знания» Фридриха Хайека, представленной в статьях «Экономическая теория и знание» (1936) и «Использование знания в обществе» (1945), вошедших в виде отдельных глав в (Хайек, 2001, с. 51–71, 89–101). Особенность данной концепции заключена в главном тезисе автора о том, что знание не существует в явно выраженном виде, а рассеяно между людьми и существует только в их сознании и мышлении.
При этом сам Хайек явно сужает возможности применения своей концепции и ограничивает процессы выявления «рассеянного знания» институтом рыночной конкуренции: «Процедуры для открытия таких фактов, которые без обращения к ней оставались бы никому не известными или, по меньшей мере, не используемыми» (Хайек, 1989, с. 6). Кажется очевидным, что «рассеянное знание» и его выявление имеют более общую природу, относящуюся, по-видимому, ко всем жизненным сферам человека, включая интеллектуальную деятельность и творческий труд. Поэтому нетрудно согласиться и с необходимостью «расширить суть «рассеянного знания», сводившегося Ф. Хайеком к «экономическому знанию рынка» (Бочко, 2010, с. 7).
Особый смысл идеи «рассеянного знания» приобретают в анализе интеллектуальной деятельности, связанной с обобщением категории знания, его погружением в «фоновое пространство значений, существующее вне голов индивидуумов» (Витгенштейн, 1994, 2009). Иллюстрируя теорию Л. Витгенштейна, Ч. Тейлор в работе (Тейлор, 2001, с. 10) отметил: «Мысли подразумевают и требуют фонового пространства значений для того, чтобы быть теми мыслями, которыми они являются». Процитируем в связи с этим и Доминика Форэя: «Наиболее характерной особенностью знания являются его включенность в мыслях и поступках, и его невидимость» (Foray, 2004, p. 8).
К этому добавим, что частицы «рассеянного знания» — индивидуальные знания, выступая в форме обособленных элементов совокупного знания социума, принадлежат исключительно своему носителю. «Индивидуальное знание обладает уникальностью в том смысле, что оно недоступно никому другому, кроме самого обладателя» (Бочко, 2010, с. 8). Указанная особенность является естественной предпосылкой для формирования интеллектуальной собственности. При этом важным является следующее замечание: «Знание появляется только тогда, когда оно выражено и записано, и когда становится возможным закрепить за ним право собственности» (Foray, 2004, p. 9). Иначе говоря, чтобы результаты творческого труда исследователей стали знанием, они должны пройти процесс его проявления — экстериоризации, т. е. их вывода из неявного состояния в явное (Nonaka, Takeuchi, 1995).
Речь идет о создании научных текстов, где зафиксировано знание с присущими ему свойствами общественного блага. Как подчеркивает В. Л. Макаров, «знания, подобно другим общественным (публичным) благам, будучи созданными, доступны всем без исключения» (Макаров, 2003). Однако на этом процесс производства знания не заканчивается. Дальнейшая его эволюция обусловлена институциональными решениями, такими, например, как введение законодательства об интеллектуальной собственности, превращающего научные тексты в частные блага и формирующего основу рынка публикаций.
Одним из следствий такой эволюции является различие между индивидуальной и социальной полезностью частных благ — созданных научных текстов, между интересами авторов и общества в распространении знания. В нашем же случае указанное различие в оценке полезности научных текстов обусловлено, как правило, неодинаковым отношением не столько к самому знанию, сколько к его распространению. При этом научным журналам, в общем случае — издателям, представляющим важнейший канал его распространения, ориентирующимся на рыночный спрос, кроме индивидуальной полезности публикаций, обуславливающих этот спрос, надо иметь в виду мериторные потребности общества и государства, которые непосредственно связаны с интересами более широкого распространения знания (Musgrave, 1959).
Мы полагаем, что в этом проявляется и проблема публикационной активности, решение которой не может пройти мимо социальной полезности научных текстов без соответствующих экспертных заключений даже для статей с самым высоким научным авторитетом их авторов. Следует отметить, что научная деятельность уже давно использует весьма эффективные процедуры оценки качества работ, подготовленных для публикации. Речь идет об обсуждении результатов исследований и произведенного знания на заседаниях ученых советов, научных семинарах и конференциях, а также, подчеркнем это особо, в результате независимого рецензировании рукописей статей, направленных для публикации. В этой ситуации роль журналов трудно переоценить. От выбора квалифицированных рецензентов и их добросовестности зависит, по существу, мера адекватности в оценке качества публикации и полезности распространения знания в виде научного текста.
1.2. Мериторизация знания
Экономическая теория знания и продолжение исследований в этой области могут послужить основой для институциональной модернизации системы распространения знания. Речь идет о публикационной активности и, в частности, о научных журналах, задачей которых является распространение знаний и обеспечение информационной коммуникации между учеными. При этом журнальные публикации, как уже отмечалось, принадлежат классу мериторных благ, обладающих индивидуальной и социальной полезностью, — способностью удовлетворять потребности научных работников и общества в целом. В зависимости от нормативных установок, обусловленных стремлением расширить доступность журнальных публикаций для научных работников, мериторизация продукции журналов может увеличиваться. Следует особо выделить предельный случай, когда государство стремится максимально расширить распространение знания, создавая условия для неисключаемости и несоперничества в потреблении, обеспечивая тем самым его полную доступность. В этой ситуации журнальная продукция трансформируется в нормативно-общественное благо (рисунок).
Рисунок. Общая схема эволюции знани
В отличие от классических общественных товаров (в нашем случае — произведенное знание), неделимых по своей природе и исходно обладающих свойствами неисключаемости и несоперничества в потреблении, нормативно-общественные блага (например, журналы открытого доступа), оставаясь делимыми, приобретают указанные свойства в результате мериторных действий государства, направленных на достижение соответствующих целевых установок общества, формируемых политической системой. В общем виде этот процесс можно представить в виде последовательной цепочки мериторизации изначально частного блага.
Следует обратить внимание и на обратный процесс. Мериторные, нормативно-общественные блага и классические общественные блага в результате специальных действий государства могут превратиться в обычные делимые частные блага. При этом трансформация мериторных и нормативно-общественных благ в частные товары и услуги происходит в результате утраты их социальной полезности и прекращения государственного финансирования. Что же касается индивидуализации классических общественных товаров (в нашем случае — «знания»), то здесь необходимо осуществление специальных мер, в том числе введение института интеллектуальной собственности, превращающего авторские тексты в пучок частных благ.
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЯ
Термин «интеллектуальная собственность» заявлен в статье 44 Конституции Российской Федерации, определен в статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Наиболее распространенной подсистемой интеллектуальных прав в отношении научных публикаций является авторское право, регулирующее отношения по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства, но может действовать и патентное право, и ноу-хау. Все эти правовые институты содержатся сегодня в части четвертой ГК РФ.
Правомочия в отношении результата своего творческого труда беспокоили авторов со времен Античности (Липцик, 2002; Чуковская, 2017), но законодатель обратил внимание на необходимость регулирования создания и использования плодов интеллекта лишь с появлением рынка их экземпляров. Первое время для создания комфортных условий и защиты от конкурентов издатели обходились разовыми привилегиями. С развитием же рынка печатных книг стала очевидной необходимость установления единообразных, а главное — общеобязательных правил. Причем основными заинтересованными лицами были не авторы, и даже не издатели, а общество в целом.
Первый известный закон об авторском праве — Статут королевы Анны 1710 г. — преследовал отнюдь не цель охраны интересов авторов, это было лишь одним из средств «поощрения учености» и стимулирования развития издательского рынка (Алябьева, 2004). Статут устанавливал монополию автора на определенный срок и право на получение вознаграждения от продажи каждого экземпляра (это, собственно, и означает copyright — право на копию). И хотя Великобритания — не самая подходящая страна для родоначальницы юридической отрасли в силу правовых традиций, идеи, заложенные в первом авторско-правовом законе, впоследствии были заимствованы иностранными юрисдикциями и доказали свою жизнеспособность. В современном виде конструкция авторских правомочий появилась в декретах Великой французской буржуазной революции 1791 и 1793 г., в которой право автора не ограничивается возможностью получения вознаграждения, а базируется на неотчуждаемых личных правах: авторстве, свободе указывать имя, соблюдении неприкосновенности результата творческой деятельности.
Следует отметить, что в отношении оплаты интеллектуального труда — закон дает автору только возможность требовать от пользователя гонорар, определяемый, как правило, договором, но не запрещает безвозмездно разрешать распространение произведения. При этом законодательство устанавливает одновременно зоны использования без согласия автора и выплаты вознаграждения, если усматривает превалирование общественного интереса (социальной полезности) над личным: цитирование, иллюстрирование учебных изданий и записей и пр.
2.1. Интеллектуальные права
Законодательство устанавливает власть автора над результатом своего интеллектуального труда, включающую монополию на него и свободу распорядиться его судьбой. Установленные законодательством авторские правомочия делятся на три категории: личные неимущественные права, исключительное право, являющееся правом имущественным, и иные (другие) права (Грибанов, 2020; Дозорцев, 2003; Гаврилов, 2015).
Первая категория — бессрочные и неотчуждаемые личные неимущественные права: право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения и защиту его от искажений. Кроме этой триады правомочий к личным неимущественным правам относят право на обнародование произведения, т.е. совершение или согласие на совершение действия, которое делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования либо любым другим способом. Следует отметить также, что с правом на обнародование связана серьезная коллизия авторского права со специальным законодательством, регулирующим отношения в сфере науки (Романовская, Артемова, 2021).
Случаи свободного использования в подавляющем большинстве относятся к обнародованным произведениям, когда автор уже дал принципиальное согласие на использование результата своего творческого труда тем или иным способом. В советское время выход произведения на правах рукописи сохранял право автора претендовать на полный гонорар. Отметим, что сегодня такое право распространяется на публикации со статусом «препринт».
Вторая категория — исключительное право, являющееся правом имущественным, составляет, по мнению большинства специалистов (Орехов, 2017; Дозорцев, 2003; Карапетов, 2016), экономическое «оправдание» (обоснование) интеллектуальных прав. До 2008 г. эта категория авторских правомочий не представлялась единым и неделимым конгломератом, а состояла из «букета» самостоятельных прав, соответствующих способам использования произведения. Предложенная четвертой частью ГК РФ конструкция имущественных прав сузила спектр традиционных для российской практики вариантов распоряжения судьбой произведения. При этом в форме правовых обычаев, а с 2014 г. – и законодательных моделей, стали возникать новые способы коммерциализации и безвозмездного продвижения результатов творческой деятельности, в частности, свободные и открытые лицензии, цифровые сделки, смарт-контракты, что обусловлено смещением распространения результатов творческой деятельности из аналоговой среды в цифровую.
Следует подчеркнуть, что исключительное право состоит в законной возможности автора использовать результат своей творческой деятельности в любой форме и любым способом, разрешать такое использование третьим лицам или запрещать его. Неисчерпывающий перечень таких способов содержится в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. В других статьях ГК РФ на практике встречаются и иные способы, например включение произведения в сборники в неизменном виде без переработки, редакторской правки и пр. Законодатель специально устанавливает, что применение положений, составляющих содержание произведения, в том числе представляющих техническое, экономическое, организационное или иное решение, не является использованием произведения. При этом механизмы защиты сути результата интеллектуальной деятельности, а не средств его выражения при экстериоризации, давно является предметом специальных научных исследований (Ревинский, 2022; Гаврилов, 2016).
Исключительное право является имущественным, потому что его использование приносит правообладателю доход, либо за выдачу разрешения он может требовать с потенциального пользователя выплату вознаграждения. Устанавливая имущественные правомочия автора, законодатель обеспечивает ему возможность заработка творческим трудом, без поиска иных источников дохода. Отметим здесь, что современные подходы к исключительному праву отличаются некоторым пренебрежением к вознаграждению автора, в том числе допуская безвозмездную передачу исключительного права или безвозмездную лицензию на использование произведения (за небольшими исключениями).
К сожалению, легальное допущение безвозмездного оборота стало плохим примером для подражания: журналы вместо выплаты гонорара предлагают часто платные услуги — размещение статей; издательства печатают книги «за счет средств автора» и т. п. Сторонники таких практик оправдывают их сутью рынка, правила диктует тот, в ком другая сторона больше заинтересована, а правовую форму отношений можно подобрать не только из имеющегося арсенала, но и сконструировать, используя один из фундаментальных принципов гражданского права. «Разрешено все, что прямо не запрещено» и норму статьи 8 ГК РФ, устанавливающую, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Отметим, однако, что то же самое гражданское законодательство признает ничтожными притворные (т. е. прикрывающие иные правовые намерения) и кабальные сделки.
Третья категория — иные или другие права — объединяет разнородные правомочия авторов в отношении результатов их творческой деятельности, не поместившиеся в две предыдущие категории и не имеющие универсального характера. Из всего многообразия таких полномочий в свете данного исследования определенный интерес представляет лишь право автора-работника на получение вознаграждения за использование результата творческой деятельности, созданного в рамках исполнения трудовых обязанностей.
Обеспечение интересов общества. Сложившуюся за три века существования и непрерывной модернизации систему интеллектуальных прав часто обвиняют в создании препятствий для распространения знания, в том числе для реализации конституционных прав на доступ к информации, культурным ценностям, свободу слова (Чуковская, Засурский, 2019; Трищенко, 2016), и даже в посягательстве на право на медицинскую помощь. При этом авторско-правовое законодательство (как национальное, так и международное) содержит ряд ограничений интересов правообладателя в интересах науки и образования (Исключительное право правообладателя …, 2019). Возможность свободного использования призвана обеспечить интересы общества в тех случаях, когда они превалируют над интересами автора. Вслед за нормами международных договоров статья 1229 ГК РФ определяет, что ограничения исключительных прав устанавливаются только в определенных законом случаях.
Максимально широкие возможности распространения знания предоставлены режимом свободного цитирования. Так, пунктом 1 статьи 1274 без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты кому бы то ни было вознаграждения допускается цитирование в научных, информационных, учебных целях, а также в целях раскрытия творческого замысла автора. Закон устанавливает несколько дополнительных условий. Во-первых, цитировать можно только обнародованные произведения, во-вторых, не только текстовые произведения, в-третьих, цитируя, можно использовать только фрагменты произведения в оригинале или переводе, но не в переработке, в-четвертых, цитата будет считаться таковой, если указано имя автора, произведение которого используется, и источник заимствования, в-пятых, законодательство не содержит каких-либо нормативов или ограничений в объеме цитирования (страниц, знаков, слов и т. п.).
Как видно из приведенных норм, авторское законодательство поощряет цитирование, хотя и относит такой формат использования охраняемых произведений к особым и определенным случаям. Следует подчеркнуть, что законодательство не устанавливает никаких авторско-правовых ограничений для самоцитирования. В этом контексте многие исследователи-юристы (Гаврилов, 2018; Витко, 2017) отмечают коллизию авторско-правовых дозволений с нормами и обычаями, сложившимися в сфере приемки научных и квалификационных работ к публикации. Более того, в самом названии наиболее распространенного сервиса юристы изначально усматривают «обвинительный уклон»: ведь легальная дефиниция плагиата содержится только в Уголовном кодексе Российской Федерации (часть 1 статьи 146). Похоже, что инициаторы такой практики, очевидно, забыли о презумпции невиновности (статья 49 Конституции Российской Федерации).
Проблемы публикационной этики. Эта тема, строго говоря, находится за пределами законодательства об интеллектуальной собственности и авторского права. Поэтому здесь вполне уместно ставить вопрос, что же составляет ее содержание. Можно допустить, что применительно к публикациям общих этических принципов не существует и каждый издатель вправе устанавливать свои правила. При этом практика управления наукой, как отмечалось выше, вывела на авансцену публикационную активность, выраженную исключительно в количественных показателях. Ее прямым следствием стала трансформация этической политики в лексике многих научных журналов в проксиэтику цифровых норм: установление максимального объема текста научной статьи, максимального процента самоцитирования, минимального числа послестатейных списков литературы, минимального числа ссылок на зарубежных авторов и, что особенно удивительно, — минимальной нормы оригинальности работы, которая в числовом выражении существовать просто не может.
Мы не склонны в этом винить процесс глобальной цифровизации, но создание программных продуктов, обеспечивающих сравнительно легкий инструментарий для определения различных числовых характеристик научных текстов: всякого рода индексов цитирования (импакт фактор, индекс Хирша, индекс Херфиндаля и т. п.) — задвинуло на второй план содержательные критерии оценки качества научных исследований и роль ученых советов.
И, пожалуй, главную роль в появлении «арифметической этики» сыграла уже упоминавшаяся коммерческая компьютерная программа «Антиплагиат», которая позволяет за небольшие деньги, но очень многим организациям без особых интеллектуальных усилий выявлять заимствования чужих текстов. Но неожиданно основная практика использования этого компьютерного ресурса оказалась за пределами объявленной цели, что, собственно, и можно назвать причиной цифровизации публикационной этики ряда издателей. И хотя нет смысла критиковать soft, созданный для решения других задач, все же полезно выяснить мнение экспертов на этот счет.
Анализ результатов социологического исследования свидетельствует о том, что лишь немногим более 20% респондентов указали на соответствие результатов назначению программы — «… объективно выявлять плагиат в научных работах». В остальном же мнение экспертов оказалось исключительно негативным. Так, 48,6% общего числа респондентов и среди них 62,4% участников Российского экономического конгресса 2023 г. указали, что программа не отличает заимствования чужих текстов (плагиат) от использования фрагментов прежних авторских текстов» (табл. 1).
Таблица 1. Достоинства и недостатки программы «Антиплагиат»
Варианты ответов на вопрос анкеты | I волна | II волна | Всего, % |
Члены НЭА, % | Участники РЭК, % | ||
Программа не отличает заимствования чужих текстов (плагиат) от использования фрагментов прежних авторских текстов | 40,9 | 62,4 | 48,6 |
Программа формально устанавливает текстуальные совпадения | 56,2 | 16,0 | 41,9 |
В программе неправомерно используется термин «оригинальность», который указывает лишь на меру технических несовпадений текстов | 42,0 | 35,6 | 39,7 |
Программа бесполезна без субъективных оценок человека, интерпретирующего текстуальные совпадения | 34,2 | 40,8 | 36,6 |
Это первая программа, позволяющая объективно выявлять плагиат в научных работах | 18,0 | 24,8 | 20,4 |
Мне не доводилось сталкиваться с результатами работы этой программой | 9,1 | 34,0 | 18,0 |
При этом 36,6% экспертов отмечают, что программа бесполезна без субъективных оценок не всегда квалифицированного человека, интерпретирующего текстуальные совпадения. Но, пожалуй, главный недостаток этой компьютерной программы обусловлен тем, что в ней неправомерно используется термин «оригинальность». На это указали 42,0% членов Новой экономической ассоциации (НЭА) и 45,6% участников Российского экономического конгресса (РЭК). Цифровой вердикт «оригинальности» научного текста, никак не опирающийся на мнение рецензентов, стал, к сожалению, нормой сложившейся практики большинства журналов.
2.2. Договорные отношения
Все, что выходит за рамки допустимого свободного использования, требует договорного урегулирования. Именно на этих основаниях научные журналы публикуют статьи и материалы (приобретая, кстати, и дополнительные права и обязанности в силу закона). Договор является основным средством установления гражданско-правовых отношений, которые возникают из договоров и иных сделок, как предусмотренных, так и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Вопросы создания и распространения знания могут рассматриваться не только в рамках договорных конструкций, предложенных частью четвертой ГК РФ для регулирования отношений по поводу создания и использования результатов интеллектуального труда, но также в рамках иных гражданско-правовых договоров, предусмотренных частью второй ГК РФ, и в частности главы 38 о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Договор считается заключенным, когда стороны в надлежащей форме договорились о существенных условиях. Универсальной формой авторского договора является простая письменная форма, причем допустимо как составление единого документа, завершающегося подписями сторон, так и обмен письмами, в которых изложены существенные условия договора. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, в том числе в научных журналах, может быть заключен и в устной форме.
Открытые лицензии в российском законодательстве прописаны впрямую, в соответствии со статьей 1286.1 ГК РФ лицензиар (автор или иной правообладатель) может предложить неопределенному кругу лиц использовать принадлежащее ему произведение на условиях в установленных им пределах, касающихся способов использования, срока и территории, причем ознакомиться с такими условиями потенциальный лицензиат должен до начала использования. Открытые лицензии могут быть только неисключительными и представляют собой договор присоединения, когда только одна сторона — правообладатель — вырабатывает (и диктует) условия использования, а вторая сторона — потенциальный пользователь — лишь присоединяется к ним (или не присоединяется, а пытается установить с автором индивидуальные, более подходящие ему правоотношения).
Обратим внимание, что открытая лицензия предполагает инициативу автора, а не издателя или другого пользователя, поэтому под эту ситуацию не подпадают правила публикаций, вывешенные на сайтах журналов. Их в лучшем случае можно считать офертой (статья 435 ГК РФ), но дополнительное оформление все равно требуется. Закон устанавливает и особенности издательского лицензионного договора (статья 1287 ГК РФ), наделяя пользователя не только правами, но (обратим на это особое внимание) и обязанностями использовать произведение не позднее срока, установленного в договоре, либо срока, обычного для определенного вида произведений и способа их использования, к примеру публикации журнальной статьи.
Договорами присоединения также являются пользовательские и лицензионные соглашения различных интернет-ресурсов, платформ и т. п. Многие критики сложившейся практики оборота прав в Интернете сетуют на подмену общеобязательного апробированного государством регулирования правилами, навязываемыми корпорациями; другие отмечают информационную асимметрию и порок воли сторон, можно ли считать осознанным нажатие на кнопку «согласен» под пользовательским соглашением, число слов в котором сравнимо с крупными произведениями Пушкина или Шекспира.
Исходя из принципа «все, что не запрещено — разрешено», закон устанавливает минимальные требования к содержанию авторских договоров (статьи 1233–1238, 1285–1290 ГК РФ). Следует обратить внимание, что в договорах запрещены манипуляции с неимущественными правами. Также пунктом 4 статьи 1233 ГК РФ любые договорные условия, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны, поскольку это расценивается как посягательство на декларированную частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации свободу творчества.
Основной выбор будущих партнеров состоит в определении предмета договора: отчуждение исключительного права, когда автор передает пользователю исключительное право в полном объеме без ограничения срока, территории и способов использования, либо полная, исключительная или простая лицензия, когда исключительное право сохраняется за автором, а договор определяет пределы использования произведения и может устанавливать различные ограничения по способам использования, сроку и территории. Авторские договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными, но уж точно ни одна модель авторского договора не допускает выплаты автором пользователю. В отношениях между коммерческими юридическими лицами безвозмездные договоры отчуждения и полной лицензии запрещены, причем этот запрет распространяется и на случаи, когда автор ради минимизации налогов выступает в качестве индивидуального предпринимателя.
Во всем, что не урегулировано договором, его стороны руководствуются действующим законодательством. Но и в нем нет ответов на все вопросы, именно поэтому так важна роль договоров — они восполняют законодательные пробелы и умолчания в каждом конкретном случае. Все, что стороны считают важным и принципиальным, должно быть включено в договор, в том числе положения, формулируемые журналами в своих локальных актах и стандартах, в частности правила публикационной этики и любые ограничения, налагаемые на авторов и результаты их научной деятельности, иначе эти положения не станут нормой для обеих сторон договора. Автор руководствуется только общеобязательными нормами закона и индивидуально-правовыми нормами подписанного им договора.
Вырабатывая условия договоров, журналы скорее подсматривают нормы друг у друга, чем моделируют необходимую себе конструкцию. Скрупулезный анализ условий публикаций в ведущих российских журналах еще предстоит провести, но даже при беглом прочтении видно, что выбираемые модели (особенно отчуждение прав для разового использования) не во всем оправданы и не обеспечивают интересов ни автора, ни самого издателя, ни потенциальной аудитории.
Российское авторско-правовое законодательство придает издателям особый статус, причем наделяя не только дополнительными обязанностями, но и правами. Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 1260 ГК РФ издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, журналов и других периодических изданий принадлежит право использования таких изданий, причем по идее законодателя это право не ущемляет исключительного права автора и не вступает в конфликт с правами самого издателя (исключительным или правом использования), приобретенными издателем по договору.
Кроме того, у издателя возникает квазинеимущественное право (подобное праву работодателя) при любом использовании издания указывать свое наименование или требовать его указания. Нет однозначного ответа на вопрос, может ли считаться отдельное включенное произведение (статья, глава, раздел и т. п.) частью такого издания, поскольку в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ авторское право распространяется не только на целый объект, но и на его часть, а в этом случае интересы автора и издателя могут вступить в противоречие. Последний абзац пункта 7 статьи 1260 ГК РФ указывает, что авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения, включенные в энциклопедии, энциклопедические словари, периодические и продолжающиеся сборники научных трудов, журналы, сохраняют эти права, независимо от права издателя или других лиц на использование таких изданий в целом, за исключением случаев, когда эти исключительные права были переданы издателю или другим лицам, либо перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом. Однако вопрос вторичного использования остается весьма острым.
Как следует из вышеизложенного, в отношении результатов научной деятельности российское законодательство дает автору наибольший выбор модели охраны, устанавливает баланс интересов исследователя и общества в целом. Однако не на все вопросы есть однозначные ответы, в том числе и в судебных актах, к тому же помимо интеллектуально-правовых норм, на правоотношения в сфере создания и использования результатов научных исследований воздействуют и иные законы, часто вступающие в коллизию между собой, но это — предмет другого исследования.
В заключение этой части статьи следует коснуться отношений автора с издателем. Повторим еще раз — для того чтобы стать нормой, регулирующей отношения автора и издателя, правила публикационной этики должны быть включены в договор. При этом договор с издателем не является договором присоединения, обе стороны вправе предлагать условия. Кабальный договор может быть признан недействительным. Договор считается заключенным, когда стороны договорились о существенных условиях в надлежащей форме.
Об авторах
А. Я. Рубинштейн
Институт экономики РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: arubin@aha.rul
Россия, Москва
Е. Э. Чуковская
Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики
Email: echukovskaya@yandex.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Алябьева Л. А. (2004). Литературная профессия в Англии в XVI–XIX веках. М.: Новое литературное обозрение. 397 c. [Alyabyeva L. A. (2004). Literary profession in England in the XVI–XIX centuries. Moscow: New Literary Review. 397 p. (in Russian).]
- Блауг М. (1994). Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд. 549 с. [Blaug M. (1994). Economic thought in retrospect. Moscow: Delo LTD. 549 p. (in Russian).]
- Бочко B. C. (2010). Рассеянное знание и проблема скоординированного развития экономики // Известия УрГЭУ. Т. 3 (29). С. 5–16. [Bochko B. C. (2010). Dispersed knowledge and the problem of coordinated development of the economy. Journal of the Ural State University of Economics (Journal of New Economy), 3 (29), 5–16 (in Russian).]
- Витгенштейн Л. (1994). Философские работы. Пер. с нем. Ч. I. М.: Гнозис. [Wittgenstein L. (1994). Philosophical Works. Transl. from German. Part I. Moscow: Gnosis (in Russian).]
- Витгенштейн Л. (2009). Логико-философский трактат. Пер. с нем. М.: Наука. [Wittgenstein L. (2009). Tractatus Logico-Philosophicus. Transl. from German. Moscow: Nauka. Originally published in 1958 (in Russian).]
- Витко В. С. (2017). О признаках понятия «плагиат» в авторском праве. М.: Статут. [Vitko V. S. (2017). On the signs of the concept of “plagiarism” in copyright law. Moscow: Statut (in Russian).]
- Гаврилов Э. П. (2015). Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. М.: Юрсервитум. [Gavrilov E. P. (2015). Intellectual property law. General provisions. XXI century. Moscow: Yurservitum (in Russian).]
- Гаврилов Э. П. (2016). Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век. М.: Юрсервитум. [Gavrilov E. P. (2016). Intellectual property law. Copyright and related rights. XXI century. Moscow: Yurservitum (in Russian).]
- Гаврилов Э. П. (2018). Право интеллектуальной собственности. XXI век. Комментарий к законодательству и научно-практические материалы. М.: Юрсервитум. [Gavrilov E. P. (2018). Intellectual property law. XXI century. Commentary on the legislation and scientific and practical materials. Moscow: Yurservitum (in Russian).]
- Гохберг Л. М. (ред.) (2012). Экономика знаний в терминах статистики: наука, технологии, инновации, образование, информационное общество: словарь. М.: Экономика. 240 с. [Gokhberg L. M. (ed.) (2012). Knowledge economy in statistical terms: Science, techno-technologies, innovations, education, information society: dictionary. Moscow: Ekonomika. 240 p. (in Russian).]
- Грибанов В. П. (2020). Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут. [Gribanov V. P. (2020). Implementation and protection of civil rights. Moscow: Statute (in Russian).]
- Гуманитарный сектор патерналистского государства (2023). Под ред. А. Я. Рубинштейна. СПб.: Алетейя. 300 с. [Humanitarian sector of the paternalistic state (2023). A.Ya. Rubinstein (ed.). Saint Petersburg: Aleteia. 300 p. (in Russian).]
- Дозорцев В. А. (2003). Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: Статут. [Dozortsev V. A. (2003). Intellectual rights: Notion. System. Codification tasks. Moscow: Statute (in Russian).]
- Иванова Н. И. (2002). Национальные инновационные системы. М.: Наука. 244 с. [Ivanova N. I. (2002). National innovation systems. Moscow: Nauka. 244 p. (in Russian).]
- Исключительное право правообладателя и интересы общества: пути достижения баланса (2019). Под ред. С. Б. Кокиной. М.: Юрсервитум. [Exclusive right of the right holder and the interests of society: Ways to achieve balance (2019). S. B. Kokina (ed.). Moscow: Jurservitum (in Russian).]
- Карапетов А. Г. (2016). Экономический анализ права. М.: Статут. [Karapetov A. G. (2016). Economic analysis of law. Moscow: Statute (in Russian).]
- Липцик Д. (2002). Авторское право и смежные права. М.: Ладомир, Издательство ЮНЕСКО. [Liptsik D. (2002). Copyright and related rights. Moscow: Ladomir, UNESCO Publishing House (in Russian).]
- Макаров В. Л. (2003). Экономика знаний: уроки для России // Вестник Российской академии наук. Т. 73. № 5. С. 450. [Makarov V. L. (2003). Knowledge economy: The lessons for Russia. Herald of the Russian Academy of Sciences, 73, 5, 450 (in Russian).]
- Макаров В. Л., Клейнер Г. Б. (2007). Микроэкономика знаний. М.: Экономика. 204 с. [Makarov V. L., Kleiner G. B. (2007). Microeconomics of knowledge. Moscow: Ekonomika. 204 p. (in Russian).]
- Мильнер Б. З. (2003). Управление знаниями: Эволюция и революция в организации. М.: Инфра-М. 177 с. [Milner B. Z. (2003). Knowledge management: Evolution and revolution in organization. Moscow: Infra-M. 177 p. (in Russian).]
- Мильнер Б. З. (ред.) (2009). Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. М.: ИНФРА-М. [Milner B. Z. (2009). Innovation development. Economics and knowledge management. Moscow: Infra-M (in Russian).]
- Орехов А. М. (2017). Интеллектуальная собственность: эскизы общей теории. М.: Инфра-М. [Orekhov A. M. (2017). Intellectual property: Sketches of the general theory. Moscow: Infra-M (in Russian).]
- Ревинский О. В. (2022). Право на идею? М.: Юрсервитум. [Revinsky O. V. (2022). Right to the idea? Moscow: Yurservitum (in Russian).]
- Романовская О. В., Артемова Д. И. (2021). Правовое регулирование научной деятельности. М.: Проспект. [Romanovskaya O. V., Artemova D. I. (2021). Legal regulation of scientific activity. Moscow: Prospect (in Russian).]
- Рубинштейн А. Я., Городецкий А. Е. (2018). Государственный патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых благ // Журнал институциональных исследований. Т. 10. № 4. С. 38–57. [Rubinstein A. Ya., Gorodetsky A. E. (2018). State paternalism and paternalistic failure in the theory of patronage benefits. Journal of Institutional Studies, 10, 4, 38–57 (in Russian).]
- Тейлор Ч. (2001). Неразложимо социальные блага // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. № 4 (18). С. 7–18. [Taylor C. (2001). Indivisibly social goods. NZ. Debates on Politics and Culture, 4 (18), 7–18 (in Russian).]
- Трищенко Н. Д. (2016). Открытый доступ к науке: анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена знаниями. М.: Ассоциация интернет-издателей. Кабинетный ученый. [Trishchenko N. D. (2016). Open access to science: Analysis of advantages and ways of transition to a new model of knowledge sharing. Moscow: Association of Internet Publishers. Cabinet Scientist (in Russian).]
- Хайек Ф. А. (1989). Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения. № 12. C. 6–14. [Hayek F. A. (1989). Competition as a procedure of discovery. World Economy and International Relations, 12, 6–14 (in Russian).]
- Хайек Ф. А. (2001). Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф. [Hayek F. А. (2001). Individualism and economic order. Moscow: Izograf (in Russian).]
- Чуковская Е. Э. (2017). Право творчества. Женева: WIPO. [Chukovskaya E. E. (2017). The right to creativity. Geneva: WIPO (in Russian).]
- Чуковская Е. Э., Засурский И. И. (2019). Реформа. Подходы к расширению доступа к информации, знаниям, произведениям науки, литературы и искусства и объектам смежных прав с учетом соблюдения интеллектуальных прав правообладателей. М.: Ассоциация интернет-издателей. [Chukovskaya E. E., Zasursky I. I. (2019). Reform. Approaches to expanding access to information, knowledge, works of science, literature and art and objects of related rights, taking into account the observance of intellectual rights of right holders. Moscow: Association of Internet Publishers (in Russian).]
- Экономика знаний (2008). Отв. ред. В. П. Колесов. М.: Инфра-М. [Knowledge economy (2008). V. P. Kolesov (ed.). Moscow: Infra-M (in Russian).]
- Foray D. (2004). The Economics of Knowledge. Cambridge: The MIT Press.
- Foray D., Mairesse J. (1998). Innovations et performances des firms: Approaches interdisciplinarians. Paris: EHESS. References. 261 p.
- Machlup F. (1962). The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton: Princeton University Press.
- Machlup F. (1984). Knowledge, its creation, distribution and economic significance. Princeton (Ill.): Princeton University Press.
- Maunoury J.-L. (1972). Economie du savoir. Vol. 7. Collection U.: Sciences économiques et gestion. Paris: Armand Colin Publisher.
- Musgrave R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. New York: McGraw Hill.
- Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.