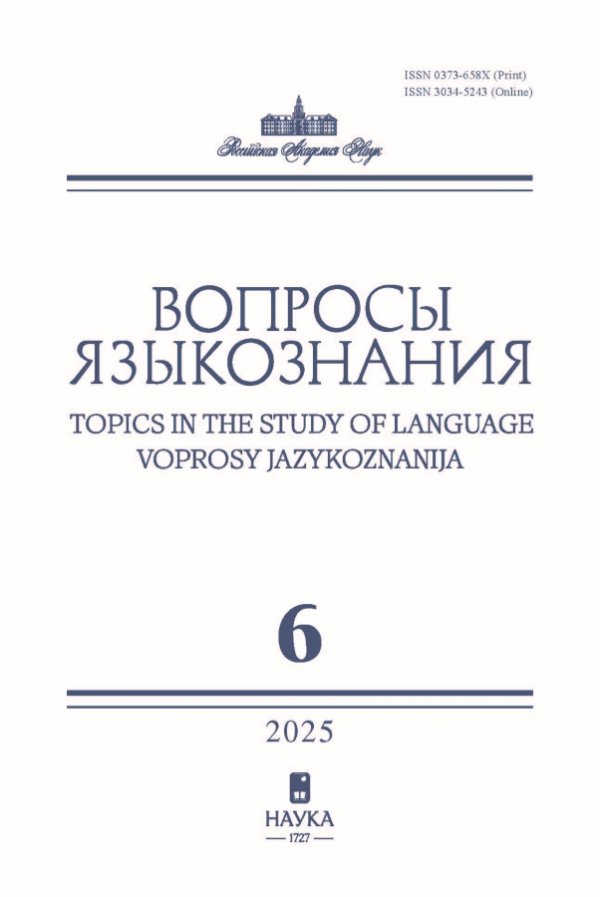The role of contacts within genetically related languages in the formation of Enets idioms
- Authors: Urmanchieva A.Y.1
-
Affiliations:
- Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 25-59
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0373-658X/article/view/268125
- DOI: https://doi.org/10.31857/0373-658X.2024.5.25-59
- ID: 268125
Full Text
Abstract
The article examines the history of two closely related idioms: Forest and Tundra Enets, which, together with Nganasan and Forest and Tundra Nenets, spoken in the same region, belong to the Northern subgroup of Samoyedic languages. Arguments are given in favor of the hypothesis that the Protoenets language could have been formed in the process of transition from a language close to Nganasan to a language close to (Tundra) Nenets. At the same time, Enets — due to its geographically central position in the group of Northern Samoyedic languages of the Circumpolar region and the small number of speakers — has been influenced by Nganasan and Nenets throughout its history. Therefore, it is important to differentiate between the primary Enets-Nganasan isoglosses of a substrate nature and the secondary contact isoglosses, which unite Protoenets with Nganasan and, in a later period, Tundra Enets. The article examines Nganasan-Enets isoglosses (phonological, morphophonological, morphological) and proposes their stratification.
Keywords
Full Text
1. Введение
В работе рассматривается история формирования двух близкородственных северносамодийских идиомов: лесного и тундрового энецкого (в том случае, если надо обозначить оба идиома, также используется термин «энецкий»). Северная подгруппа самодийских языков состоит из занимающего обособленное положение нганасанского и объединяющихся в промежуточную подгруппу лесного и тундрового ненецкого, лесного и тундрового энецкого и маторского, см. [Helimski 1997/2022]. Не углубляясь в дискуссии о соотношении языков внутри ненецко-энецко-маторской подгруппы, подчеркнем наиболее важный для данной работы факт (который отражается и в других классификациях, например, предложенных в [Katz 1987; Janhunen 1998]): нганасанский в лингвистическом отношении находится дальше от энецкого, чем ненецкий. В данной работе приводятся аргументы в пользу того, что история формирования энецкого могла быть сложнее, чем дивергенция общего ненецко-энецко(-маторского) праязыка. Энецкий язык мог сформироваться в процессе перехода с языка, близкого к нганасанскому, на язык, близкий к (тундровому) ненецкому: в ряде случаев удается показать, что более раннее реконструируемое состояние энецкого демонстрирует большее сходство с нганасанским.
Вместе с тем в географическом отношении энецкий занимает (и занимал в исторически обозримое время) промежуточное положение между ненецкими идиомами и нганасанским и развивался в постоянном контакте с ними. Поэтому на картину первичных энецко-нганасанских изоглосс субстратного характера (а также на массив ненецко-энецких адстратных изоглосс, которые и обусловливают отнесение энецкого к одной подгруппе с ненецким) накладываются вторичные контактные изоглоссы, среди которых — общеэнецко-нганасанские, а также более поздние, объединяющие тундровый энецкий с нганасанским и лесной энецкий — с тундровым ненецким. Мы сосредоточимся на нганасанско-энецких изоглоссах (фонологических, морфонологических, морфологических) и их стратификации на первичные субстратные и вторичные контактные.
2. Историческая фонетика: влияние нганасанского субстрата
2.1. Сохранение дифтонгов
Влиянием нганасанского субстрата можно объяснить рефлексацию в энецком прасамодийских вокалических последовательностей вида *Və̑ ~ *Və̈ в первом слоге. Из всех самодийских языков (не только северносамодийских) такие вокалические последовательности в виде дифтонгов сохраняются в двух языках — в энецком и нганасанском. В ненецком эти вокалические последовательности упростились, другие самодийские языки, в том числе селькупский и камасинский, также указывают на их историческую неустойчивость, ср.:
*kåə̑- ‘умереть’ > эн. kaa-, нг. куə-, но т. нен. xa-, ср. также ск. k͔ū-, км. kʻu-1;
*poə̑j ‘год’ > эн. pua, нг. хүo, но т. нен. po, ср. также ск. po, км. ṕʻi̯e;
*woə̑j ‘остров’ > эн. ńuo, нг. ӈүай, но т. нен. ŋo, ср. также ск. ko;
*puə̑- ‘позади’ > эн. puo, нг. хуo, но т. нен. pú, ср. также ск. pū, км. pʻu-, pī-;
*tiə̑ ‘облако’ > эн. t’io-ri, нг. чии-рү, чиə-ӡу, но т. нен. tyí-r°, ср. также ск. tī, км. ti;
*te̮ə̑ ‘домашний олень’ > эн. tia, нг. таа, но т. нен. ti, ср. также км. tʻo;
*tüə̑j- ‘рукав’ > эн. tio-jo, нг. чии-де, но т. нен. tyú, ср. также ск. tǖ-naŋ, км. t͕ɯ.
Модель дивергенции промежуточных праязыков предполагала бы необходимость реконструировать вокалические последовательности для ненецко-энецкого языка с последующим устранением их в ненецком и сохранением — в энецком2. С нашей точки зрения (которую мы надеемся подтвердить совокупностью рассмотренных в статье фактов), логичнее трактовать сохранение таких последовательностей в энецком как черту, унаследованную этим языком от субстрата нганасанского типа.
2.2. Различение рефлексов *a в зависимости от сингармонического ряда слова
Существенное уточнение в правила рефлексации двух прасамодийских гласных — *ä и *a (*e и *ä в реконструкции [Janhunen 1977]) были внесены в работе [Гусев 2022], где показано, что каждый из этих гласных может иметь в ряде самодийских языков (нганасанском, селькупском, камасинском и, возможно, маторском) по два рефлекса — в зависимости от сингармонического ряда слова, который можно определить по сингармонической характеристике корня в нганасанском3. Поскольку раздвоение рефлексов *a и *ä представлено в языках двух ветвей — в нганасанском и южносамодийских — это явление в нганасанском следует рассматривать как архаизм, а его отсутствие в ненецком и энецком — как общую инновацию4.
Однако в лесном энецком в трех позициях противопоставление рефлексов *a (U) и *a (I) фонологизировано.
Во-первых, это анлаутная позиция:
(1) a. переднерядные рефлексы
*ar- ‘ходить за водой’ > л. эн. erir-, ср. нг. нялыʔ- (I);
*atз- ‘верх’ > л. эн. eδo, ср. нг. нячи- (I) ‘выше по реке’;
*al-tä- ‘радоваться’ > л. эн. ede-, ср. нг. нялты- (I);
- заднерядные рефлексы
*amtə̑ ‘рог’ > л. эн. nado (при т. эн. edo), ср. нг. ӈамтə (U);
*aŋtə̑ ‘лезвие’ > л. эн. nado (при т. эн. edo), ср. нг. ӈаче (U);
*aŋ ‘рот’ > л. эн. naɁ (при т. эн. eɁ), ср. нг. ӈаӈ (U);
*antə-mə- ‘взмолиться’ > л. эн. nadoo- (при т. эн. edoo-), ср. нг. ӈантəмə- (U).
Во-вторых, это позиция после анлаутного *j:
(2) a. переднерядные рефлексы
*jalä ‘день’ > л. эн. d’ere, ср. нг. дялы (I);
- заднерядные рефлексы
*jat3ke̮ ‘дым’ > л. эн. d’aki (так же т. эн.), ср. нг. дякагə (U);
*jaŋkåjw- ‘не иметься’ > л. эн. d’agu- ‘не иметься’ (т. эн. d’igu-), ср. нг. дяӈгуй- (U);
*jat(ə̑)- ‘выковать’ > л. эн. d’aδo- (т. эн. d’eδo-), ср. нг. дяɁ- (U).
В-третьих, это позиция после анлаутного *ń. Для этой позиции не найдено примеров слов, относящихся к переднерядному гармоническому классу5, но это и не так важно: для нас наиболее существенно показать, что в трех рассматриваемых позициях рефлексация *a в заднерядных словах в лесном энецком отличается от стандартной (которой является переход *a > эн. e):
(3) заднерядные рефлексы:
*ńaŋ- ‘толстый’ > л. эн. naus- ‘быть толстым’ (в т. эн. когнатного слова нет), ср. нг. нячегəə (U);
*ńaŋä- ‘голый; лысый’ > л. эн. nae-xa (т. эн. eo-δo), нг. няадə (U);
*ńaŋə-rå ‘мездра’ > л. эн. naara (т. эн. еаra), ср. нг. няӈəру (U).
Если оставаться в рамках стандартной модели дивергенции языков северносамодийской подгруппы, факты лесного энецкого должны были бы заставить нас реконструировать гармонию гласных, влиявшую на рефлексацию *a, даже для периода после диалектной дифференциации протоэнецкого.
Однако одновременно мы наблюдаем в обоих энецких идиомах переход *a в передний гласный (вне зависимости от сингармонической характеристики корня) — переход, характерный для ненецкого, но не для нганасанского. В частности, в энецком, как и в ненецком, перед *a в словах любого сингармонического ряда происходит переход *k > s, см. о нем в следующем подразделе.
В итоге мы должны признать, что в лесном энецком сосуществуют, с одной стороны, противопоставление рефлексов *a (U) и *a (I) как заднерядного и переднерядного гласных (в трех позициях), с другой стороны — переход *a в переднерядный гласный вне зависимости от сингармонической характеристики корня. Первый переход при этом предполагает сохранение гармонии гласных вплоть до этапа независимого существования лесного и тундрового энецкого, второй — устранение гармонии гласных и продвижение любого *a вперед еще на этапе гипотетического общененецкоэнецкого. Иными словами, мы наблюдаем в энецком два исторически несовместимых друг с другом явления.
Эту ситуацию можно объяснить, если исходить из нашего предположения о том, что энецкий сформировался в результате перехода с языка типа нганасанского на язык типа ненецкого: в энецком на периферии сохраняются некоторые субстратные явления, генетически общие с наблюдаемыми в нганасанском, и одновременно представлены продуктивные явления, объединяющие его с ненецким.
2.3. Трактовка *ü как заднерядного гласного и развитие *k
В нганасанском — единственном из всех самодийских — гласный *ü ведет себя как заднерядный (при сохранении переднерядной гармонической характеристики корня). В частности, анлаутный *k перед*ü ведет себя так же, как в заднерядных словах, то есть не переходит в сибилянт, ср. *küə̑ŋ (*küŋ в [Janhunen 1977: 79]) ‘пуп’ > т. нен. syúh, т. эн. s’uɁ, ск. śȫń, км. šäŋ, šåŋ̀, но нг. кииӈ.
Условия перехода анлаутного*k в сибилянт в энецком и ненецком совпадают, но отличаются от представленных в нганасанском, где этот переход не только не происходит перед *ü, но и чувствителен к сингармоническому ряду слов с *ä и *a, см. таблицу 1.
Таблица 1
Переход *k > s / ś перед передними гласными в самодийских языках
Гласный корня | Ненецкий | Энецкий | Нганасанский | Селькупский | Камасинский | Маторский |
*a (U) | sya- syal°h ‘подмышка’ [Janhunen 1977: 63] | se- seriɁ ‘подмышка’ [Janhunen 1977: 63] | ka- калиС ‘подмышка’ [Janhunen 1977: 63] | kā- k͔āliń ‘подмышка’ [Janhunen 1977: 63] | ka- k͔ʻāлə̑ŋ ‘подмышка’ [Janhunen 1977: 63] | kä- (ср. kädər- ‘чихать’ [Janhunen 1977: 63]) |
*a (I) | sya-6 | se- | śa- | śo- śorəśi- ‘стыдиться’ [Janhunen 1977: 68] | še- šērəl’ɛm ‘стыдиться’? ср. койбальск. сарлянъ [Janhunen 1977: 68] | нет данных |
*ä (U) | sye- syesər/cy° ‘шуршать’ [Гусев 2022: 47] | se- sesana- ‘шуршать’ [Гусев 2022: 47] | ka- касырса ‘шуршать’ [Гусев 2022: 47] | kā k͔ātaŋ ‘иней’ [Alatalo 2004: 273] | ka- | нет данных |
syedyah ‘иней’ [Alatalo 2004: 273] | k͔adaŋ ‘первый снег’ [Alatalo 2004: 273] | |||||
syempye(sy°) ‘держаться на поверхности, не проваливаясь’, syempyad° ‘поплавок’ [Alatalo 2004: 1836] | т. эн. sebetuɁ ~ sebotuɁ, л. эн. seboruɁ ‘поплавок’ | k͔āmpə- ‘плавать на поверхности’ [Alatalo 2004: 1836] | ||||
*ä (I) | sye- syerə(sy°) ‘надеть’ [Janhunen 1977: 68] | se- sero- ‘надеть’ [Janhunen 1977: 68] | śe- серəди ‘надеть’ [Janhunen 1977: 68] | śe- śēr- ‘надеть’ [Janhunen 1977: 68] | še- šērəl’ɛm ‘надеть’ [Janhunen 1977: 68] | ke- ker- ‘надеть’ [Janhunen 1977: 68] |
*e | syi- syiq ‘подобие’ [Janhunen 1977: 62; Helimski 2005: 33] | s’i- s’iδogo ‘тень живого существа’ [Janhunen 1977: 62; Helimski 2005: 33] | si̮- сыɁ, сыӡəӈкə ‘тень живого существа’ [Janhunen 1977: 62; Helimski 2005: 33] | śi śi- основа аккузатива личных местоимений [Janhunen 1977: 62; Helimski 2005: 33] | ši- šimdə ‘кто?’ < *ke- [Helimski 2005: 30] | ki̮- ki̮m (? kim) ‘кто?’ < *ke- [Helimski 2005: 30] |
*i | syi- syidya ‘два’ [Janhunen 1977: 71] | si- s’iδe ‘два’ [Janhunen 1977: 71] | śi- ситi ‘два’ [Janhunen 1977: 71] | śi- śitə ‘два’ [Janhunen 1977: 71] | ši- šidɛ ‘два’ [Janhunen 1977: 71] | ki- kide ‘два’ [Janhunen 1977: 71] |
*ü | syu- syúh ‘пуп’ [Janhunen 1977: 79]8 | śu- s’uɁ ‘пуп’ [Janhunen 1977: 79] | ki- кииӈ ‘пуп’ [Janhunen 1977: 79] | śü-, śö- śȫń ‘пуп’ [Janhunen 1977: 79] | šü-, šV- šäŋ, šåŋ̀ ‘пуп’ [Janhunen 1977: 79] | kü- küj ‘пуп’ [Janhunen 1977: 79] |
Однако непродуктивные диминутивные суффиксы показывают в энецком и ненецком другие условия перехода *k в сибилянт. В энецком представлен непродуктивный диминутивный суффикс, имеющий два гармонических варианта:
эн. -igu < ПСС *-je̮ŋko (U) ~ эн. -id’u <*-je̮nsö < ПСС *-je̮ŋkö (I)
Для ненецкого также можно рассмотреть непродуктивный диминутивный суффикс:
т. нен. -yeko < ПСС *-je̮t3ko (U) ~ -yecyo <*-jet3sö < ПСС *-jet3kö (I).9
В таблицах 2 и 3 приводится распределение двух алломорфов диминутивных суффиксов в энецком и ненецком в зависимости от корневого гласного (в том случае если когнатное слово имеется в нганасанском и известна его сингармоническая характеристика, при слове указывается сингармонический ряд).
Таблица 2
Корневой гласный и гармонический ряд слова с диминутивными суффиксами -igu ~ -id’u в тундровом энецком
Гласный корня | Суффикс т. эн. -igu | Суффикс т. эн. -id’u |
*å | patuδ-igu (U) ‘рыхлый снежок’ | |
*ə̑ | т. эн. kol-igu, л. эн. kor-igu (U) ‘ящичек’ | |
*ə̈ | et’-id’u ‘молодой’ (соотв. т. нен. ŋəcy°)10 | |
*a (U) | meδ-igu (U) ‘чумик’ | |
*a (I) | нет примеров | |
*ä (U) | enet’e-igu (U) ‘человечек’ | |
*ä (I) | d’eddos’i-id’u (I) ‘Енисейчик’ | |
*e̮ (U) | usu-igu (U) ‘суставчик’ | |
*e̮ (I) | sir-id’u ‘солица’11 | |
*o | poδer-igu (U) ‘лямочка’ | |
*u | tuδ-igu (U) ‘сальце’ | |
*ü | s’u-igu (I) ‘пупочек’; d’ur-igu (I) ‘сотенка’ | |
*i̮ | нет примеров | |
*i | ńi-id’u (I) ‘имечко’ | |
*e | ср. biδ-it’u ‘водичка’12 | |
Для ненецкого также рассмотрим два варианта диминутивного суффикса -yeko ~ -yecyo, дополнительно внеся в таблицу 3 также информацию о других деривационных суффиксах с подобным алломорфическим варьированием.
Таблица 3
Корневой гласный и гармонический ряд слова с суффиксами с *k или *Ck, имеющими вариант с т. нен. k либо c
Гласный корня | Суффикс с т. нен. k | Суффикс с т. нен. c |
*å | xad-yeko (U) ‘ель’ | |
*ə̑ | нет примеров | |
*ə̈ | xæbyi-cy° (I) ‘короткий’ | |
*a (U) | myad-yeko (U) ‘чумик’ | |
*a (I) | yal-yeko (I) ‘серый’ | |
*ä (U) | nyenecyi-yeko (U)‘человечек’ | |
*ä (I) | nyer°-cyu-na (I) ‘раньше’ | |
*e̮ (U) | wen-yeko (U) ‘собака’ | |
*e̮ (I) | ŋeda-ncyo- (I) ‘защищаться’ | |
*o | xor-yeko (U) ‘прирученный молодой олень’ | |
*u | нет примеров | |
*ü | tyur°-cyuq- ‘иметь что-л. опорой, использовать что-л. в качестве опоры’; nyúdye-cyuq- ‘тащить, волочить за собой’ | |
*i̮ | min-yeko ‘герой, от лица которого ведется ярабц’ | |
*i | yúd-yecyo (I) ‘десяток’ | |
*e | yid-yecyo (I) ‘водичка’ | |
Можно видеть, что выбор одного из вариантов суффикса (с велярным или с сибилянтом) и в ненецком, и в энецком скоррелирован с сингармоническим классом слова в прасамодийском: слова с *e̮, *a, *ä и *ə (*ə̑ (U) ~ *ə̈ (I)) сохраняют в этом случае различие двух сингармонических классов. В энецком, однако, особым образом ведет себя гласный *ü: хотя это, несомненно, переднерядный гласный, при основах с корневым *ü выбирается заднерядный вариант суффикса: эн. s’u-igu (I) ‘пупочек’; d’ur-igu (I) ‘сотенка’. В ненецком в словах с *ü употребляется переднерядный вариант суффикса, ср. имперфективные глаголы tyur°-cyuq- ‘иметь что-л. опорой, использовать что-л. в качестве опоры’; nyúdye-cyuq- ‘тащить, волочить за собой’.
Диминутивный энецкий суффикс -igu ~ -id’u не имеет параллелей в ненецком, но находит этимологическое соответствие в нганасанском -AŊKU0. Логично предположить, что энецкий суффикс в данном случае сохраняет архаичное распределение алломорфов субстратного нганасанского суффикса, впоследствии утратившего алломорфическое варьирование этого типа в нганасанском.
Итак, история развития *k также позволяет выделить в энецком два хронологических пласта. К более инновационному относится изоглосса, объединяющая ненецкий с энецким: переход анлаутного *k в сибилянт, зависящий от качества гласного, но не от сингармонической характеристики корня. Исследование поведения *k в суффиксах в энецком и ненецком позволяет выявить более архаичное состояние (периода сохранения гармонии гласных), в котором по одному из параметров энецкий демонстрирует сходство уже с нганасанским: это сохранение велярного в словах с *ü (I) в диминутивных суффиксах.
3. Историческая фонетика: энецкие инновации, возникшие под вторичным влиянием нганасанского
Мы рассмотрим ряд собственно энецких инноваций в сфере исторической фонетики и постараемся показать, что причиной их зарождения могли стать вторичные контакты с нганасанским языком. Энецкие системные инновации касаются прежде всего консонантизма.
3.1. Судьба интервокальных кластеров
Интервокальная позиция обнаруживает наибольшее своеобразие энецкого в сравнении с ненецким и нганасанским: в энецком устранены все интервокальные кластеры, ср., например: *kåmpa > нг. коӈху, т. нен. xampa, но т. эн. kaba ‘волна’.
Развитие кластеров в трех северносамодийских языках представлено в таблице 4 (для нганасанского также приводятся результаты чередования по ритмической и слоговой градации, о которых подробнее см. после таблицы):
Таблица 4
Интервокальные кластеры в северносамодийских языках
ПСС | Тундровый ненецкий | Энецкий | Нганасанский | |||
т. эн. | л. эн. | РГ, сильная ступень | РГ, слабая ступень | СГ, слабая ступень | ||
кластеры, принимающие участие в чередовании ступеней | ||||||
*mp | mb | b | ŋh (< mp) | Сh (< p) | mb | |
*nt | n | nt | Сt | nd | ||
*ŋk | ŋg | g / gg | ŋk | Сk | ŋg | |
*ns | nc | d’ | s | ns | Сs | ńd’ |
кластеры, не принимающие участия в чередовании ступеней | ||||||
*lt | l | d / dd | lt | |||
*mt | md | d / dd | mt | |||
*ŋt | nd | d / dd | jt’ | |||
*rk | rg | g / gg | rk | |||
*rs | rc | d’ | s | rs | ||
*rm | rm | m | rm | |||
*rw | rw | m | rb | |||
*ps | bs | t’ | s | |||
*pt | bt | t | pt | |||
Вероятно, упрощение кластеров произошло в энецком относительно недавно: и Г. Ф. Миллер, и М. А. Кастрен последовательно записывают удвоенные согласные на месте ряда кластеров, ср. *ə̑ntəj ‘лодка’ > oddu (Г. Ф. Миллер), óddu (М. А. Кастрен); *årkå ‘большой’ > agga (Г. Ф. Миллер, М. А. Кастрен). Я благодарю рецензента за указание на то, что двойные согласные на месте кластеров в тундровом энецком фиксировал еще К. И. Лабанаускас во второй половине XX века (см. материалы, опубликованные в [Лабанаускас 2002]).
Такое упрощение фонотактики в энецком языке само по себе странно: географически энецкий занимает центральную позицию в гипотетическом континууме диалектов прасеверносамодийского, так что скорее мы ожидали бы более или менее консервативное развитие. Как кажется, такая радикальная перестройка могла быть спровоцирована «столкновением» в ситуации языкового контакта двух различных морфонологических систем — системы языка, уже утратившего чередование (типа ненецкого) и системы языка с чередованием ступеней согласных (нганасанского типа).
Суть нганасанского чередования ступеней (см. [Хелимский 1994: 195–198]) сводится к тому, что ряд одиночных согласных и кластеры вида «гоморганные назальный + шумный» реализуются по-разному в зависимости, во-первых, от четности / нечетности слога (ритмическая градация, ср. реализацию кластера *nt после нечетного и после четного количества слогов: ня-нтə [друг-gen.2] ‘твоего друга’ vs. нюо-тə [ребенок-gen.2] ‘твоего ребенка’), во-вторых, в зависимости от открытости / закрытости слога (слоговая градация, ср. реализацию кластера *nt перед открытым и перед закрытым слогом в формах вспомогательного отрицательного глагола: ни-нты ту-ʔ [neg-praes.s3 прийти-cn] ‘не пришел’ vs. ни-ндыɁ ту-ʔ [neg-praes.s3pl прийти-cn] ‘не пришли’).
При утрате чередования ступеней система упрощается за счет обобщения одного из алломорфов корня либо суффикса (как правило, сильноступенного): чередование ступеней имеет уральское происхождение [Хелимский 1995/2000], однако из всех уральских языков оно сохранилось только в прибалтийско-финских (прежде всего в части слоговой градации), саамском и самодийских, причем из самодийских — только в нганасанском и кетском диалекте селькупского.
На наш взгляд, сложнее дело может обстоять именно в том случае, когда язык без чередования ступеней испытывает влияние со стороны родственного языка с чередованием ступеней. Можно предположить, что в ситуации энецко-нганасанского билингвизма носители энецкого (L1) испытывали значительное когнитивное давление, когда в языке L1 не чередуются те же самые кластеры, которые чередуются в «модельном» нганасанском языке (L2). Фонотактическое упрощение интервокальной позиции в энецком могло быть способом разрешить этот конфликт: если из системы устраняется кластер, он перестает отождествляться с таким же кластером нганасанского языка. Этот способ устранения кластеров затем, вероятно, распространился и на нечередующиеся кластеры.
Отметим, что сходный процесс «деназализации» кластеров ск. mp, nt, nč, ŋt, mt, ŋk прошел — достаточно поздно, в XIX–XX вв. — в нижнекетском и верхнеобском селькупском. Это также контактная зона, в которой встречаются два идиома, различающиеся наличием (кетский селькупский) vs. отсутствием (верхнеобской селькупский) чередования ступеней согласных. Для кетского диалекта М. А. Кастрен фиксирует сильноступенные формы следующих кластеров: *nć (sündd̴e ‘нутро’), *nč (kondʒe ‘корень’), *nt (anddu ‘лодка’), *ŋt (âŋdde ‘лезвие’), *mt (âmdde ‘рог’). В северной части верхнеобской диалектной зоны и в нижнекетском имеем деназализованные формы типа верхнеобского tan addokaγət ‘к твоему обласку’ < tan andokaγənt, см. [Филиппова 2011: 83].
То, что упрощению кластеров может способствовать также сам факт интенсивных языковых контактов, можно подтвердить более далекой аналогией — историей прауральских кластеров в языках различных ветвей уральской языковой семьи. Кластеры вида «носовой + смычный» подверглись деназализации в трех языках: прапермском, венгерском и (спорадически) в марийском, ср.:
Таблица 5
Интервокальные кластеры в венгерском, прапермском и прамарийском
ПУ | Венгерский | Прапермский | Прамарийский |
*mp | *kompa ‘волна’ > hab | *kumpi ‘кочка’ > *gi̮b|äd | *lämpi ‘теплый’ > *liwə |
*mt | *tumti ‘знать’ > tud | *kamti ‘крышка’ > *kud | (но *kamti ‘крышка’ > *komdəs) |
*nt | *jänti ‘тетива’ > ideg | *künti ‘туман, дым’ > *ki̮d | *jänti ‘тетива’ > *jĭδ|aŋ (но *kanta- ‘нести’ > *kåndə-) |
*nč | *ponči ‘хвост; ручка’ > far | *ponči ‘хвост; ручка’ > *bu̯i̮ž | *künči ‘коготь’ > *kü̆č (но *künčä- ‘царапать’ > *kü̆nčə-) |
*ńć | *kuńći ‘мочa’ > húgy | *kuńći ‘мочa’ > *küʒ́ | *kuńći ‘мочa’ > *kŭž |
*ŋć | *läŋćä ‘овод’ > légy | *läŋćä ‘овод’ > коми lǝǯ’ | ? |
*ŋs | *joŋsi ‘поклон’ > íj | ? | ? |
*ŋk | *jäŋi ‘лед’ > jég (праугорский *ŋk < прауральского *ŋ) | *vëŋka ‘ручка’ > *vug | *jäŋkä ‘болото’ > *jägi̮r ‘болотистый лес’ |
Венгерский относится к угорской ветви, прапермский и прамарийский каждый образуют отдельные ветви прафиннопермского языка, то есть в генетическом отношении все эти языки далеки друг от друга, и их не объединяет никакой промежуточный праязык, к которому мы могли бы относить деназализацию кластеров как специфическую инновацию. Эти языки объединяет между собой другое — вовлечение в сферу влияния булгарского государства и контакты с носителями языка или языков булгарского типа (см., например, [Напольских 2006/2018] с анализом релевантной литературы). При этом само по себе наличие кластеров тюркской фонотактике не противоречит; таким образом, если и в этом случае связывать упрощение фонотактики в перечисленных уральских языках с языковыми контактами, то в качестве причины такого упрощения мы должны рассматривать не копирование какой-либо конкретной (фонотактической) модели языка L2, а саму контактную ситуацию как таковую. Интересно также обратить внимание на то, что в венгерском упростился целый ряд других прауральских кластеров, ср.: *moćki- ‘мыть’ > mos-, *ńičkä-‘тянуть’ > nyes-, *me̮ksa ‘печень’ > máj (также праперм. *mus), *ćilmä ‘глаз’ > szëm, *wajŋi ‘дышать’ > vágy, *mälki ‘грудь’ > mell (также прамарийск. *mi̮l, праперм. *mel), *purki ‘пурга’ > forr (также праперм. *pi̮r- ‘пуржить’) и т. д. По числу упростившихся кластеров венгерский является «чемпионом» среди финноугорских языков, что составляет резкий контраст даже с генетически наиболее близкими ему мансийским и хантыйским: обско- угорские языки едва ли не самые консервативные среди уральских с точки зрения сохранения консонантных сочетаний. Возможно, это радикальное упрощение кластеров в венгерском было результатом того, что венгерский является «чемпионом» среди финно- угорских языков также и по сложности и интенсивности языковых контактов.
3.2. Утрата назальной протезы
В ненецком и нганасанском в словах, этимологически имевших вокалический анлаут, представлена назальная протеза: ń либо ŋ. Условия распределения протетических ń и ŋ в обоих языках полностью повторяют условия развития *k: перед теми гласными, перед которыми в данном языке произошел переход *k > s, употребляется протетический ń, а перед теми гласными, перед которыми в данном языке *k сохраняется, употребляется протетический ŋ14.
В энецком назальной протезы нет: она, несомненно, была представлена (см. аргументацию ниже), но впоследствии устранена. Протетический ŋ- может (не обязятельно) сохраняться в энецком в словах, требующих «усиления» фонетической структуры — только в корнях, которые иначе имели бы вид V(VV), ср. т. эн. ŋa, л. эн. ŋo ‘нога’ < *åj (? *aə̑j [Janhunen 1977: 17]); т. эн. ŋaa, л. эн. ŋa ‘погода, бог’, ср. нг. ӈуо с тем же значением; т. эн., л. эн. ŋu ‘шест’ < *uj [Ibid.: 29]; т. эн. ŋuuo, л. эн. ŋuu ‘трава’, ср. т. нен. ŋum ‘трава’ и т. д. Что касается протетического ń, он также был устранен в энецком — за одним исключением: он сохраняется в лесном энецком в словах с анлаутным *a (U):
л. эн. nado ‘рог’ (при т. эн. edo), ср. нг. ӈамтə (U), т. нен. nyamd;
л. эн. nado ‘лезвие’ (при т. эн. edo), ср. нг. ӈаче (U), т. нен. nyand;
л. эн. naɁ ‘рот’ (при т. эн. eɁ), ср. нг. ӈаӈ (U), т. нен. nyah;
л. эн. nadoo- ‘взмолиться’ (при т. эн. edoo-), ср. нг. ӈантəмə- (U), т. нен. nyanəm-;
л. эн. nee ‘тот, другой’ (также т. эн. ee- в eesaa ‘девять’, ср. л. эн. neesaa), ср. нг. ӈамиай (U), т. нен. nyaby.
Как можно видеть, протетический ń в лесном энецком в данном случае депалатализован (что и привело к его сохранению, см. ниже о падении анлаутного ń) — однако это именно протетический ń, как в ненецком, а не протетический ŋ, как в нганасанском. Таким образом, система протетических назальных в энецком совпадала с ненецкой, а не с нганасанской, даже несмотря на то, что рефлексация гласных в этих словах в лесном энецком зависит от гармонии, как в нганасанском (то есть мы имеем наложение адстратных характеристик на субстратные).
Депалатализация протетического ń в энецком скоррелирована с депалатализацией *ń. В энецком *ń депалатализуется перед заднерядными гласными, например: т. эн. naba ‘заяц’ (в л. эн. ńaba — очевидно, под вторичным влиянием ненецкого) < *ńåmå; эн. niga ‘тальник’ < *ńe̮rkå и т. д. Перед этимологическими передними гласными палатальность ń (и протетического, и этимологического) сохраняется. Хронологически после депалатализации ń в энецком произошло устранение назальной протезы (ń и ŋ); вместе с протетическим ń в энецком отпал также *ń перед теми гласными, перед которыми он сохранял палатализацию (сохранение депалатализованного протетического ń в лесном энецком в словах типа л. эн. nado ‘рог’ < ńado < *åmtə̑ свидетельствует о том, что исконно назальная протеза была характерна и для энецкого):
Таблица 6
Устранение ń (протетического и этимологического) в энецком
ПСС | Энецкий | Ненецкий | Нганасанский | |
Протетический ń | *ämä (I) ‘мать’ | ее | nyebya | немы |
Этимологический *ń | *ńärə- (I) ‘передняя часть’ | т. эн. ere-, т. эн., л. эн. oro- | nyer°- | нерə- |
*ńensə- ‘скользить’ | т. эн. ed’u-ir-, л. эн. esu-ir- | nyencə-r- | нянсю- |
Одним из возможных объяснений устранения назальной протезы в энецком, возможно, являются вторичные контакты с нганасанским: система назальных протез, совпадающая с адстратной ненецкой, отличалась от системы, представленной в нганасанском (см. таблицу 7), так что восстановление вокалического анлаута может рассматриваться как способ устранить конфликт двух систем, убрав те согласные в анлауте, которые не совпадают в энецкой и нганасанской системах15.
Таблица 7
Протетические назальные ненецкого и нганасанского
Нганасанский | Тундровый ненецкий | |
*å | ŋ | |
*a (U) | ŋ | ń |
*a (I) | ń | |
*ä (U) | ŋ | ń |
*ä (I) | ń | |
*e̮ | ŋ | |
*e | ń | |
*i | ń | |
*i̮ | ŋ | |
*o | ŋ | |
*u | ŋ | |
*ü | ŋ | ń |
*ə̑ // ə̈ | ŋ | |
Возможно, однако, что устранение назальной протезы вызвано и внутренними причинами: нельзя игнорировать тот факт, что конфликт между системами есть только в трех историко-фонетических контекстах из тринадцати рассмотренных в таблице 7, и, напротив, в одном из случаев, где такой конфликт есть, — ср. т. нен. nyo, нг. ŋua ‘дверь’ — энецкий сохранил протезу, ср. n в лесном (no из более раннего ńo) и ŋ в тундровом (ŋia). Поскольку форма в лесном энецком при этом прошла через депалатализацию начального ń, она, вероятно, не может быть отнесена к недавним заимствованиям (хотя депалатализацию в данном случае можно было бы объяснить и вторичным выравниванием при заимствовании: в энецком слов на ńo нет). Я благодарю рецензента, указавшего мне на возможные трудности интерпретации устранения назальной протезы как контактно обусловленного явления.
3.3. Палатализация согласных в энецком
Вторичными контактами с нганасанским, вероятно, можно объяснить и условия еще более позднего процесса — палатализации согласных в энецком. Для датировки этого процесса существенно, что мы можем показать, что в период устранения назальной протезы в энецком согласные перед передними гласными не палатализовались: *n (непалатальный) перед передними гласными в этот период в энецком не совпал с *ń, то есть в энецком *n не отпадает перед передними гласными (в отличие от *ń и протетического ń), ср.: *nim ~ *nüm ‘имя’ > совр. т. эн. ńiʔ (не **iʔ).
Влияние нганасанского на процесс палатализации согласных в энецком можно видеть в двух моментах. Во-первых, в энецком, как и в нганасанском, палатализуются только дентальные согласные t, n, s, l (в ненецком палатализуются все). Таким образом, инвентарь согласных фонем в энецком ближе к нганасанскому, чем к ненецкому. Во-вторых, важно проинтерпретировать следующую ситуацию: как уже говорилось выше, *a и *ä исторически ведут себя в энецком как передние гласные — как в ненецком: перед ними происходит переход *k > s и употребляется протетический ń (правда, депалатализующийся в л. эн. перед *a (U)). Однако в современном энецком дентальные перед этими гласными не палатализуются.
Таблица 8
Палатализация согласных в северносамодийских языках: примеры16
П(С)С | Нганасанский | Энецкий | Тундровый ненецкий | |
*a (U) | *tanåjw ‘мало’ | tanᵘa | tene | tyanyo |
*a (I) | *tajbə̑ ‘брюхо’ | t’ajbə | teo | tyíw° |
*ä (U) | *säŋkå ‘колокольчик’ | saŋku | sego | syeŋka |
*ä (I) | *tänä- ‘знать’ | t’eni̮- | tene- | tyenye- |
*i | *tirämä ‘рыбья икра’ | t’irimi | t’iree | tyiryebya |
*e | *tetä ‘дядя, младший брат матери’ | ti̮ti̮d’a | t’iδe | tyidya |
*ü | *türo ‘посох’ | t’irə | t’uro | tyur° |
Таблица 9
Палатализация согласных в северносамодийских языках: обобщение17
П(С)С | Нганасанский | Энецкий | Тундровый ненецкий |
*a (U) | НП | НП | П |
*a (I) | П | ||
*ä (U) | НП | НП | П |
*ä (I) | П | ||
*i | П | ||
*e | НП | П | |
*ü | П | ||
Дентальные, таким образом, палатализуются в энецком только перед *i (а также перед совпавшим с ним в ненецком и энецком *e) и перед *ü. При этом в энецком максимально упрощена та зона, в которой нганасанский устроен сложнее, чем ненецкий: ненецкому C’e (< *ä) могут соответствовать и нг. С’e, и нг. Ca, ненецкому C’a (< *a) — и нг. С’a, и нг. Ca. В энецком — единственном — не только совпадают рефлексы *a и *ä, но и согласные перед ними не палатализуются (поскольку в нганасанском рефлексы этих гласных могут и палатализовать, и не палатализовать согласные).
3.4. Выводы
Итак, можно предложить единообразное объяснение причин возникновения в энецком языке основных инноваций в сфере фонетики, отличающих энецкий как от ненецкого, так и от нганасанского. Фонетическая система энецкого изначально, как мы предполагаем, была в целом близка к ненецкой (в результате перехода с языка типа нганасанского на язык типа ненецкого). Затем в какой-то период энецкий вошел в ситуацию сильного вторичного контакта с нганасанским, в которой нганасанский выступал как «модельный» язык-донор, а энецкий — как язык-реципиент. Эта контактная ситуация спровоцировала возникновение ряда инноваций в тех случаях, в которых система нганасанского оказалась сложнее системы «ненецкого типа». При этом все эти инновации имеют один общий вектор: радикальное упрощение фрагментов энецкой системы, ведущее к их максимальному расподоблению с соответствующими более сложно устроенными фрагментами нганасанской системы18. Важно еще раз подчеркнуть, что относительная датировка этих инноваций, то есть отнесение их к периоду вторичного контакта энецкого и нганасанского, а не к более раннему периоду перехода с языка типа нганасанского на язык типа ненецкого, основано на следующем соображении. Причиной этих инноваций, на наш взгляд, является именно устранение ряда «проблемных» соответствий при столкновении более простой системы (ненецко-энецкого типа) с более сложной системой (нганасанского типа), в ситуации же перехода, напротив, более сложная система заменялась более простой, так что все перечисленные фонологические контексты потенциальной проблемы в этом случае не создавали бы. Эти вторичные контакты (как и первичные) относились к общеэнецкой эпохе, то есть затронули и будущий лесной, и будущий тундровый энецкий (сепаратные контакты тундрового энецкого с нганасанским в статье не рассматриваются).
К объяснению, апеллирующему к ситуации языковых контактов, нас подталкивает и более общее соображение: энецкий занимает центральное положение в континууме близкородственных языков19, где ожидалась бы скорее консервация языковых явлений, так что значительные изменения в сфере исторической фонетики вряд ли можно объяснить исключительно внутриструктурными соображениями.
Интересно также отметить, что М. А. Кастрен фиксировал для энецкого переход анлаутного *p > f, аналогично нганасанскому того периода (в современном нганасанском произошел дальнейший переход *p > f > h). В современном энецком f возможен как маргинальный вариант, но основным является p — как в ненецком. Это, в частности, еще раз подтверждает, что энецкий — вероятно, в силу географически центрального положения и одновременно малочисленности носителей — на протяжении всей своей истории испытывал влияние соседних идиомов: нганасанского и ненецкого. Причем в силу экстралингвистических причин он дрейфовал между этими двумя центрами притяжения, что могло менять вектор развития отдельных фрагментов энецкой языковой системы.
4. Морфонологические субстратные явления
В энецком и нганасанском представлено фонетически немотивированное развитие ряда непродуктивных суффиксов с перфективным значением, оканчивающихся согласным, ср. материал в таблице 10. Прибавление гласного после этих суффиксов (по крайней мере два из них являются общесамодийскими) не мотивировано законами исторической фонетики ни для нганасанского, ни для энецкого. Кроме того, не каждый суффикс такой фонетической структуры развивается так в нганасанском и энецком: ни имперфективный *-r (эн. d’aδu-r-, нг. дёʒӱ-р- ‘ходить’), ни суффикс *-m, образующий отыменные глаголы с инцептивным значением (эн. d’eri-m-, нг. дяла-м- ‘рассвести’), так себя не ведут.
Таблица 10
Исторически немотивированное развитие ряда непродуктивных суффиксов *(CV)C- > (CV)Cə̑- в энецком и нганасанском
Суффикс | Значение | Ненецкий | Энецкий | Нганасанский |
*-kə̑r ‘семельфактив’ | ‘проникнуть; зайти (о солнце)’ | pəkəl- | pokoro- | хокəлə- |
‘дернуть’ | nekəl- | nekoro- | някəлə- | |
*-r ‘перфектив’ | ‘запрячь’ | podyer- | poδaro- | хутурə- |
‘обтесать’ | syabər- | seboro- | — | |
‘ободрать’ | xəbər- | — | кəхəрə- | |
*-l ‘инхоатив’ | ‘начать ходить’ | yadəl- | d’aδuro- | дёʒӱлə- |
‘начать жить’ | yilyel- | irero- | нилыле- | |
*-m ‘моментатив’ | ‘взмолиться’ | nyanəm- | edoo- | ӈантəмə- |
‘взглянуть; заметить’ | xædə-m- | kiδo-o- | качемə- |
5. Именное словообразование: субстратные явления
В таблице 11 представлены диминутивные показатели северносамодийских языков20.
Таблица 11
Диминутивные показатели северносамодийских языков
ПСС | Нганасанский | Тундровый ненецкий | Энецкий |
*-je̮t3ko | -AɁKU0 диндаɁку ‘лучок’ (оружие) | -yeko myadyeko ‘чумик’ | -iku buńiku ‘собачка’, tińiku ‘жилка’ |
*-je̮ŋko | -AŊKU0 маӡаӈку ‘чумик’ | — | -igu meδigu ‘чумик’ < meɁ ‘чум’ bexirigu ‘сопочка’ < bexiɁ (Ɂ < r) ‘сопка’ |
-ko sirako ‘снежок’ < sira ‘снег’ | -ku siraku ‘снежок’ < sira ‘снег’ |
Энецкий непродуктивный диминутивный показатель -igu (~ -id’u) является общесамодийским, ср. диминутив от слова *måt ‘чум’: нг. маӡаӈку, т. эн. meδigu, ск. māduŋga ‘чумик’. Показательно, что в энецком (как в нганасанском) этот суффикс в качестве непродуктивного сохраняется, тогда как в ненецком нет ни следа данного показателя. Характеристика, объединяющая энецкий с нганасанским, может рассматриваться только как архаизм, но не как вторичное контактное влияние (в энецком этот суффикс, во-первых, непродуктивен, во-вторых, имеет сложное и архаичное распределение алломорфов, обсуждавшееся выше). Теоретически, конечно, можно было бы говорить и о независимом сохранении унаследованного от праязыка суффикса, но совокупность рассмотренных явлений, как кажется, делает более логичной трактовку этого совпадения между нганасанским и энецком в рамках модели смены языка, предложенной в данной статье.
6. Именное словообразование: вторичное влияние нганасанского
Слова, содержащие атрибутивный показатель *-jə̑, демонстрируют в энецком двоякое фонетическое развитие последовательностей *-V-jə̑. Эта последовательность развивается в одиночный гласный прежде всего в составных суффиксальных морфемах, ср. показатели пассивного перфективного причастия *-mə̑-jə̑ > эн. -i, т. нен. -wi°, нг. -мəə или суффикс порядковых числительных (родственный имперфективному причастию) *-ntå-jə̑, например, в эн. nexo-de, т. нен. nyax°rəm-tey°, нг. нагəм-туо ‘третий’. Можно видеть, что эта монофтонгизация в целом повторяет ненецкую модель: во-первых, изменения гласных перед атрибутивным суффиксом (*ə̑ > i, *å > e) совпадают в этих двух языках, во-вторых, в ненецком эти последовательности также монофтонгизированы (последний гласный в абсолютном ауслауте редуцируется, а при словоизменении вообще отпадает).
Одиночный гласный выступает в энецком также при утрате атрибутивным суффиксом статуса отдельной морфемы, то есть в лексикализовавшихся формах. Это незначительное количество старых субстантивированных производных типа baʔi ‘замена’ от baʔa ‘место’ или sire ‘двухгодовалая важенка’ от sira ‘зима’.
Напротив, *-V-jə̑ сохраняется в энецком в виде вокалической последовательности в том случае, если морфема *-jə̑, прибавляясь непосредственно к основе, сохраняет атрибутивное значение, ср.:
т. эн. baroo ‘крайний; край, берег’, ср. т. нен. wari° ‘крайний’ и нг. бəрəə ‘берег’, производные от т. эн. baro, т. нен. war, нг. бəрə ‘берег, край’;
т. эн. ud’aa, л. эн. osae ‘много кушающий, ненасытный’; т. нен. ŋəmcey° ‘отечный, нездорово полный (о человеке)’, нг. ӈəмсуо ‘мясной’ — все три слова являются семантически разошедшимися производными от слова т. эн. ud’a, л. эн. osa, т. нен. ŋəmca, нг. ӈəмсу ‘еда’;
т. эн. d’erio, т. нен. yalyey°, нг. дялыə ‘дневной’ производны от т. эн. d’ere, т. нен. yalya, нг. дялы ‘день’.
Итак, в том случае, когда атрибутивный суффикс имеет отчетливую словообразовательную функцию, рефлексация в энецком следует нганасанскому типу, с сохранением вокалической последовательности. Определенно более старыми выглядят морфологические контексты, где атрибутивный суффикс уже утратил статус отдельного словообразовательного показателя и где рефлексом является одиночный гласный. Соответственно, в развитии модели с вокалической последовательностью мы можем видеть вторичное влияние нганасанского: резаимствование атрибутивного суффикса (который в нганасанском является совершенно продуктивным показателем) с сохранением его нганасанских морфонологических особенностей.
7. Именное словоизменение: субстратное влияние нганасанского
В именном склонении интересно рассмотреть различия в образовании форм локативных падежей во множественном числе (отражающее как субстратное, так и вторичное влияние).
Показатели локативных падежей в северносамодийских языках состоят из коаффикса *-kə̑ (> нен. -xə, эн. -xo, нг. -KƏ) либо *-ntə̑ (> нен. -nə, эн. -do, нг. -NTƏ) и показателя собственно локативного падежа уральского происхождения (lat *-ŋ, loc *-nå, el *-tə̑):
lat.sg *-ntə̑-ŋ > т. нен. -nə-h, т. эн. do-Ɂ, нг. -NTƏ-C;
loc.sg *-kə̑-nå > т. нен. -xə-na, т. эн. -xo-ne; *-ntə̑-nå > нг. -NTƏ-NU.
Множественное число в формах локативных падежей маркируется в позиции после коаффикса: *коаффикс + *-jt + показатель локативного падежа, ср. формы loc.sg и loc.pl:
Таблица 12
Образование показателей локативных падежей множественного числа в северносамодийских языках: пример
Ненецкий | Энецкий | Нганасанский | |
loc.sg | *-kə̑-nå > | *-ntə̑-nå > | |
-xə-na | -xo-ne | -NTƏ-NU | |
loc.pl | *-kə̑-jt-nå > | *-ntə̑-jt-nå > | |
-xə-q-na | -xi-ne | -NTIC-NU | |
В энецком представлен отклоняющийся от этой модели показатель латива множественного числа -xiδo:
Если бы в энецком показатель lat.pl развивался из праформы *-kə̑-jt-ŋ (как в ненецком), этимологически корректной была бы форма -xiɁ (соответствующая т. нен. -xəq), и она, скорее всего, сохранилась бы в энецком. Однако, если форма латива была адаптирована энецким из адстратной системы ненецкого типа (при переходе с языка типа нганасанского, где в лативе используется другой коаффикс!), возможно, препятствием для ее освоения послужила морфологическая нечленимость этой формы в ненецком: в силу законов исторической фонетики в этой форме не представлен показатель латива т. нен. -h (< *-ŋ). Поэтому, вероятно, при освоении этой формы к ней был прибавлен плеонастический показатель собственно латива *-ŋ: протоэн. *-kit (соответствует т. нен. -xəq) + *ŋ > *-kit-ə̑-ŋ > протоэн. *-kido-Ɂ > эн. -xiδoʔ > эн. -xiδo.
8. Именное словоизменение: вторичное влияние нганасанского
Ряд других изменений в субпарадигме локативных падежей множественного числа в энецком можно объяснить, напротив, вторичным влиянием нганасанского.
Таблица 13
Латив множественного числа в северносамодийских языках
Ненецкий | Энецкий | Нганасанский | |
lat.sg | *-ntə-ŋ > | ||
-nə-h | -do-Ɂ | -NTƏ-C | |
lat.pl | *-kə̑-jt-ŋ > | ??? | *-ntə̑-jt-ŋ > |
-xəq | -xiδo | -NTIɁ | |
Как видно из таблиц 12 и 13 выше, на синхронном уровне падежные показатели мн. ч. отличаются в энецком и нганасанском от показателей соответствующих падежей единственного числа изменением гласного в коаффиксе. При этом в нганасанском наряду со стандартным показателем el.pl -KICTƏ (соотв. т. нен. -xə-tə из *-xə-q-tə, т. эн. -xito) непритяжательного склонения представлены показатели нг. -KICTIɁ (в непритяжательном склонении) и нг. -KICTIС (в притяжательном склонении, где это единственный вариант). В этих показателях множественное число маркируется дважды: после коаффикса и после падежного показателя, что на синхронном уровне легко определить по изменению качества гласного. В нганасанском основанием для развития таких форм аблатива могла послужить чисто формальная аналогия с показателем латива мн. ч., ср. формы притяжательного склонения c показателем 1sg от слова kuhu ‘шкура’ в таблице 14. Как можно видеть из сопоставления приведенных ниже словоформ, при различии глубинно-морфонологического представления (и этимологии стоящих за ним показателей) на фонологическом уровне в этих формах перед притяжательным показателем в единственном числе выступает сегмент tə, во множественном — сегмент /ti/:
Таблица 14
Формы латива и аблатива притяжательного склонения c показателем 1sg нг. kuhu ‘шкура’
Форма | Фонологическое представление | Морфонологическое представление |
lat.sg-1sg | kubutənə | < KUHU-NTƏ-NƏ |
lat.pl-1sg | kubutinə | < KUHU-NTIC-NƏ |
el.sg-1sg | kuhugətənə | < KUHU-KƏCTƏ-NƏ |
el.pl-1sg | kuhugitinə | < KUHU-KICTIC-NƏ- |
В энецком также есть аналогические формы с двойным маркированием множественного числа в притяжательной парадигме (то есть с перегласовкой гласного непосредственно перед притяжательным показателем). В энецком они представлены в парадигме более широко — это не только аблатив (эн. -xiti, в точности соответствующий нганасанскому), но также и локатив и пролатив. Так, в записях М. А. Кастрена в притяжательном склонении представлены показатели loc.pl -xini и prol.pl -oni /-ini. В лесном энецком такие показатели сохранились до настоящего времени — во всяком случае, этот вариант в притяжательном склонении является наиболее частотным в текстах на лесном энецком в [Сорокина, Болина 2005]. В энецком появление таких форм внутренними причинами (аналогическим выравниванием внутри парадигмы) объяснить невозможно. Вероятнее, что это вторичная адаптация двойного маркирования из нганасанских форм аблатива и латива с дальнейшим распространением на другие энецкие падежи.
Интересно обратить внимание на еще одну исторически аналогическую форму парадигмы именного склонения в энецком. Форма пролатива с показателем *-mə̑nå имеет позднее, послеложное происхождение. В записях М. А. Кастрена в энецком показатель пролатива мн. ч. имеет два варианта: для непритяжательного склонения -mone и -mine, для притяжательного — -moni и -mini. Нас в данном случае будет интересовать гласный первого слога в показателях -mine и -mini. При сравнении этих вариантов показателя пролатива мн. ч. с этимологически корректным -mone очевидно, что в энецком первая часть двусложного показателя пролатива была реинтерпретирована — по аналогии с первой частью двусложных показателей локатива и аблатива — как коаффикс, после которого требуется присоединение показателя мн. ч., ср.:
Таблица 15
Реинтерпретация показателя пролатива мн. ч. по аналогии с показателями локатива и аблатива мн. ч. в энецком (непритяжательное склонение)
sg | pl | |
loc | -xone | -xine |
el | -xoδo | -xito |
Аналогический пролатив | -mone | -mine |
Итак, в парадигме именного склонения мн. ч. именно для энецкого мы находим наибольшее число исторически немотивированных аналогических изменений (двойное маркирование мн. ч. в притяжательном склонении, реинтерпретация первой части пролативного показателя как коаффикса). Двойное маркирование мн. ч. в притяжательном склонении можно достаточно уверенно объяснить вторичным влиянием нганасанского. В целом же аномально большое — в сравнении с ненецким и нганасанским — число исторически немотивированных аналогических изменений в парадигме, приводящих к усилению маркированности грамматических значений, можно, вероятно, рассматривать как результат языковых контактов.
Интересно, что устранение таких аналогических форм в тундровом энецком (где сейчас имеем lос.pl в притяжательной парадигме -xine, а не -xini, prol.pl -mone, а не -moni или -mini) совпадает по времени с устранением возникшего под нганасанским влиянием перехода *p > f за счет восстановления p. То есть эти скоррелированные во времени признаки преодоления вторичного нганасанского влияния, вероятно, совпадают с более активным развитием энецко-ненецкого билингвизма. Иначе говоря, происходит очередная смена центра притяжения в истории развития энецкого (о реконструкции мульти- и билингвизма на Нижнем Енисее см. [Khanina 2021]).
9. Глагольное словообразование: субстратное влияние нганасанского
9.1. Деривационные суффиксы образных глаголов
Особенностью образных глаголов в самодийских языках является то, что они обладают собственным репертуаром деривационных морфем (для ненецкого эти показатели подробно описаны в [Урманчиева 2020], здесь приведем информацию о релевантных для нас показателях).
В энецком представлены имперфективные образные глаголы с суффиксом -na. Они имеют соотносимые каузативы (-na заменяется на -nta) и производные от этих каузативов стативно-декаузативные глаголы с суффиксом -nti:
kirana- ‘орать, визжать’, kiranta- ‘довести до плача’, kiranti- ‘плакать после того, как раздразнили’;
sesana- ‘шелестеть, шуршать’, sesanti- ‘бренчать, позвякивать’;
tôjana- ‘быть твердым, жестким’, tôjanta- ‘делать твердым’;
tujana- ‘стучать’, tujanta- ‘заставлять издавать стук’, tujanti- ‘издавать стук’;
d’irana- ‘пищать’, d’iranta- скрипеть’, d’iranti- ‘издавать скрип’.
Часть из этих глаголов имеет корреляты в ненецком — но как с суффиксом -ə-nə (ses-°nə- ‘шуршать’, yir-°nə- ‘скрипеть, пищать’), так и с суффиксом -na ~ -ana ~ -yena (toy-ena- ‘быть твердым’), некоторые соотносимых глаголов не имеют. При этом между ненецким и энецким нерегулярны соответствия гласных не только в суффиксе, но и в предшествующей суффиксу гласной второго слога, что говорит о вторичном характере таких соответствий.
Каузативы на -nta (и соотносимые с ними стативно-декаузативные производные глаголы на -nti) также являются в энецком поздними вторичными образованиями: для энецкого не характерно ни синкопирование гласного перед каузативным суффиксом, ни тем более кластер nt. Такое количество фонетических, морфологических и морфонологических нерегулярностей говорит о том, что в энецком эта группа образных глаголов имеет позднее происхождение.
В энецком и нганасанском у ряда образных основ находим словообразовательные гнезда с суффиксами нг. -CTU, эн. -da (непереходные имперфективы), нг. -MÜS, эн. -us (инцептивы) и нг. -MƏBTU, эн. -ota (каузативы с инцептивным значением).
Таблица 16
Словообразовательные гнезда образных глаголов в нганасанском и энецком
Праформа суффикса | Нганасанский | Энецкий |
*-ntå | -CTU дябаɁтуса ‘краснеть; быть красным’ | -da d’areda- ‘стоять наклонно’ |
*-mus | -MÜS дябаɁмӱса ‘покраснеть’ | -us d’areus- ‘стать на бок’ naguus- ‘стать красным’ |
*-məbtå | -MƏBTU дябаɁмəбтудя ‘сделать красным; покраснеть’ | -ota d’areota- ‘поставить на бок’ naguota- ‘сделать красным’ |
Таким образом, в энецком сосуществуют две системы суффиксации образных глаголов: одна — по многим признакам достаточно инновационная — находит параллели в системе суффиксации образных глаголов ненецкого языка (т. нен. имперфективы с суффиксами -nə и -na ~ -ana ~ -yena), вторая же полностью изоморфна подсистеме аспектуальных суффиксов образных глаголов нганасанского языка.
9.2. Деривационные суффиксы необразных глаголов
В глаголах, не относящихся к группе образных, большинство аспектуальных суффиксов в трех северносамодийских языках совпадает, однако некоторые различия есть как в наборе аспектуальных суффиксов, так и в употреблении и продуктивности совпадающих маркеров.
Разительнее всего различия в сфере показателей дуратива (имперфектива). У непереходных глаголов во всех трех северносамодийских языках используется общесамодийский показатель *-ntə̑, ср. т. нен. ŋom-tə-, эн. ŋôô-do-, нг. ӈуом-тə- ‘собираться, объединяться’. В ненецком, однако, более продуктивен показатель *-ŋkə̑, который отсутствует как в энецком, так и в нганасанском.
Система имперфективных показателей переходных глаголов в ненецком отличается от систем, представленных в нганасанском и энецком.
В ненецком продуктивен общесамодийский показатель дуратива-результатива т. нен. -mpə < *-mpaw (соотв. эн. -be). Присоединяясь к глагольным основам с переходной семантикой, он сохраняет их модель управления. В нганасанском этого показателя нет, в энецком он не употребляется при переходных глаголах. У непереходных глаголов этот суффикс непродуктивен как в ненецком, так и в энецком, в нганасанском он отсутствует. В ненецком общесамодийский показатель имперфектива т. нен. -nə < *-ntə̑ (эн. -do, нг. -NTƏ) при присоединении к переходным глаголам блокирует возможность выражения прямого дополнения, хотя глагол и сохраняет семантику переходной ситуации.
Покажем на примерах употребление этих суффиксов в ненецком. Рассмотрим два примера с глаголом tæwa- ‘принести, притащить’: (1) t’īβ̆βan nin̆́ńe n’ȧl̆loδā täèβ̆βā-bi-n [притащить-dur.aor-opl1] ‘я тащу их, ползя на животе’ [Lehtisalo 1956: 294b] и (2) ṕǡk̆kot́š́e δä̆β̆βa-ǹà [притащить-ipfv.aor.s3], lē̮k̆kot́śe mat̆tōrà͕ ‘палочка несет, косточка режет’ (загадка про ложку и зубы) [Ibid.: 231a]. В первом примере глагол оформлен суффиксом -mpə (в данном случае bi) и имеет прямое дополнение, выраженное формой объектного спряжения, во втором примере глагол оформлен суффиксом т. нен. -nə (в данном случае -ǹà) < *-ntə̑ и прямого дополнения при себе не предполагает. В энецком и нганасанском суффиксы эн. -do, нг. -NTƏ не оказывают влияния на модель управления глагола.
Еще один имперфективный показатель т. нен. -ŋko < *-ŋkoj (эн. -gu) со значением ‘заниматься чем-л.’ в ненецком ведет себя так же, как -nə: сохраняет семантику переходного действия, но блокирует выражение прямого дополнения: syurtyeŋko- ‘обходить, объезжать кругом (неперех.)’ ← syurte- ‘обойти, объехать кругом что-л. (перех.)’. В энецком суффикс -gu не оказывает влияния на модель управления глагола: биз тоза-га [принести-dur.aor.s3], пязда тоза-га [принести-dur.aor.s3] ‘воду ему носит, дрова ему носит’ [Сорокина, Болина 2005: текст 20, предл. 7].
В нганасанском представлен показатель дуратива нг. -KU0J < *-koj, который также не влияет на модель управления глагола, ср. сеймы-м-ты дятəбту-гуй-ся [глаз-acc-3 направить-dur-inf] ‘следить за чем-то’ (букв. “направлять свой глаз”) (из нганасанских текстов, любезно предоставленных в мое распоряжение В. Ю. Гусевым).
Данные, кратко описанные в тексте и суммированные в таблице 17, свидетельствуют о том, что развитие системы дуративных суффиксов в энецком демонстрирует существенно большую общность с нганасанским, чем с ненецким. Во-первых, в энецком, как и в нганасанском, — но не в ненецком — утрачена продуктивность суффикса *-mpə̑. Во-вторых, в ненецком развитие дуративных суффиксов шло таким путем, что близкие по значению общесамодийские суффиксы *-mpə̑ и *-ntə̑ оказались в итоге в значительной степени разведены в зависимости от модели управления как исходного, так и производного глаголов; так же, как *-ntə̑, ведет себя в ненецком *-ŋkoj. В нганасанском и энецком дуративные суффиксы модель управления глаголов не затрагивают. При этом энецкий показатель дуратива -gu, хотя и соответствует материально т. нен. -ŋko, является функционально тождественным показателю нг. -KU0J.
Таблица 17
Дуративы от переходных глаголов в северносамодийских языках
Производные глаголы не меняют модель управления | Производные глаголы имеют значение ‘заниматься чем-л.’ и не присоединяют прямого дополнения | |||
Ненецкий | *-mpaw | *-ntə̑ | *-ŋkoj | |
Энецкий | *-ntə̑ | *-ŋkoj | ||
Нганасанский | *-koj | |||
Обратим внимание на то, что в ненецком и энецком, как уже говорилось, в суффиксах в переднерядных основах произошли переходы *t3k > *t3s и *ŋk > *ns. В ненецком это чередование сохранилось в формах с диминутивным суффиксом (yidy-ecyo ‘водичка’) и с дуративным показателем *-ŋkoj (ŋeda-ncyo- ‘защищаться’), а в энецком переход *ŋk > *ns > эн. d’, *t3k > *t3s > эн. t’ представлен только в формах с диминутивными показателями (pi-id’u ‘горностай’, biδ-it’u ‘водичка’), архаичность которых мы обсуждали в разделе 5. Ни одной лексикализовавшейся формы с дуративным показателем с таким переходом не найдено. Это также может подтверждать вторичность, инновационность данного показателя в энецком — вероятно, он адаптирован из адстратного языка типа ненецкого, но употребляется по модели субстратного нганасанского показателя (к тому же достаточно близкого фонетически).
Затронем также различия показателей аспектуальных категорий в северносамодийских языках. В показателе хабитуалиса нг. -MUMHAC (муну-мумба-тум [сказать-hab-s1sg] ‘я всегда (так) говорю’), эн. -mobi (d’aδu-mobi [ходить-hab.s3sg] ‘постоянно ходит’) выделяется компонент, который, вероятно, исторически является обсуждавшимся выше показателем дуратива *-mpаw[21] — в этом случае его исчезновение из репертуара продуктивных глагольных показателей в энецком и нганасанском как раз может объясняться его грамматикализацией в составном показателе хабитуалиса. В ненецком показатель хабитуалиса имеет вид -syəqtə, и этот показатель никак не связан с энецким и нганасанским. Можно предположить, что показатель хабитуалиса в энецком унаследован от субстрата нганасанского типа: если бы он был заимствован из нганасанского в результате вторичных контактов, это вряд ли оказало бы влияние на судьбу дуративного показателя в энецком, однако и в энецком, и в нганасанском утрата дуративного показателя *-mpаw и возникновение хабитуального показателя могут рассматриваться как взаимосвязанные процессы.
10. Глагольное словоизменение: нганасанское субстратное влияние
10.1. Образование аориста
Образование аориста непереходных глаголов в энецком демонстрирует противопоставление нганасанского субстрата и ненецкого адстрата. Аорист — одна из общесамодийских темпоральных форм (предельные глаголы в аористе имеют значение прошедшего времени, непредельные — настоящего). В энецком форма аориста от непроизводных непереходных глаголов с основами на эн. o (< *ə̑) и -a (< *å) образуется двумя способами. Первый способ — неагглютинативный: показатель аориста -a (в рефлексивном спряжении -e) вытесняет финальный гласный основы: ado- ‘сесть’ → aor.r3 adeδoɁ, kôda- ‘лечь спать, уснуть’ → aor.r3 kôdeδoɁ. Второй способ — агглютинативный: вышеназванные показатели прибавляются после финального гласного основы: koto- ‘плавать’ → aor.s1 kotaaδoɁ, aor.s3 kotaa, d’ogo- ‘отделиться’ → aor.r3 d’ogoeδoɁ.
В словарных материалах, собиравшихся в 1970-е годы Е. А. Хелимским по тундровому энецкому и в 1990-е — нами по лесному энецкому, найдено 28 непереходных глаголов, образующих аорист первым способом, из них 20 имеют соответствие в нганасанcком и ненецком, четыре — в ненецком, но не в нганасанском (но три из них, вероятнее всего, общесамодийские), четыре имеют соответствие в нганасанском, но не в ненецком.
Найдено 35 непереходных глаголов, образующих аорист вторым способом, из них 28 имеют соответствие только в ненецком (четыре — общесамодийские), три имеют соответствия в обоих языках, два — только в нганасанском, два не имеют соответствий.
При этом все переходные глаголы на -a и -o в энецком и все суффиксальные глаголы образуют аорист неагглютинативно: bata- ‘вылить’ → s3 bata, то есть этот способ образования аориста сохраняет в энецком продуктивность. Также следует отметить, что ни в одном самодийском языке правила образования аориста не различаются для переходных и непереходных глаголов. Почему же в энецком у ряда непереходных глаголов на -a и -о аорист образуется путем прибавления гласного -a? Можно обнаружить вторичную связь этого алломорфа аористного показателя с непереходностью. Агглютинативный алломорф -a выступает только в глаголах, в которых этому показателю предшествует узкий гласный: -i либо -u. При этом в энецком все глаголы на -u и подавляющее большинство глаголов на -i являются производными глаголами со стативно-декаузативной семантикой:
(kae- ‘оставить’ →) kai- ‘остаться’ → s3 т. эн., л. эн. kai-a;
(bano- ‘лечь (об олене)’ →) banu- ‘лежать (об олене)’ → s3 т. эн., л. эн. banu-a.
Стативно-декаузативные глаголы все — непереходные, таким образом, формируется контекстуальная связь алломорфа аористного показателя -a с непереходностью, что, вероятно, и способствует его распространению как аористного показателя в группе непереходных а-основ и о-основ.
Существенно обратить внимание на то, что в группе непереходных а-основ и о-основ этот способ образования аориста распространяется прежде всего на глаголы, имеющие параллель в ненецком, но не в нганасанском. То есть аналогическое выравнивание аористной парадигмы непереходных глаголов по парадигме стативно-декаузативных непереходных глаголов сопровождает только «освоение» отсутствовавших в субстратном языке (нганасанского типа) глаголов ненецкого языка и не распространяется на основы, представленные в субстратном языке.
Важно также обратить внимание на случаи, когда глагол является общесамодийским, но отсутствует в нганасанском. Таких случаев пять, и в четырех из них энецкий глагол образует аорист не этимологическим, а аналогическим способом:
muja- ‘разлиться (о водоеме)’ → aor.s3 mujaa;
pora- ‘сгореть’ → aor.s3 poraa;
teka- ‘спрятаться’ → aor.s1 tekaaδoɁ;
т. эн. sôa-, л. эн. suja- ‘родиться’ → aor.s1 т. эн. sôaaδoʔ, л. эн. sujaaδoʔ;
puδa- ‘быть похожим’ → aor.s3 puδa.
Это возможно объяснить, только если принять гипотезу о смене языка: если бы энецкий эволюционировал независимым образом как один из диалектов северносамодийского праязыка, эти глаголы, сохранившиеся от праязыкового состояния, не сменили бы тип образования аориста. Но, если в период перехода с «языка типа нганасанского» на «язык типа ненецкого» в «языке типа нганасанского» эти глаголы были утрачены, это означает, что в энецком они являются вторичным приобретением и потому образуют аорист аналогическим образом.
10.2. Система причастных форм
Основные причастные формы северносамодийских языков представлены в таблице 18; если показатели являются этимологически тождественными, разделитель в таблице не ставится. Система форм лесного энецкого совпадает с системой тундрового ненецкого, а система форм тундрового энецкого — с системой форм нганасанского.
Таблица 18
Причастия в северносамодийских языках
Ненецкий | Лесной энецкий | Тундровый энецкий | Нганасанский | |
Пассивное причастие прошедшего времени | -mi° | -mi ~ i | -mi ~ i | -MƏƏ |
Активное причастие прошедшего времени | -si-i (< -se-i) | -SUƏ(-D’ƏƏ) | ||
Причастие настоящего времени | -na | -nta | -de | -NTUƏ |
Причастие будущего времени | -mənta | -mode | -t’uδo | ʔSUTƏ |
Обсудим различия причастных форм прошедшего времени. В ненецком и лесном энецком общесеверносамодийское причастие с показателем *-mə̑-jə̑ (> т. нен. -mi°, эн. -mi, нг. -MƏƏ) является залогово нейтральным, в тундровом энецком и нганасанском это причастие имеет только пассивное значение, в активном употребляется причастие нг. -SUƏ-D’ƏƏ, эн. -se-i. Лексикализовавшиеся формы второго причастия (с показателем т. нен. -sey°, соответствующим т. эн. -se в -se-i, нг. -SUƏ в -SUƏ-D’ƏƏ) при этом обнаруживаются и в ненецком: temta-sey° ‘покупка, купленная вещь’, pya-sey° ‘пай, доля добычи’ (< pya- ‘начать’), talye-sey° ‘кража’, xanye-sey° ‘добыча’ (< xanye- ‘охотиться’), pire-sey° ‘варево’. Это означает, что причастие т. нен. -sey°, т. эн. -se, нг. -SUƏ было равным образом присуще всем трем северносамодийским языкам. Соответственно, система причастных форм прошедшего времени тундрового энецкого и нганасанского более архаична, и устранение показателя т. нен. -sey° из системы причастных форм — это собственно ненецкая инновация (вторично распространившаяся на лесной энецкий). Примечательно, что в лесном энецком таких лексикализовавшихся форм нет, это подтверждает, что система претеритальных причастных форм ненецкого типа в этом языке — вторичное контактное явление: если в ненецком это причастие выходило из употребления постепенно, с сохранением некоторых форм в качестве лесикализовавшихся, в лесном энецком такие формы лексикализоваться, по всей видимости, не успели.
Различия в причастных формах будущего времени можно прокомментировать схожим образом. Во-первых, показатели эн. -t’uδo, нг. -ʔSUTƏ (< *-t3-psutə̑) имеют общесамодийское происхождение, ср. селькупское дебитивное причастие -psotəl’, тогда как показатели т. нен. -mənta, л. эн. -mode не имеют когнатов в других языках. Во-вторых, в тундровом ненецком есть лексикализовавшиеся формы ŋædabcod° ‘то, во что можно выстрелить, цель’, pyiryebcod° ‘то, что предназначено для варева’, xayebcod° ‘то, что уезжающему следует оставить на память тем, кто остается’, xet°bcod° ‘то, что следует сказать’ и т. п. В-третьих, подобных лексикализовавшихся форм в лесном энецком не обнаружено. Эти факты позволяют нам выстроить ту же цепочку рассуждений, что и для претеритального причастия: система, представленная в тундровом энецком и нганасанском, более архаична, появление причастия на -mənta в тундровом ненецком — собственно ненецкая инновация, энецкий не затронувшая, появление этого причастия в лесном энецком имеет вторичную контактную природу.
10.3. Эвиденциальный показатель инферентива-репортатива
В ненецком представлена единая инферентивно-репортативная форма с показателем -wi°, восходящая к перфективному причастию. В энецком также представлена форма с инферентивно-репортативным значением, но ее показатель -bi не соответствует ненецкому. В нганасанском семантические оппозиции внутри эвиденциальной зоны устроены иначе: в нганасанском есть специализированная форма инферентива -HA-TU и два репортативных показателя, из которых -HA-MHU используется в утвердительных предложениях, а -HA — в вопросительных (значение этого показателя — ‘меня послали спросить, верно ли P’ либо ‘верно ли, что, как говорят, P?’). Вопросительная форма репортатива оказывается морфологически более простой, чем утвердительная форма; в [Гусев 2006] было показано, что именно -HA и было исходным суффиксом эвиденциальных форм. Этот суффикс в указанной работе возводится к праформе *-pe̮ и сопоставляется с энецким -bi. Итак, энецкий показатель может быть унаследован из субстрата нганасанского типа. Трактовка его как вторичной контактной энецко-нганасанской инновации маловероятна22. В этом случае следовало бы предполагать, что более ранняя энецкая система эвиденциальных форм совпадала с ненецкой и в качестве инферентивно-репортативной формы использовалось перфективное причастие с показателем *-mə̑-jə̑. Однако выше при анализе системы причастных форм мы постарались показать, что более архаичная система причастных форм в энецком, вероятнее всего, совпадала с нганасанской, а в этой системе причастие с показателем *-mə̑-jə̑ было ограничено пассивными употреблениями (в отличие от ненецкого, где оно нейтрально в отношении залога). При таком залоговом ограничении маловероятно, что эта форма успела бы грамматикализоваться в инферентив-репортатив активного залога, но позже полностью исчезнуть из употребления.
10.4. Формы с конъюнктивно-оптативной семантикой
В ненецком и энецком представлен общесамодийский показатель конъюнктива: т. нен. -yi, л. эн. -ńi, т. эн. -i / -ʔi / -ńi, в нганасанском этот показатель конъюнктива не сохранился, однако представлены две другие формы c интересующим нас значением: конъюнктив с показателем -HA1-A0 (4) и дубитатив с показателем -LI̮. Дубитатив употребляется в значении авертива, т. е. в значении ‘смотри не сделай что-л.’ (5)–(6), в значении эпистемической возможности (7), в риторических вопросах о будущем (8)–(9)23:
(4) əiɁ kəmə-baa-m tənə kəmə-baa-m.
excl поймать-opt-1sg ты.acc поймать-opt-1sg
‘Эх, поймать бы мне тебя!’ [Wagner-Nagy 2018: 247]
(5) быʒə дя чалəбə-лы-ӈ!
вода.gen к упасть-dub-s2
‘Cмотри, в воду не кувыркнись!’
(6) динда-ʔку-мə нейкə-лы-ры-əиʔ!
лук-dim-acc.1 испортить-dub-o2pl-excl
‘Cмотрите, лучок-то мой не испортите!’
(7) əмə-ні-ə тə кəриʔə-нə дяʒикӱ-мəну сиркə-ӈы-рыʔ
этот-loc-adj вот хорей-gen.1sg к-prol выкопать-imp-2pls/o
маа-балə или-Ø.
что-то быть-dub.s3
‘Копайте по направлению того, как хорей мой воткнулся, что-то там будет, полагаю’.
(8) Ку-дӱ-ми ня-мту ӈəтə-лы-Ø?
который-spec-1du товарищ-acc.3sg найти-dub-s3
[Давай играть в прятки!] ‘Который же из нас первым товарища найдет?’
(9) Тə хуə-гӱə-нə куə-ʔ ни-лы-ри, маа-м-сутə-Ø?
а позади-то-lat.1 умереть-cn neg-dub-s2du что-vdn-fut-s3
‘А после меня вы разве не умрете, что [иное] произойдет?’
В энецком, помимо общесамодийского конъюнктива (как в ненецком), есть две редкие формы: форма оптатива с показателем -bi (сохранилась только у отрицательного глагола в лесном энецком, см. (10)–(11)) и форма с показателем -ri. Показатель -ri зафиксирован в неопубликованных полевых грамматических материалах Е. А. Хелимского, в самостоятельном употреблении в его материалах он переведен как авертив (12), как оптатив (13), в сочетании с показателем претерита — как вопрос к будущему (14). В материалах по лесному энецкому встретилось однократное употребление в составе бытийного глагола (парадигма которого может, вероятно, сохранять некоторые архаизмы) в сочетании с показателем претерита в значении вопроса о будущем (15):
(10) дязуй-да меон и-би-з кань
след-gen.3 в.prol neg-opt-s1 пойти.cn
‘по его следам пойду-ка’ [Сорокина, Болина 2005: текст 45, предл. 30]
(11) Тазыбе-зи’, мана, и-би-ра таза-’
шаман-destpl.1 сказать.aor.s3 neg-opt-s2pl дать-cn
‘Шаманов мне, говорит, привели бы’. [Сорокина, Болина 2005: текст 6, предл. 19]
(12) d’u-li-bo
потерять-dub-o1
‘не потерять бы мне’
(13) moga-xone a-ri-δoʔ
лес-loc быть-dub-s1
‘хорошо бы мне быть в лесу’
(14) s’i-iʔ koma-ri-Ø-s’i
pron.acc-1 любить-dub-s3-praet
‘будет ли он меня любить?’
(15) Онэй нээ тале моды-э-за, кунь э-ри-Ø-çь
настоящий женщина воровать.inf смотреть-aor-o3 как быть-dub-s3-praet
‘Энка украдкой на нее (= на ведьму) смотрит, что дальше будет’. [Сорокина, Болина 2005: текст 12, предл. 60]
Энецкий показатель -bi, очевидно, можно отождествить по употреблению с нганасанским показателем оптатива -HA1-A0, энецкий показатель -ri — с нганасанским показателем дубитатива -LI̮. В результате имеем следующую систему форм.
Таблица 19
Система конъюнктивно-оптативных форм северносамодийских языков
Конъюнктив | — | -bi (л. эн.) | -HA1-A0 |
-yi | -ni | — | |
Дубитатив | — | -ri | -li̮ |
В энецком эти показатели естественнее трактовать как представляющие субстрат нганасанского типа. Показатель оптатива -bi является морфологическим реликтом, сохранившимся только в парадигме отрицательного глагола в единственной идиоматизированной конструкции ‘не сделать ли P, хорошо бы сделать Р’, то есть он во всяком случае не выглядит более молодым элементом системы в сравнении с общесамодийским конъюнктивом, продуктивным образом выражающим это значение в современном энецком. Показатель дубитатива, судя по всему, сохраняет в энецком также только реликтовые употребления. При этом возможность его сочетания с показателем претерита в обоих энецких диалектах (см. (14) и (15)) позволяет рассматривать этот показатель как субстратный элемент, получивший в энецком самостоятельное развитие в конструкции с адстратным постфиксальным показателем претерита, а не как позднее копирование нганасанской конструкции (в нганасанском постфиксального показателя претерита нет).
11. Периферия грамматической системы: нганасанское субстратное влияние
11.1. Личные местоимения
В энецком языке личные местоимения 1 и 2 лица с высокой вероятностью близки к тем же праформам, которые имеют в нганасанском личные местоимения эмфатической серии (ср. в особенности формы неединственного числа типа эн. mod’ińiʔ ‘мы двое’< *mə̈n-siə-nij, нг. mi̮ńśiəniC ‘мы двое’< *men-siə-nij), см. таблицу 20.
Таблица 20
Личные местоимения северносамодийских языков
Ненецкий | Энецкий | Нганасанский | ||
эмф. | прост. | |||
1sg | məny° | mod’i | mi̮ńśiənə | mənə |
1du | mənyih | mod’ińiʔ | mi̮ńśiəniC | mii |
1pl | mənyaq | mod’inaʔ | mi̮ńśiəni̮ʔ | mi̮ŋ |
2sg | pir° ~ pədər°~ | tod’i | ti̮ńśiətə | tənə |
2du | pəd°ryih piry°h | tod’idiʔ | ti̮ńśiətiC | tii |
2pl | pəd°raq piraq | tod’idaʔ | ti̮ńśiəti̮ʔ | ti̮ŋ |
Вместе с тем энецкий демонстрирует некоторые отличия от нганасанского, которые говорят скорее об определенном периоде независимого развития форм в энецком и нганасанском, чем о недавнем копировании, что позволяет нам относить эти местоимения в энецком к субстратному слою. Ниже приведены праформы местоимений в нганасанском и энецком и прокомментировано их развитие.
1sg: нг. *men-siə-nə, эн. *mə̈n-siə (в нганасанском используется специальная основа личного местоимения с особой огласовкой, в энецком отсутствует лично-притяжательный показатель25, в суффиксе произошло сокращение дифтонга).
1du: нг. *men-siə-nij, эн. *mə̈n-siə-nij.
1pl: нг. *men-siə-nåt, эн. *mə̈n-s’iə-nåt.
2sg: нг. *ten-siə-ntə, эн. *tə̈n-siə (в нганасанском используется специальная основа личного местоимения с особой огласовкой, в энецком отсутствует лично-притяжательный показатель).
2du: нг. *ten-siə-ntiŋ, эн. *tə̈n-siə-ntiŋ.
2pl: нг. *ten-siə-ntåt, эн. *tə̈n-siə-ntåt.
11.2. Вопросительные и указательные местоимения
В энецком представлено несколько основ вопросительных локативов и дейктических / анафорических местоимений:
а) чистая основа:
Праформа | т. нен. | т. эн. | л. эн. | нг. | |
вопр. | *ku- | xu-d° ‘откуда?’ | ku-δo ‘откуда?’ | ku-tə ‘откуда?’ | |
дальний дейксис | *tə̈- | təh ‘тот’ | too(Ɂ) ‘туда’ too ‘тот’ | təə ‘тот’ | |
ближний дейксис | *ə̈m(ə̈)- | eoɁ ‘этот’ | əmə-С ‘туда’ | ||
— | omoone ‘по этому месту’ | əmə-əni̮ ‘по этому месту’ | |||
б) основа + *-t3kə̑(jə̑)
Праформа | т. нен. | эн. | нг. | |
вопр. | *ku-t3kV | ku-ke ‘кто, который?’ ku-ko-xorio-ne ‘хоть где’ | ||
дальний дейксис | *ti-t3kV | tyi-ki° ‘тот’ tyi-ka-xəd° ‘оттуда’ | t’i-ke ‘тот’ t’i-ko-xoδo ‘оттуда’ | |
ближний дейксис | *ə̈m(ə̈)-t3kV | e-ke ‘этот’ e-ko-xoδo ‘оттуда’ | ||
*tü-kV | tyu-ku° ‘этот’, tyu-ko-xəd° ‘оттуда’ |
в) основа + *-ńi(ə̑)
Праформа | т. нен. | т. эн. | л. эн. | нг. | |
вопр. | *ku-ńi- | ku-u꞊no-ne ‘где? | ku-u꞊ne-ne ‘где? ku-ni-ne ‘где?’ | ku-ńi-ni ‘где?’ | |
дальний дейксис | *tə̈-ńi- | te-i꞊no-ne ‘там’ | te-i꞊ne-ne ‘там’ to-ni-ne ‘там’ | tə-ńi-ni ‘там’ | |
ближний дейксис | *ə̈mə̈-ńi- | i-i꞊no-ne ‘там неподалеку’ | i-i꞊ne-ne ‘там неподалеку’ | əmə-ńi-C ‘туда в сторонку’ |
Серия а) является наиболее архаичной. Серия б), очевидно, возникла в энецком под вторичным влиянием ненецкого: во-первых, мы видим, что этот суффикс аналогически распространился на большее число форм, чем в ненецком, во-вторых, в энецком он фонетически более регулярен (регулярна огласовка суффикса как в номинативе, так и в формах косвенных падежей, за счет чего нет прямого исторического соответствия ненецких и энецких форм). Серия в), очевидно, отражает субстратное влияние нганасанского: в ненецком подобных форм нет. Прокомментируем несколько наиболее интересных моментов:
1) Следует обратить внимание на общий для нганасанского и энецкого корень местоимения близкого дейксиса *ə̈m(ə̈)-, отсутствующий в ненецком. На то, что этот элемент является субстратным, указывает, во-первых, особое фонетическое развитие форм с этим корнем в энецком (анлаутный e-, i- вместо регулярного o-), что было бы невозможно при вторичном заимствовании. Во-вторых, в местоимениях серии в) мы видим специфически энецкую морфологическую структуру местоимений (т. эн. i-i꞊no-ne, л. эн. i-i꞊ne-ne ‘там неподалеку’ — из стянувшейся послеложной конструкции), что также указывает на определенный возраст этих форм в энецком.
2) На то, что серия б) отражает вторичное влияние ненецкого адстрата, указывает также местоимение e-ke ‘этот’, e-ko-xoδo ‘оттуда’: исторически корректной была бы форма **e-ge, **e-go-xoδo (< *ə̈m-kə̈-jə̈, *ə̈m-kə̈-xə̈tə̈), однако в данном случае суффикс прибавляется ко вторичной, вычлененной по аналогии основе, представленной в других местоимениях с этим корнем в энецком.
3) На то, что серия в) отражает нганасанское субстратное влияние, указывает прежде всего сложное фонетически нерегулярное развитие этих форм в энецком. Местоимения являются квазиграмматическими элементами, за счет чего затрагивающие их фонетические процессы могут отличаться от тех, которые характерны для основного массива лексики. Заметим, что, если в случае вторичной серии б) энецкие формы максимально регулярны (что отличает их от фонетически нерегулярных ненецких), в случае субстратной серии мы видим фонетически нерегулярные формы уже в самом энецком:
*ku-ńi- > т. эн. ku-u꞊no-ne, л. эн. ku-u꞊ne-ne вместо ожидаемого т. эн. **ku-i꞊no-ne, л. эн. **ku-i꞊ne-ne;
*tə̈-ńi- > т. эн. te-i꞊no-ne, л. эн. te-i꞊ne-ne вместо ожидаемого т. эн. **to-i꞊no-ne, л. эн. **to-i꞊ne-ne;
*ə̈mə̈-ńi- > т. эн. i-i꞊no-ne, л. эн. i-i꞊ne-ne вместо ожидаемого т. эн. **e-i꞊no-ne, л. эн. **e-i꞊ne-ne.
4) В лесном энецком сохранились возникшие под вторичным нганасанским влиянием формы, которые не демонстрируют никаких нерегулярностей (такие формы обозначены в таблице стрелками). Наиболее показательна форма л. эн. omoone ‘по этому месту’ (соотв. нг. əmə-əni̮), в которой корень *ə̈m(ə̈)- уже имеет регулярный анлаутный o-.
Местоимения ‘какой?’, ‘такой’ имеют следующий вид в северносамодийских языках:
т. нен. | л. эн. | т. эн. | нг. | |
‘какой?’ | xurka | kurse | kuroe | kurəd’i |
‘такой’ | tərcya | torse | toroe | tərəd’i |
Местоимения ‘какой?’, ‘такой’ в лесном энецком, вероятнее всего, возникли под поздним сепаратным влиянием тундрового ненецкого. Во-первых, кластеры не должны были бы сохраниться, если бы эти формы представляли собой результат исторически регулярного развития общей с ненецким праформы. Во-вторых, очевидно, что из ненецкого было заимствовано местоимение т. нен. tərcya > л. эн. torse ‘такой’, затем в энецком из этого местоимения был вычленен суффикс л. эн. -rse, с помощью которого по аналогии было образовано местоимение kurse ‘какой?’: суффикс л. эн. -rse соответствует т. нен. -rcya, который, в свою очередь, является выступающим в переднерядных основах вариантом суффикса т. нен. -rka. Однако основа местоимения ‘какой’ является этимологически заднерядной (ср. этимологически корректное т. нен. xurka). Напротив, т. эн. toroe и kuroe точно соответствуют нг. tərəd’i и kurəd’i, так что можно предполагать, что в общеэнецком были представлены именно эти местоимения нганасанского субстратного типа, которые позже были вторично заменены в лесном энецком.
Вопросительное местоимение ‘что?’ имеет следующий вид в северносамодийских языках:
т. нен. | л. эн. | т. эн. | нг. | |
‘что?’ | ŋəm-ke ŋəmka-ryi (ср. также ŋəwo//cy° ‘для какой цели служить’) | obu | miiɁ (Ɂ < r) | maa |
Местоимение ‘что?’ лесного энецкого родственно ненецкому, однако выглядит как вторичная адаптация (в ходе смены языка) основы gen.pl ненецкого местоимения: л. эн. obu ← т. нен. ŋəwoq (форма gen.pl от ŋəm-ke). Параллелизм основы т. нен. и л. эн. обнаруживается также в л. эн. obu-ru [что-lim] ‘вещи’, ср. т. нен. ŋəworyiq [что-lim-gen.pl] ‘вещи’. Местоимение т. эн. miiɁ (Ɂ < r) ‘что?’ явно родственно нг. maa ‘что?’; нганасанский отражает праформу *me̮ə̑, т. эн. — праформу *me̮ə̑-r c дополнительной перегласовкой *ə > i перед ауслатным суффиксальным r. Различие морфологической структуры местоимений нганасанского и тундрового энецкого заставляет рассматривать эту параллель между двумя идиомами не как случай вторичного контактного влияния нганасанского, а как сохранение общего архаизма — в противовес сближению лесного энецкого с ненецким, о вторичности которого свидетельствует адаптация энецким морфонологически и морфологически более удобной формы местоимения gen.pl26.
12. Заключение
Можно заметить, что практически никогда историческая фонетика не помогала нам отделить в энецком ни нганасанские субстратные явления от ненецких адстратных, ни результаты вторичного влияния нганасанского от хронологически более ранних явлений: для всех рассмотренных материальных единиц выполняются все исторические фонетические законы, которые мы знаем для энецкого. В связи с этим интересно следующее наблюдение: Е. А. Хелимский рассказывал в личной беседе, что один из лучших его информантов по тундровому энецкому, Холю Николаевич Каплин, также в совершенстве владевший ненецким, иногда мог выдавать «фантомные» энецкие слова, существование которых не подтверждали потом другие квалифицированные носители тундрового энецкого. Дело в том, что Е. А. Хелимский собирал от Х. Н. Каплина лексические материалы, причем Холю Николаевичу (который не владел свободно русским языком) было проще работать не с русскими стимулами, а с ненецкими (из словаря [Терещенко 1965]). Обсуждающиеся «фантомные» слова возникали как побочный результат такой работы: как оказалось, для Х. Н. Каплина было естественно пересчитать, как фонетически должна была бы выглядеть энецкая форма, соответствующая ненецкому стимулу (хотя в реальности такого энецкого слова не было).
При этом в завершение статьи нам хотелось бы обсудить один пример, показывающий, что в ситуации такого предполагаемого «билингвизма с пересчетом» изредка даже лексическая и грамматическая части одного и того же слова могут быть «обработаны» различным образом. Разберем случай с названием мамонта (см. также [Кахейнен 2022], где обсуждается история этого слова в самодийских языках). Т. эн. kari-a ‘живой мамонт’ соответствует нг. kala-ŋu ‘живой мамонт’, а т. эн kari-i ‘мамонтовая кость’ соответствует нг. kala-d’əə ‘мамонтовая кость’. Суффиксы обоих слов, безусловно, проще объяснить в нганасанском, чем в энецком, ср. суффиксы в нг. hulu-ŋu ‘корпус нарты’, horə-ŋu ‘объект ругани, оспариваемый объект’, мəнə-ӈу ‘шаманское пение, песенное камлание’ (при мəнə-му ‘совет, рекомендация’) и суффикс именного претерита в bəbə-d’əə ‘бывшее место (на котором прежде находился какой-то предмет, раньше сидел человек, лежал олень и т. п.)’: в нганасанском первый суффикс непродуктивен, второй продуктивен, в энецком первого суффикса нет вообще, а второй непродуктивен.
Парадокс этих слов состоит в том, что соответствия гласных в корневой части т. эн. kari- и нг. kala- выглядят как очень поздние (исторического соответствия т. эн. a = нг. а в первом слоге нет). Однако соответствия в суффиксальной части т. эн. -a = нг. -ŋu и т. эн. -i = нг. -d’əə выглядят как исторически корректные, подтверждаясь и остальным массивом лексики. В [Кахейнен 2022] высказывается предположение, что энецкое слово заимствовано из нганасанского (в нганасанском, действительно, историческим продолжением самодийского слова со значением ‘мамонт’ является нг. koliiŋ ‘кит’). Однако этому противоречат два обстоятельства: во-первых, оснований предполагать производность этих слов на энецкой почве нет — в энецком нет оснований выделять подобные суффиксы, тогда как из нганасанского материла их производность объясняется вполне естественно. Во-вторых, надежных примеров заимствований из (тундрового) энецкого в нганасанский нет. Так что, каким бы ни был источник нганасанского слова, в энецком это слово выглядит так, что корень, образно говоря, представляет собой случай заимствования без пересчета вокализма, а суффиксы — случай заимствования с пересчетом вокализма. Такие парадоксы, вероятно, порождаются ситуацией билингвизма.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо
acc — аккузатив
adj — атрибутивный показатель
adv — показатели падежей, употребляющиеся в наречиях и послелогах
aor — аорист
carit — каритив
cn — коннегатив
cond — условное деепричастие
dest — дестинатив
dim — диминутив
du — двойственное число
dub — дубитив
dur — дуратив
el — аблатив
excl — восклицание
fut — будущее время
gen — генитив
hab — хабитуалис
imp — императив
inf — инфинитив
ipfv — имперфектив
lat — латив
loc — локатив
neg — отрицательный глагол
o — объектное спряжение
opt — оптатив
pl — множественное число
praes — настоящее время
praet — прошедшее время
prol — пролатив
pron — личное местоимение
r — рефлексивное спряжение
s — субъектное спряжение
sg — единственное число
spec — выделительная форма ‘один из нескольких’
vdn — суффикс, образующий отыменные глаголы
1 Прасамодийские реконструкции приводятся по [Janhunen 1977] с учетом изменений в реконструкции прасамодийского вокализма, предложенных в [Helimski 2005]. Материалы по отдельным самодийским языкам приводятся по следующим источникам: для нганасанского и энецкого использовались неопубликованные словари, собранные Е. А. Хелимским (для нганасанского также дополнительно словарь [Костеркина и др. 2001]), для тундрового ненецкого — [Salminen 1998], для маторского — [Helimski 1997], для селькупского — [Alatalo 2004], для камасинского — [Donner, Joki 1944] (иногда с дополнениями по [Castrén 1855]).
2 В ненецком, по-видимому, сохранялись в определенный период только вокалические последовательности с первым гласным верхнего подъема, о чем свидетельствует долгота гласных в случаях типа т. нен. tyí-r° ‘облако’, pú ‘позади’, tyú ‘рукав’ (отметим, что в ненецком в данном случае имеет место монофтонгизация, нехарактерная для нганасанского и энецкого, сохраняющих разное качество первого и второго гласного в вокалических последовательностях), следов сохранения иных вокалических последовательностей в ненецком нет.
3 Поэтому для обозначения сингармонического ряда слова мы употребляем обозначения, принятые для нганасанского: (I) — переднерядные основы, (U) — заднерядные основы.
4 Вероятно, это явление существовало в статусе аллофонического варьирования, и в языках, утративших сингармонизм, произошло выравнивание, а в языках, сингармонизм сохранивших, — фонологизация этого противопоставления.
5 Впрочем, в отсутствие южносамодийских соответствий мы не можем определить л. эн. eδo ‘верх’, ср. нг. нячи- (I) ‘выше по реке’, и л. эн. ede- ‘радоваться’, ср. нг. нялты- (I) ‘радоваться’, как слова, представляющие вокалический анлаут или анлаутный *ń-.
6 Для энецкого и ненецкого нет примеров, позволяющих по нганасанскому соответствию определить слово с *а как относящееся к переднему ряду, но нет оснований реконструировать иные рефлексы.
7 В [Janhunen 1977: 68] восстанавливается *ker-, но нганасанский (и койбальский, см. в ячейке камасинского материала в данной строке таблицы) указывают на *kär-.
8 В [Janhunen 1977: 79] дана праформа *küŋ, современные записи позволяют уточнить праформу в виде *küə̑ŋ.
9 В нганасанском перехода *k > s в суффиксах нет. Соответствующие диминутивные суффиксы всегда выступают в нганасанском в форме -AɁKU0 либо -AŊKU0. При этом *k сохраняется в нганасанском также и в тех переднерядных алломорфах суффиксов, гласный которых в ином случае — в анлауте слова — вызывает переход *k > нг. s, ср. сяру-кяли (I) [стыд-carit] ‘бесстыжий’ < *karз-kali (I). Поскольку в одном и том же фонетическом контексте в анлауте корня переход *ka (I) > нг. sia происходит, но в суффиксе перехода нет, можно предположить, что в нганасанском произошло вторичное выравнивание в суффиксе для устранения слишком значительного различия между алломорфами (заглавными буквами здесь и далее обозначается морфонологическая запись нганасанских морфем).
10 На этимологический передний ряд указывает чередование yø // ye в форме acc.pl в ненецком.
11 Значения ‘лед’, ‘соль’ и ‘белый’ передаются в северносамодийских языках одним корнем. В переднерядном варианте — наряду с более распространенным заднерядным — оно встретилось в нганасанских текстах и словарных материалах в формах сырты ‘его соль’, сырты ‘его лед’, сыриалыʔыа ‘белесый’, сыриайси ‘белый’, сырлиа ‘ледяной’, букв. ‘только лед’.
12 В этом слове представлен переднерядный вариант -it’u другого диминутивного суффикса, эн. -iku (U) ~ -it’u (I), но в энецком слов с ним почти нет.
13 После знака / приводится вариант записи этимологического кластера у Г. Ф. Миллера (материалы XVII в., см., например, в публикации [Donner 1932: 36–50]) и М. А. Кастрена (материалы XIX в. [Castrén 1855]) в том случае, если эти варианты отличаются от современных.
14 Возможно, протетическим назальным исходно во всех случаях был *ŋ, который впоследствии был палатализован в *ń в тех же контекстах, в которых произошел переход *k > s (напомним, что условия этого перехода различны в северносамодийских языках — как различны и контексты распределения протетических ŋ и ń). Для нас не является существенным выбор между двумя моделями возникновения назальной протезы: с двумя назальными *ŋ и *ń или с одним назальным *ŋ, палатализованным в ń в ряде контекстов.
15 Этому способствует то, что в ненецких диалектах протетический назальный также может в редких случаях устраняться (см., например, слова с вокалическим анлаутом в словаре [Lehtisalo 1956]), так что в определенном смысле эти фонемы, вероятно, отличались от полноценного консонантного анлаута менее тесной связью с корнем (скорее с точки зрения внутрисистемной, нежели собственно фонетической).
16 В таблицу внесены только те гласные, перед которыми согласный палатализуется хотя бы в одном из языков.
17 Обозначения в таблице: НП — непалатализованный, П — палатализованный.
18 Здесь в качестве аналогии можно привести анализ результата контактов родственных идиомов, предложенный Ю. К. Кузьменко: «Появление германо-кельтско-италийской просодической изоглоссы (фиксация ударения на корне. — А.У.) можно представить себе и как явление, связанное с контактами родственных языков германского, италийского и кельтского (до Первого перебоя и закона Вернера, и до многих других германских изменений), когда протогерманский, протоиталийский и протокельтский еще не слишком отличались друг от друга. Модель их контактов могла бы соответствовать модели, предложенной для объяснения редукции флексий в английском языке, которая по Есперсену была предопределена сходством корней и несходством окончаний в древнеанглийском и скандинавском в эпоху датского завоевания Англии. Причем эти контакты предопределили даже не столько редукцию окончаний, сколько выделение корневой морфемы. Типологически сходный процесс выделения корня при контакте родственных языков со сходными корнями был характерен и для южнодатско-северофризско-нижненемецкой контактной зоны на юге Ютландии [Кузьменко 1995]. Можно предположить, что подобные процессы происходили и при германо-итало-кельтских контактах в то время, когда многие корни сохраняли сходство, так что была возможна семикоммуникация» [Кузьменко 2011: 43]. В данном случае интересно обратить внимание на выделенную тенденцию: при семикоммуникации носителей родственных языков сохраняются сходные элементы системы и устраняются различные. Именно с проявлением этой тенденции, как кажется, можно связать возникновение собственно энецких историко-фонологических инноваций — максимального упрощения тех фрагментов системы, в которой нганасанский устроен сложнее, чем ненецкий (и наследующий ему энецкий). Это именно те случаи, когда различие в системах наиболее очевидно: с одной стороны, системы (до возникновения инноваций) достаточно схожи, чтобы между ними было возможно отождествление, с другой стороны, из-за принципиально более высокой сложности нганасанской системы в этих случаях полное отождествление (в частности, за счет «пересчета» между системами) невозможно.
19 Это положение центрально географически, но не лингвистически: центром зарождения и распространения инноваций энецкий не мог быть в силу малого числа говорящих.
20 Их алломорфы обсуждались в разделе 2.3 выше.
21 Показатель дуратива имеет в энецком вид -be, показатель хабитуалиса — вид -mobi. Разница в гласном (e или i) объясняется тем, что хабитуалис не входит в лексическую основу глагола, то есть является грамматическим, а не деривационным показателем. Соответственно, в отличие от деривационного дуративного показателя, мы видим его только в составе финитных форм. Как показывает нганасанская форма муну-мумба-тум [говорить-hab-s1sg] ‘я всегда (так) говорю’, после хабитуального показателя употребляется показатель какого-либо времени (или наклонения). В энецком наиболее частотная финитная форма — аорист. Эта форма образуется от дуративных глаголов перегласовкой e → i: edebe- ‘радоваться’ → edebi-δo [радоваться.aor-s1] ‘радуюсь’. Можно предположить, что хабитуальный показатель -mobi представляет собой результат грамматикализации такой аористной формы.
22 Как и с другими архаизмами, из двух возможных объяснений (независимое сохранение архаизма энецким и нганасанским vs. наследование формы энецким из субстрата нганасанского типа) мы выбираем второе потому, что оно представляется нам более вероятным на фоне других фактов субстратного влияния, проанализированных в статье.
23 Примеры без ссылки на источник выбраны из нганасанских текстов, любезно предоставленных в мое распоряжение В. Ю. Гусевым.
24 Фонетические варианты.
25 Это можно объяснить как раз переходом на язык типа ненецкого: в ненецком местоимения 1du и 1pl так же, как и в энецком, по-видимому, образованы от местоимения 1sg, что показывает форма с лимитативной интраклитикой ryi т. нен. məny°-ryi-naq ‘только мы’, где məny° совпадает с местоимением т. нен. məny° ‘я’.
26 Этимология обеих основ также говорит в пользу именно такой трактовки: местоимение *ə̑m- имеет ненадежную параллель в камасинском [Janhunen 1977: 17], местоимение *me̮-ə̑- имеет надежные общесамодийские параллели [Ibid.: 17].
About the authors
Anna Yu. Urmanchieva
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: urmanna@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg
References
- Гусев 2006 — Гусев В. Ю. О сохранении архаичных форм в неассертивных контекстах: материал самодийских языков. Проблемы типологии и общей лингвистики. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. А. Холодовича: материалы. Храковский В. С., Дмитренко С. Ю., Заика Н. М. (ред.). СПб.: Нестор-История, 2006, 41–45. [Gusev V. Yu. On retainment of archaic forms in non-assertive contexts: Samoyedic data. Problemy tipologii i obshchei lingvistiki. International conf. on the 100th birthday of A. A. Kholodovich: Proceedings. Xrakovskij V. S., Dmitrenko S. Yu., Zaika N. M. (eds.). St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2006, 41–45.]
- Гусев 2022 — Гусев В. Ю. Рефлексы прасамодийских *a и *ä и нганасанский сингармонизм. [Gusev V. Yu. Reflexes of Protosamoyedic *a and *ä and Nganasan vowel harmony.] Sibirica et Uralica: In Memoriam Eugene Helimski. Anikin A., Gusev V., Urmanchieva A. (eds.). Szeged: Univ. of Szeged, 2022, 39–62.
- Кахейнен 2022 — Кахейнен К. К вопросу о ранних контактах между самодийскими языками: заметки об истории нган. колииң. [Kaheinen K. On early contacts between Samoyed languages: Essays on the history of Nganasan колииң.] Sibirica et Uralica: In Memoriam Eugene Helimski. Anikin A., Gusev V., Urmanchieva A. (eds.). Szeged: Univ. of Szeged, 2022, 77–94.
- Костеркина и др. 2001 — Коcтеркина Н. Т., Момде А. Ч., Жданова Т. Ю. Словарь нганасанско-русский и русско-нганасанский. СПб.: Просвещение, 2001. [Kosterkina N. T., Momde A. Ch., Zhdanova T. Yu. Slovar’ nganasansko-russkii i russko-nganasanskii [Nganasan-Russian and Russian-Nganasan dictionary]. St. Petersburg: Prosveshchenie, 2001].
- Кузьменко 1995 — Кузьменко Ю. К. Этнические контакты в Ютландии и языковые изменения в датских диалектах. Этнолингвистические исследования. Этнические контакты и языковые изменения. Бородина М. А., Кузьменко Ю. К. (ред.). СПб: Наука, 1995, 28–60. [Kuzmenko Yu. K. Ethnic contacts in Jutland and linguistic changes in Danish dialects. Etnolingvisticheskie issledovaniya. Etnicheskie kontakty i yazykovye izmeneniya. Borodina M. A., Kuzmenko Yu. K. (eds.). St. Petersburg: Nauka, 1995, 28–60.]
- Кузьменко 2011 — Кузьменко Ю. К. Ранние германцы и их соседи. Лингвистика, археология, генетика. СПб.: Нестор-История, 2011. [Kuzmenko Yu. K. Rannie germantsy i ikh sosedi. Lingvistika, arkheologiya, genetika [Early Germans and their neighbors. Linguistics, archeology, genetics] St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2011.]
- Лабанаускас 2002 — Лабанаускас К. И. Родное слово. Энецкие песни, сказки, исторические предания, традиционные рассказы, мифы. СПб.: Просвещение, 2002. [Labanauskas K. I. Rodnoe slovo. Enetskie pesni, skazki, istoricheskie predaniya, traditsionnye rasskazy, mify [Native word. Enets songs, tales, historical legends, traditional stories, myths]. St. Petersburg: Prosveshchenie, 2002.]
- Напольских 2006/2018 — Напольских В. В. Булгарская эпоха в истории финно- угорских народов Поволжья и Предуралья. Очерки по этнической истории. Напольских В. В. Казань: Казанская недвижимость, 2018, 64–86. [Napolskikh V. V. The Bulgarian era in the history of the Finno-Ugric peoples of the Volga and Cis-Ural regions. Ocherki po etnicheskoi istorii. Napolskikh V. V. Kazan: Kazanskaya nedvizhimost’, 2018, 64–86.]
- Сорокина, Болина 2005 — Сорокина И. П., Болина Д. С. Энецкие тексты. СПб.: Наука, 2005. [Sorokina I. P., Bolina D. S. Enetskie teksty [Enets texts]. St. Petersburg: Nauka, 2005.]
- Терещенко 1965 — Терещенко Н. М. (сост.) Ненецко-русский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1965. [Tereshchenko N. M. Nenetsko-russkii slovar’ [Nenets-Russian dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1965.]
- Урманчиева 2020 — Урманчиева А. Ю. Деривационная морфология образных глаголов тундрового ненецкого языка. [Urmanchieva A. Yu. Derivational morphology of depictive (onomatopoeic) verbs in Tundra Nenets.] Acta Linguistica Petropolitana, 2020, 16(3): 570–612.
- Филиппова 2011 — Филиппова Т. М. Особенности верхнеобского говора южных селькупов (тайзаковско-старосондровская группа). Вестник НГУ. Серия: история, филология, 2011, 2 (10): 81–87. [Filippova T. M. Peculiarities of the Upper Ob subdialect of the Southern Selkups (Tayzakovo-Starosondorovo group). Vestnik NGU. Series: History and Phylology, 2011, 2(10): 81–87.]
- Хелимский 1994 — Хелимский Е. А. Очерк морфонологии и словоизменительной морфологии нганасанского языка. Таймырский этнолингвистический сборник. Хелимский Е. А. (ред.). М.: РГГУ, 1994, 190–221. [Helimski E. A. Essay on morphonology and inflectional morphology of the Nganasan language. Taimyrskii etnolingvisticheskii sbornik. Helimski E. A. (ed.). Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 1994, 190–221.]
- Хелимский 1995/2000 — Хелимский Е. А. Proto-Uralic gradation: Continuation and traces. Компаративистика. Уралистика: Лекции и статьи. Хелимский Е. А. М.: Языки русской культуры, 2000, 167–190. [Helimski E. A. Proto-Uralic gradation: Continuation and traces. Komparativistika. Uralistika: Lektsii i stat’i. Helimski E. A. Moscow: Yazyki russkoi kul’tury, 2000, 167–190.]
- Alatalo 2004 — Alatalo J. Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo Alatalo. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2004.
- Castrén 1855 — Castrén M. A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. St. Petersburg: Be druckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1855.
- Donner 1932 — Donner K. Samojedische Wörterverzeichnisse. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1932.
- Donner, Joki 1944 — Joki A. J. Kai Donners kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1944.
- Helimski 1997 — Helimski E. Die matorische Sprache. Szeged: Szeged Univ., 1997.
- Helimski 1997/2022 — Helimski E. Zur Stellung des Matorischen innerhalb der samojedischen Sprachen. Siberica et Uralica: In memoriam Eugen Helimski. Gusev V., Urmanchieva A., Anikin A. (eds.). Szeged: Szeged Univ., 2022, 479–495.
- Helimski 2005 — Helimski E. The 13th Proto-Samoyedic vowel. Mikola-konferencia 2004. Wagner-Nagy B. (ed.). Szeged: SzTE Department of Finnougristics, 2005, 15–26.
- Janhunen 1977 — Janhunen J. Samojedischer Wortschatz: gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1977.
- Janhunen 1998 — Janhunen J. Samoyedic. The Uralic languages. Abondolo D. (ed.). London; New York: Routledge, 1998, 457–479.
- Katz 1987 — Katz H. Zur Phonologie des Motorisch-Karagassisch-Taigischen. Studien zur Phonologie und Morphonologie der uralischen Sprachen. Akten der dritten Tagung für uralische Phonologie, Eisenstadt, 28. Juni — 1. Juli 1984. Rédei K. (ed.). Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1987, 336–348.
- Khanina 2021 — Khanina O. Language and ideologies at the Lower Yenisei (Siberia): Reconstructing past multilingualism. International Journal of Bilingualism, 2021, 25(4): 1059–1080.
- Lehtisalo 1956 — Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1956.
- Salminen 1998 — Salminen T. A morphological dictionary of Tundra Nenets. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1998.
- Wagner-Nagy 2018 — Wagner-Nagy B. A grammar of Nganasan. Leiden: Brill, 2018.