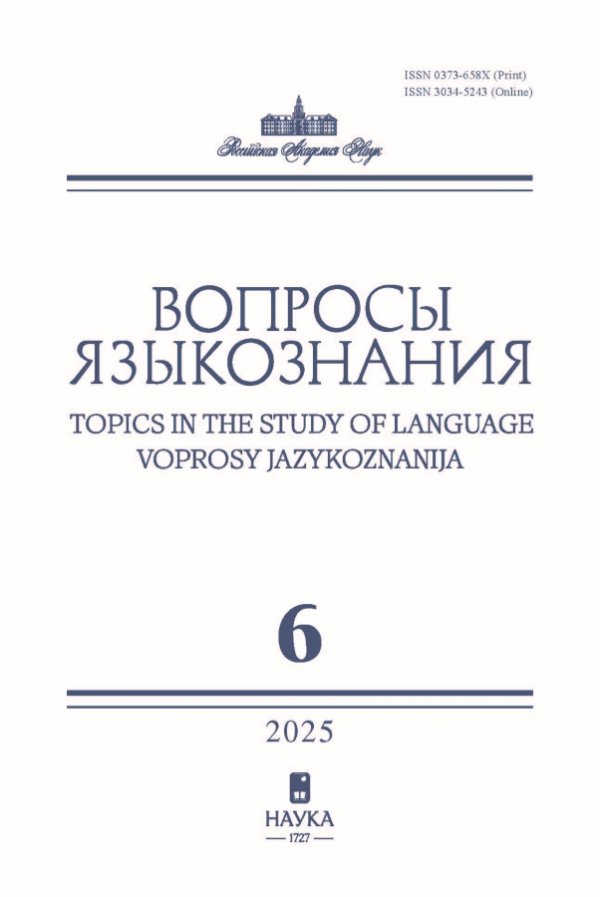Antonymy in Russian sign language
- Authors: Gusakova V.E.1, Burkova S.I.2,1
-
Affiliations:
- Novosibirsk State Technical University
- Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 60-84
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0373-658X/article/view/261677
- DOI: https://doi.org/10.31857/0373-658X.2024.1.60-84
- ID: 261677
Full Text
Abstract
The article discusses signs-antonyms in Russian Sign Language from the point of view of how visual modality in which this language exists affects their internal structure. The article shows that the correlation between the structure and semantics of antonymous gestures in Russian Sign Language is built primarily on iconicity and the use of three-dimensional space. This reveals the uniqueness of antonymic relations in sign languages in comparison with those in spoken languages.
Keywords
Full Text
Введение
В настоящей статье анализируются жесты-антонимы в русском жестовом языке (далее — РЖЯ)1 и проводится исследование влияния визуальной модальности, в которой существует этот язык, на их внутреннюю структуру. С семантической точки зрения отношения антонимии признаются одними из самых важных парадигматических отношений в лексике. Они свойственны всем естественным языкам. В лингвистике звуковых языков антонимы определяются как слова, «относящиеся к одной части речи и имеющие противоположные значения» [Кронгауз 2005: 146]. Также отмечается, что эти лексические единицы имеют общий компонент в своей семантической структуре, относясь при этом к нейтральному регистру и находясь на одном иерархическом уровне [Лаврова 2017].
Антонимии в жестовых языках лингвисты дают похожее определение: это отношение между жестами, значения которых противоположны. При этом подчеркивается, что это отношение бинарное — в него одновременно могут вступать только два жеста [Valli, Lucas 2000: 153]. Однако данное явление в жестовых языках к настоящему времени остается малоизученным, а работ, посвященных исследованию антонимии на материале РЖЯ, практически нет.
Статья состоит из трех частей. В первой части приводятся сведения о структуре жеста в жестовых языках, необходимые для дальнейшего изложения. Вторая часть представляет собой краткий обзор подходов к квалификации и классификации антонимов в существующей литературе по звуковым и жестовым языкам. В третьей части рассматривается антонимия в РЖЯ.
Исследование проводилось нами на основе сплошной выборки антонимов из тематического словаря РЖЯ [Фрадкина 2001], словаря РЖЯ [Базоев и др. 2020], международного онлайн-словаря жестовых языков [Spreadthesign] и онлайн-корпуса русского жестового языка [Корпус РЖЯ 2012–2015]2, а также материалов, полученных путем элицитации. Всего нами было выявлено 266 антонимических пар. В число носителей РЖЯ, участвовавших в элицитации, вошли глухие (шесть человек), слабослышащие (один человек) и CODA3 (два человека) обоих полов в возрасте от 23 до 50 лет.
1. Типы жестов и внутренняя структура жеста в жестовых языках
Жестовые языки — это языки визуальной модальности4, информация в них передается в трехмерном пространстве при помощи движений рук, головы, корпуса и мышц лица. Выделяются три основных типа жестов5 в зависимости от используемых говорящим6 артикуляторов: мануальные, комбинированные и немануальные.
Мануальные жесты исполняются руками. Далее они могут быть разделены на три подтипа в зависимости от количества и роли артикуляторов: одноручные (например, жест грамотный7, рис. 1); двуручные, в которых активны (т. е. движутся) обе руки (например, жест здоровый, рис. 2); двуручные, в которых одна рука является активной, а другая пассивной (неподвижной, но, тем не менее, принимающей участие в исполнении жеста, поскольку ее положение в пространстве относительно активной руки имеет значение, см., например, жест больной на рис. 3).
Рис. 1. Жест грамотный 8
Рис. 2. Жест здоровый
Рис. 3. Жест больной
К немануальным жестам относятся движения и положения мышц лица, направление взгляда, маусинг (беззвучная артикуляция слов / частей слов звукового языка), жесты рта (артикуляция некоторых звуков, движения губ и языка, вдох/выдох ртом; в отличие от маусинга жесты рта не обусловлены влиянием звукового языка), движения и положения головы и корпуса тела. В качестве самостоятельных языковых единиц немануальные жесты встречаются редко. Некоторые из них совпадают с жестами, которые используются слышащими людьми (например, повороты головы из стороны в сторону в значении отрицания). Обычно немануальные движения выступают в комбинации с мануальными жестами или с последовательностями жестов, выполняя различные функции. В фонологической функции они являются частью структуры комбинированных жестов (см. о последних ниже). Выполняя морфологическую функцию, они выражают различные адъективные и адвербиальные значения (например, жест РЖЯ легко может исполняться в сочетании с выпяченным кончиком языка, в этом случае он выражает значение ‘совсем легко’). В синтаксической функции немануальные движения маркируют вопросы разных типов, отрицание, условие, тему и т. д., а также границы просодических единиц. Во всех этих случаях их обычно называют не жестами, а немануальными показателями или немануальными маркерами (далее — НММ).
К комбинированным относятся жесты, в структуру которых, помимо движения рук, обязательно входит НММ. Например, в одном из жестов РЖЯ, выражающих значение ‘мочь’, движение руки обязательно сопровождается жестом рта — артикуляцией [ʌp].
В структуре мануального жеста выделяются четыре компонента или, в другой терминологии, параметра: конфигурация, ориентация, локализация и движение. Конфигурация — это форма кисти руки. Для описания конфигурации жестов-антонимов в последующих разделах значение имеют позиция пальцев (конфигурация суставов кисти руки) и выбранные пальцы. В работах [Brentari 1998; 2011] Дайан Брентари предложила выделять две основных позиции пальцев — закрытую и открытую; далее возможно более дробное деление: а) полностью открытая — палец полностью выпрямлен; б) изогнутая (закрытая) — согнуты только межфаланговые суставы; в) плоско-открытая — пястно-фаланговые суставы согнуты менее чем на 90˚; г) плоско-закрытая — пястно-фаланговые суставы согнуты на 90˚; д) согнутая открытая — пястно-фаланговые и межфаланговые суставы согнуты без контакта пальцев; е) согнутая закрытая — пястно-фаланговые и межфаланговые суставы согнуты с контактом; ж) полностью закрытая — все суставы полностью согнуты (см. рис. 4). Выбранные пальцы составляют особую конфигурацию руки в определенном жесте. Они могут двигаться во время исполнения жеста, и, таким образом, визуально более заметны по сравнению с невыбранными пальцами, которые неподвижны, менее заметны и служат фоном для выбранных. Например, в жесте грамотный (рис. 1) выбранными являются большой и указательный пальцы; они находятся в полностью открытой позиции, тогда как невыбранные пальцы — средний, безымянный и мизинец — находятся в полностью закрытой позиции.
Рис. 4. Конфигурации суставов кисти руки
Ориентация — это положение ладони и пальцев в пространстве по отношению к корпусу тела говорящего и, в двуручных жестах, положение рук по отношению друг к другу. Например, в жесте РЖЯ грамотный (рис. 1) кисть руки развернута ладонью к корпусу говорящего; пальцы направлены вверх.
Локализация представляет собой место исполнения жеста в пределах жестового пространства — области, используемой для артикуляции. Вертикальная граница ее начинается чуть выше головы и заканчивается у талии, а горизонтальная граница пролегает от одного локтя до другого при свободном расположении рук. Локализация включает в себя два признака: место исполнения и сеттинг. Место исполнения — это одна из нескольких крупных областей в области жестового пространства: голова, корпус, пассивная рука, нейтральное жестовое пространство (пространство перед говорящим, в котором жест выполняется без контакта руки с телом, исключая контакт кистей рук между собой). Сеттинг уточняет местоположение жеста внутри этой крупной области. Например, в пределах места исполнения «голова» можно выделить такие сеттинги, как «лоб», «висок», «подбородок», «нос», «щека», «ухо». В отношении локализации важно также различать контактные и бесконтактные жесты. Контактные жесты «привязаны» к определенной области на теле говорящего, их локализацию нельзя изменить, в противном случае жест не будет понятен9. Например, жест грамотный (рис. 1) исполняется в области лица у виска, жест больной (рис. 3) — на тыльной стороне ладони пассивной руки, жест радостный (рис. 5) — у груди. Бесконтактные жесты могут сдвигаться в пределах жестового пространства, т. е. исполняться правее или левее, выше или ниже; например, бесконтактными являются жесты дом (рис. 6), окно (рис. 7).
Рис. 5. Жест радостный
Рис. 6. Жест дом
Рис. 7. Жест окно
Движение — наиболее сложный и внутренне неоднородный параметр жеста. Выделяются два основных типа движения: траекторное и внутреннее. Траекторное движение — это перемещение руки от одной локализации к другой; основными его характеристиками являются направление (относительно вертикальной, горизонтальной и сагиттальной осей) и характер (по прямой, по дуге, по зигзагу, резкое/плавное и т. д.). Например, в жесте радостный (рис. 5) руки поочередно совершают дугообразные движения сверху вниз параллельно корпусу говорящего. Внутреннее движение — это изменение конфигурации или ориентации кисти руки. Например, в начальной точке исполнения жеста здоровый (рис. 2) пальцы расправлены и слегка согнуты, кисти рук ориентированы ладонями к говорящему кончиками пальцев вверх, а в конечной точке исполнения пальцы сжаты в кулаки, ладони расположены горизонтально пальцами в направлении от говорящего10.
Еще в ранних работах по жестовой лингвистике [Stokoe 1960; Battison 1978] было показано на материале американского жестового языка (ASL), что подобно тому, как слова английского языка строятся из ограниченного набора фонем, жесты в ASL представляют собой комбинации конфигурации, ориентации, локализации и движения. По своим функциям параметры во внутренней структуре жеста действительно обнаруживают много сходств с фонемами в звуковых языках. Не случайно в описаниях жестовых языков часто используются термины «фонетика» и «фонология» применительно к внутренней структуре жеста. Однако полностью отождествлять параметры жеста и фонемы все же нельзя. Одним из эффектов визуальной модальности является то, что во многих (хотя и не во всех) жестах один или несколько его параметров иконически мотивированы. Например, жесты, обозначающие различные когнитивные процессы (думать, понимать, забыть и т. п.), обычно имеют локализацию в области лба, там, где расположен мозг; в жесте тигр конфигурация рук и локализация у носа изображают усы животного, в жесте кофе конфигурации рук и движение активной руки изображают процесс помола кофе ручной мельницей. При этом, хотя в некоторых жестах те или иные параметры оказываются семантически нагруженными, их нельзя отождествлять и с морфемами. Они не удовлетворяют такому критерию морфемы, как повторяемость и воспроизводимость в плане выражения и в плане содержания. Например, локализацию у лба имеют и жесты, не связанные с обозначением когнитивных процессов: мальчик, черный, туалет11.
Как мы увидим ниже, и в области антонимии в РЖЯ те или иные параметры многих жестов в антонимической паре, а точнее даже, противопоставления этих параметров оказываются иконически мотивированными. Это один из эффектов визуальной модальности.
2. Антонимия в звуковых и жестовых языках
В основе антонимии лежит ассоциация по контрасту, в которой отражаются существенные различия однородных предметов, явлений, действий, качеств и признаков. Как отмечается во введении к Словарю антонимов русского языка, антонимия — это одна из важнейших лингвистических универсалий, одно из существенных измерений лексико-семантической системы различных языков [Новиков 1984]. Антонимы имеют общий компонент в своей семантической структуре. Семантическая общность, в обязательном порядке присущая им, проявляется в «соотносительности значений», или в принадлежности к одной «лексико-семантической парадигме», или в том, что они выражают одно и то же родовое понятие. При этом антонимы относятся к нейтральному регистру и стоят на одном иерархическом уровне [Шанский 1964/2009; Шмелев 1966; Лаврова 2017]. Ученые также указывают на то, что антонимы необходимо характеризовать с двух точек зрения — парадигматической и синтагматической. Парадигматические свойства антонимов подразумевают, что данные лексические единицы могут иметь не только противоположные, но и обратные, однако не противоречащие значения, имеющие семантическую общность. К синтагматическим свойствам относится хотя бы частичное совпадение сочетаемости или возможность хотя бы частичной взаимозамены в одном и том же контексте [Апресян 1995].
В работах по звуковым языкам антонимы классифицируются по различным основаниям. Прежде всего, существует классификация, которая опирается на уровень языка, к которому принадлежат антонимичные единицы: лексические (словесные) и фразеологические антонимы [Миллер 1990]. Кроме того, здесь же, в зависимости от типа языковых единиц, могут быть также выделены грамматические антонимы [Апресян 1995]. В статье [Лаврова 2017], посвященной типологии антонимов, в числе прочего предлагается деление антонимов на канонические и неканонические. Первые морфологически просты, имеют прямые, а не переносные значения, часто употребляются в различных видах дискурса и в устойчивых словосочетаниях. Вторые морфологически сложны и представлены преимущественно переносными значениями слов. Там же говорится, что, по аналогии с синонимами, в антонимии по критерию «зависимость от контекста» можно также выделить логические и прагматические антонимы. Логические выражают противоположность вне зависимости от контекста. Прагматические антонимы всегда контекстуально обусловлены, причем в данном случае под контекстом в большей степени подразумеваются экстралингвистические факторы. Предмет нашей статьи составляет лексическая антонимия, и далее мы сосредоточимся именно на ней.
Для лексической антонимии выделяются три основных классификации — структурная, функционально-деривационная и семантическая. Структурная классификация основывается на морфологической структуре антонимов, деля их на две большие группы — однокоренные и разнокоренные (альтернативные названия этих групп — лексико-грамматические и собственно лексические антонимы) [Апресян 1995]. Примерами однокоренных антонимов могут служить пары собирать — разбирать, грамотный — неграмотный [Новиков 1984: 22]. К разнокоренным можно отнести такие пары, как глупый — умный, мириться — ссориться. В работе [Tamm et al. 2017] отмечается, что одно и то же слово в языке может иметь как однокоренной, так и разнокоренной антонимы, которые могут иметь отличия в денотативном значении и/или разные коннотации. При этом разнокоренные антонимы более характерны для выражения каких-либо конкретных физических свойств, а однокоренные — для абстрактных логических отношений. Есть языки, для которых свойственно использование однокоренных антонимов для выражения большинства значений (например, литовский и русский), в то время как некоторые другие языки (например, индонезийский и юкатекский) вообще не используют стратегию словообразования в области антонимии. Еще одной разновидностью антонимии в рамках структурной классификации является энантиосемия (внутрисловная антонимия, или Janus words [Murphy 2003]), подразумевающая противоположность значений одного и того же многозначного слова, например одолжить кому-нибудь денег — одолжить у кого-нибудь денег.
Функционально-деривационная классификация антонимов основана на их «глубинных» функциональных связях. В ключе рассуждений о функционально-деривационной классификации вполне допускается, что большое разнообразие антонимических отношений может быть сведено к ограниченному числу исходных противопоставлений (большой — маленький, начало — конец, хороший — плохой, взаимная противопоставленность и взаимное дополнение противоположностей и т. д.) [Новиков 1984: 18].
Семантическая классификация антонимов является самой распространенной, она основана на выражаемом ими типе противоположности. Согласно ей, антонимы можно разделить на три основных группы: контрарные, комплементарные и векторные.
Контрарные (в другой терминологии — градуальные) антонимы выражают качественную противоположность. Их можно представить в виде ‘меньше X’ — ‘больше X’, а само явление контрарной антонимии — в виде шкалы, содержащей несколько пар антонимов [Кронгауз 2005: 146]. Антонимы, находящиеся в пределах этой шкалы, характеризуются различной степенью проявления одного и того же признака, например: легкий (простой, пустяковый) — нетрудный — средней трудности — нелегкий — трудный. Существует целый ряд контрарных противопоставлений, где средний член является точкой отсчета, не имея при этом специального выражения в языке: грубый — (0) — нежный; слава — (0) — позор [Новиков 1984: 23].
Комплементарные (в другой терминологии — контрадикторные) антонимы, соответствующие схеме ‘X’ — ‘не X’, выражают дополнительность — то есть это противоположные лексические единицы, дополняющие друг друга до целого, исчерпывая существующие возможности [Новиков 1984; Кронгауз 2005]. В этот класс, как правило, входит не так много слов. На шкале противопоставления находятся всего два противоположных члена (не считая их синонимов). В результате отрицания одного из таких антонимов мы получаем значение другого — между ними нет ничего среднего, например: война — мир; живой — мёртвый; можно — нельзя; истинный — ложный.
Векторные (направительные) антонимы выражают противоположную направленность действий, свойств и признаков. Данный вид основывается на логической противоположности, например: разрешать — запрещать; забывать — вспоминать; исчезать — появляться; заболевать — выздоравливать; увеличивать — уменьшать; восход — закат и т. п. Векторные антонимы, в свою очередь, могут быть разделены на три группы: собственно направительные, конверсивные (реляционные) и реверсивные [Murphy 2003; Лаврова 2017]. Собственно направительные антонимы содержат смысловые компоненты «вертикаль» — «горизонталь», «право» — «лево». Конверсивные отражают одну и ту же ситуацию с разных точек зрения (с позиций разных актантов), во многих случаях описывая отношения между людьми (профессиональные, внутрисемейные, деловые и т. д.), например: учитель — ученик; муж — жена; купить — продать. Третий подвид векторных антонимов — реверсивные антонимы — обозначает противоположные друг другу результаты действий, например: запаковать — распаковать; окрасить — обесцветить и т. д. [Murphy 2003; Лаврова 2017].
Необходимо заметить, что у исследователей нет единой точки зрения как в целом в отношении приведенной классификации, так и в отношении того, какие противопоставления следует считать антонимией, а какие нет. Например, исследователи по-разному относятся к конверсии. Дж. Лайонз рассматривал конверсию как один из основных типов антонимии, а не как подтип векторной [Lyons 1977]. Другие лингвисты изучают конверсию вообще отдельно от явления антонимии, в качестве самостоятельных парадигматических отношений, см., например, [Valli, Lucas 2000; Кронгауз 2005]. В работах [Cruse 1987; Lyons 1977] комплементарные отношения противоположности отделяются от понятия собственно антонимии. М. Л. Мёрфи отмечает, что в семантической классификации категории зачастую накладываются одна на другую, так что одна антонимическая пара может одновременно принадлежать более чем к одной группе. Кроме того, она выделяет неклассифицируемые антонимы (unclassified antonyms) и сложные антонимы (complex antonyms). Неклассифицируемые антонимы проблематично отнести к какой-либо категории. Например, глаголы спросить — ответить на первый взгляд выглядят как конверсивы, но в то же время нельзя сказать, что это одно и то же действие с двух разных точек зрения, это два абсолютно разных действия. Примерами сложных антонимов могут служить слова, обозначающие пол, — Лайонз считал эти слова комплементарными антонимами, однако Мёрфи оспаривает эту точку зрения, поскольку ‘не мужской’ далеко не всегда означает ‘женский’, как требует того схема комплементарной антонимии. Подобные трудности возникают и со словами ад и рай [Murphy 2003]. М. А. Кронгауз, говоря о классификациях антонимов, не выделяет подтипов внутри контрарной, комплементарной и векторной антонимии, но акцентирует внимание на том, что помимо них могут быть выделены и другие типы противопоставления — в том числе это может быть конкретизация в рамках одного из основных видов. К примеру, векторная антонимия может включать в себя отношения между лексическими единицами, которые возможно выразить схемой ‘действие X’ — ‘уничтожение результата действия X’ (слепить — разлепить) [Кронгауз 2005: 147].
Как уже было сказано во введении к настоящей статье, в жестовых языках антонимия изучена пока очень слабо. Это не удивительно, поскольку жестовая лингвистика представляет собой относительно молодое направление в языкознании — она начала развиваться только с 60-х годов прошлого века. Краткий обзор антонимии в американском (ASL) и австралийском (Auslan) жестовых языках представлен в общих описаниях этих языков [Valli, Lucas 2000; Johnston, Schembri 2007]. Клэйтон Валли и Сейл Лукас называют два основных вида антонимии в ASL: градуальную и неградуальную, понимая под последней все остальные виды антонимии, упомянутые нами выше на материале звуковых языков и не входящие в понятие контрарности [Valli, Lucas 2000: 153]. Тревор Джонстон и Адам Шембри выделяют три вида антонимии в Auslan, два из которых (комплементарные и градуальные) совпадают с упомянутыми выше одноименными типами антонимов в звуковых языках. Третий вид носит название «реляционные антонимы» (relational antonyms). Это такие лексические единицы, которые описывают одну и ту же ситуацию с двух разных точек зрения (например, father ‘отец’ — daughter ‘дочь’), или, иными словами, состоят в отношениях конверсии [Johnston, Schembri 2007: 231–232]. Валли и Лукас, впрочем, тоже уделяют внимание описанию конверсивов, однако они отделяют их от понятия антонимии [Valli, Lucas 2000: 155]. Авторы обеих работ отмечают важное свойство некоторых жестов-антонимов в ASL и Auslan: они способны отражать противоположность не только в семантике, но и в своей формальной структуре. В качестве примера в ASL приводятся антонимичные жесты good ‘хороший’ и вad ‘плохой’. Эти жесты разделяют общую структуру HMH (Hold-Movement-Hold), соответствующую линейной последовательности сегментов удержания, движения и удержания12, общие конфигурацию и локализацию. Однако они обнаруживают противоположность в конечной ориентации ладони, которая повернута вверх при завершении исполнения жеста good и вниз при завершении исполнения жеста вad [Idid.]. В Auslan это явление проиллюстрировано антонимичными парами want — not.want ‘хотеть’ — ‘не хотеть’, где совпадают все параметры, кроме движения, которое направлено вниз и вверх соответственно, и have — not.have ‘иметь’ — ‘не иметь’, где исполнение первого жеста начинается с открытой конфигурации, а второго — с закрытой [Johnston, Schembri 2007: 231].
В еще более ранней работе на материале ASL Уильям Стоуки описывает жест, соответствующий английскому глаголу second ‘поддерживать’ и употребляемый в контексте парламентских собраний, и называет в качестве антонимичного ему жест с такой же конфигурацией, но c противоположно направленным движением, имеющий значение ‘я следующий’. То есть в этом примере он называет антонимичными жесты, которые противоположны не по содержанию, а по форме. В то же время Стоуки в этой работе упоминает жесты borrow ‘брать взаймы’ и lend ‘давать взаймы’ — в этот раз противоположные и по направлению движения, и по семантике [Stokoe 1960: 39, 48].
ASL также обнаруживает антонимию в области особых немануальных маркеров, относящихся к области рта. Например, НММ pressed, представляющий собой сжатые губы и имеющий семантику сосредоточенного внимания, антонимичен НММ th, в котором язык помещен между зубами и который несет в себе семантику небрежности, рассеянного внимания [Bickford, Fraychineaud 2006].
В израильском жестовом языке исследователи тоже отмечают жесты, которые структурно отражают противоположность: жест со значением ‘толстеть’ и его антоним ‘худеть’ имеют противоположно направленное движение. То же самое наблюдается в парах со значениями ‘расти’ / ‘становиться выше’ — ‘укорачиваться’ / ‘становиться ниже’ и ‘краснеть’ — ‘бледнеть’ [Meir 2006].
Кроме перечисленных работ имеется типологическое исследование [Börstell, Lepic 2019], в котором авторы проанализировали выборку антонимических пар из 32 различных жестовых языков. В фокусе их внимания были лексические единицы, противопоставленные по признаку «положительные — негативные коннотации», и их связь с такими компонентами, как локализация и направление движения. В результате сопоставления было установлено, что положительная коннотация семантической структуры жестов коррелирует с направлениями движения вверх и от корпуса тела и никак не связана со статическим местоположением — локализацией жеста.
В тайваньском жестовом языке отмечается образование антонимов при помощи отрицательного суффикса (like ‘нравиться’ — like-not ‘не нравиться’) или корневой морфемы, содержащей отрицание (в результате чего получается жест-компаунд: clear ‘ясный’ — clear^no ‘неясный’). При этом акцентируется внимание на значимости контраста в немануальном компоненте, различающего жесты в антонимической паре [Tsay, Myers 2009].
Упоминания антонимов в жестовых языках встречаются также в контекстах описаний онлайн-корпуса каталанского жестового языка [Gabarro-Lopez 2017] и мультимедийного словаря греческого жестового языка [Dimou et al. 2014].
Таким образом, существующие работы по жестовым языкам демонстрируют, что антонимичные отношения лексических единиц в различных жестовых языках могут быть выражены иконически и с помощью использования пространства, обнаруживая корреляцию формы и содержания семантически противопоставленных жестов.
3. Антонимия в русском жестовом языке
В этом разделе мы, с опорой на структурную и семантическую классификацию антонимов, представим результаты анализа антонимичной лексики в РЖЯ. В рамках семантической классификации мы прежде всего будем уделять внимание роли иконичности и возможности использования трехмерного пространства в выражении антонимичных противопоставлений в РЖЯ. Антонимия в жестовых языках отличается от одноименного явления в звуковых языках благодаря эффектам визуальной модальности, и это представляет особый интерес. На ранних этапах изучения лингвистами жестовых языков большинство работ фокусировалось на том, чтобы продемонстрировать сходство в своих фундаментальных чертах жестовых языков со звуковыми. Сейчас это сходство уже очевидно, и гораздо важнее выявлять различия между звуковыми и жестовыми языками для понимания того, какие свойства человеческого языка являются универсальными, а какие обусловлены модальностью, в которой существует язык.
3.1. Антонимы в РЖЯ с точки зрения их структурной классификации
Структурная классификация антонимов в русском звуковом языке основывается на их морфологической структуре и подразделяет их на разнокоренные и однокоренные [Апресян 1995]. Однокоренные антонимы могут быть образованы двумя способами: при помощи антонимических аффиксов и путем прибавления к слову аффикса, придающего ему противоположный смысл. В жестовых языках, в частности в РЖЯ, очень продуктивна несегментная морфология, поэтому корень как отдельная морфема зачастую не выделяется, а аффиксация в целом не характерна для жестовых языков13. Тем не менее приведенная выше структурная классификация в своих общих чертах применима и к РЖЯ. Однако вместо терминов «разнокоренные и однокоренные антонимы» мы будем использовать их эквиваленты «собственно лексические антонимы» и «лексико-грамматические антонимы». Во-первых, хотя аффиксация не продуктивна в жестовых языках, некоторые жесты могут проявлять тенденцию к превращению в аффиксы. Например, в РЖЯ это касается служебного отрицательного жеста neg (рука с раскрытой ладонью отводится в сторону), занимающего позицию после лексического жеста14. В РЖЯ обнаруживаются антонимы, образованные при помощи жеста neg, выступающего в них в качестве аффикса или проявляющего тенденцию к превращению в аффикс. Такие антонимы образованы по принципу, сходному со вторым из названных выше способов образования однокоренных антонимов в звуковых языках. Во-вторых, антонимы в РЖЯ довольно часто образуются путем словосложения15. К знаменательному жесту либо присоединяется жест-показатель экзистенциального отрицания (отсутствовать, ноль, пустой, дефицит)16, либо к одному и тому же знаменательному жесту присоединяются антонимичные знаменательные жесты. В результате получаются сложные жесты-компаунды, и эти способы тоже соотносимы с теми, которые свойственны для образования однокоренных антонимов в звуковых языках.
В целом структурную классификацию антонимов в РЖЯ можно представить в следующем виде.
- Собственно лексические антонимы (антонимические пары, представленные разными жестами): а) «простой жест — простой жест»; б) «простой жест — компаунд». Для собственно лексических антонимов в РЖЯ особенно важно выделить эти подгруппы, поскольку именно для тех пар, в которых оба антонима простые, целесообразно производить далее сопоставительный анализ параметров жестов с точки зрения формального отражения противоположности.
Примеры антонимических пар из первой подгруппы собственно лексических антонимов («простой жест — простой жест»): мягкий — твёрдый; беда — счастье; разрешить — запретить; чистый — грязный; свобода — зависимость; ломать — строить и т. д. Эта подгруппа представлена наибольшим числом антонимов в нашем материале.
Вторая подгруппа («простой жест — компаунд») содержит такие антонимы, как, например: видеть^хороший — слепой (‘зрячий’ — ‘слепой’); лицо^одинокий — толпа (‘индивидуальный’ — ‘общий’); умный — ум^камень (‘умный’ — ‘глупый’); деньги^живой — карта (наличные — безналичные); пустой — люди^толпа (‘безлюдный’ — ‘людный’); настоящий — indx.лицо^два (‘искренний’ — ‘лицемерный’17).
- Лексико-грамматические антонимы (антонимические пары, в основе которых один и тот же жест): а) антонимы, образованные путем аффиксации; б) антонимы, образованные путем словосложения («простой жест — отрицательный компаунд, образованный от того же жеста»); в) антонимы, образованные путем словосложения («компаунд — компаунд, образованный от того же жеста»).
Для лексико-грамматических антонимов, образованных путем аффиксации, одним из ярких примеров является пара важный — важный-neg (рис. 8), где во второй лексической единице отсутствует пауза между знаменательным и отрицательным жестами, сохраняется конфигурация «500»18 при исполнении отрицательного компонента и наблюдается редукция знаменательного жеста (в отличие от жеста важный, в его антонимическом соответствии отсутствует круговое траекторное движение).
Рис. 8. Жесты (а) важный (б) важный-neg
Тенденция к аффиксации наблюдается в таких антонимических парах, как интересный — интересный-neg (здесь не происходит ассимиляции по конфигурации, однако наблюдается и отсутствие паузы, и редукция знаменательного жеста), нужный — нужный-neg (здесь ассимиляция по конфигурации тоже проявляется не всегда, однако присутствуют остальные признаки), счастье — счастье-neg (имеют место и отсутствие паузы, и редукция знаменательного жеста, конфигурация же меняется из закрытой в открытую в соответствии с самой формой жеста счастье и остается таковой, плавно переходя в аффикс -neg).
Лексико-грамматические антонимы, образованные путем словосложения и структурно сопоставляемые как «простой жест — отрицательный компаунд», достаточно распространены, и примеры разнообразны: польза — польза^ноль (‘полезный’ — ‘бесполезный’); талант — талант^пустой (‘талантливый’ — ‘бездарный’); опыт — опыт^дефицит / опыт — опыт^отсутствовать (‘опытный’ — ‘неопытный’).
Среди лексико-грамматических антонимов, которые тоже образованы путем словосложения и представляют собой два компаунда, можно перечислить такие, как лицо^красивый — лицо^страшный (‘прекрасный’ — ‘уродливый’); оружие^есть — оружие^отсутствовать (‘вооруженный’ — ‘безоружный’); вкус^крепкий — вкус^нежный (‘крепкий’ — ‘слабый’, если речь идет, например, о кофе или чае).
3.2. Антонимы в РЖЯ с точки зрения их семантической классификации
3.2.1. Векторные антонимы
Векторные антонимы в нашем материале составляют 34 % (89 антонимических пар). В данной группе, по сравнению с другими видами антонимов, наиболее отчетливо проявляется иконическая связь между формой жеста и выражаемым типом противоположности. Семантически мотивированным здесь обычно является направление траекторного движения. Формальное отражение противоположной направленности действий/свойств при помощи этого признака обнаруживается примерно в 40 % пар от общего числа проанализированных нами векторных жестов-антонимов. При этом среди них существует целый ряд антонимических пар, где все остальные параметры полностью совпадают: таким образом, во-первых, иконически проявляется семантическая общность, по определению обязательно присущая антонимам одной и той же пары; во-вторых, за счет этого противоположная направленность визуально ярче выражена и очевидна. Подавляющее большинство векторных антонимов, для которых справедливо это наблюдение, принадлежат, по нашим данным, к группе конкретной лексики, т. е. соотносятся с явлениями, доступными непосредственному восприятию. Приведем некоторые примеры таких антонимичных пар.
вдох — выдох; назад — вперёд; отставать — обгонять: во всех трех парах движение относительно сагиттальной оси направлено к говорящему — от говорящего соответственно.
восход — закат (рис. 9): движение направлено по дуге вправо-вверх и влево-вниз соответственно.
Рис. 9. Жесты (а) восход и (б) закат
уменьшать — увеличивать (рис. 10); встречаться — расставаться (рис. 11): в каждой паре руки движутся по направлению друг к другу в первом жесте и в разные стороны во втором.
Рис. 10. Жесты (а) уменьшать и (б) увеличивать
Рис. 11. Жесты (а) встречаться и (б) расставаться
В каждой паре классификаторных жестов19 clf(ы:летательный.аппарат)-приземляться — clf(ы:летательный.аппарат)-взлетать20; clf(л:прямоходящий)-спускаться — clf(л:прямоходящий)-подниматься21 движение направлено по диагонали вниз в первом жесте и по диагонали вверх во втором соответственно. В классификаторных жестах со значениями ‘опускать’ и ‘поднимать’ в зависимости от объекта действия конфигурация и ориентация могут быть разными, однако внутри одной пары они всегда будут совпадать, а направление движения всегда будет противоположным — вниз и вверх соответственно.
Противоположность в случае векторной антонимии может быть иконически выражена не только траекторным, но и внутренним движением. Например, в паре гаснуть1 — загораться122 (рис. 12) и в одном из вариантов, выражающих значения ‘худеть’ — ‘толстеть’, конфигурация руки переходит из открытой в закрытую в первом жесте и наоборот во втором. В парах жестов открыть.окно — закрыть.окно, открыть.дверь — закрыть.дверь (рис. 13) конфигурация пальцев в каждой паре остается неизменной, но кисть руки разгибается и сгибается в запястье. В паре открыть.кран — закрыть.кран кисть руки разворачивается по часовой стрелке в первом жесте и против часовой стрелки во втором.
Рис. 12. Жесты (а) гаснуть и (б) загораться
Рис. 13. Жесты (а) открыть.дверь и (б) закрыть.дверь
Среди векторных антонимов РЖЯ встречаются, конечно, и такие пары, которые не обнаруживают иконически выраженную противоположность ни в одном из параметров, хотя их формы при этом все равно зачастую соотносимы. Например, у жестов войти (в помещение) и выйти (из помещения) одинаково направленное движение и конфигурация, но жест войти исполняется над, а жест выйти — под пассивной рукой (рис. 14).
Рис. 14. Жесты (а) войти и (б) выйти
Немануальные компоненты тоже могут различаться в антонимических парах в рамках векторной антонимии. Например, жесты влюбиться — разлюбить, различающиеся по целому ряду параметров (первый жест двуручный — второй одноручный; конечная ориентация ладони к говорящему — от говорящего соответственно; начальный сеттинг выше в первом жесте — ниже во втором), довольно выраженно отличаются друг от друга по немануальному компоненту: в первом жесте он включает в себя поднятые брови, широко открытые глаза, улыбку, а во втором — опущенные брови, суженные глаза, сжатые вытянутые губы и отрицательное покачивание головой.
В материалах, полученных путем элицитации, отмечаются также лексические единицы, для которых некоторые информанты испытывали трудности в подборе точного антонимичного жеста и приводили не один жест, а целые словосочетания с противоположным значением, либо жест, который не является конкретным антонимичным соответствием, а имеет довольно обобщенную семантику. Такие пары составляют небольшой процент от общего числа проанализированных векторных антонимов, однако тоже представляют интерес. Например, для жеста влюбиться в качестве антонимов помимо жеста разлюбить в нашем материале обнаруживаются два варианта словосочетаний: влюбиться — cердце любовь пустой; влюбиться — любовь cердце исчезнуть. Также стоит указать пару, где в качестве антонима было предложено словосочетание (которое, однако, тяготеет к тому, чтобы стать жестом, образованным путем аффиксации): соглашаться — принимать-neg.
Таким образом, в области векторной антонимии противоположное направление траекторного движения наиболее часто иконически отражает разнонаправленность действий, свойств и признаков. Кроме траекторного движения векторная антонимия может быть выражена и внутренним движением (изменением конфигурации или ориентации кисти руки). То, что иконическое отражение векторной антонимии характерно для жестов, обозначающих конкретные объекты, объясняется тем, что параметр движения в самих этих жестах зачастую иконичен.
3.2.2. Комплементарные антонимы
Комплементарные антонимы в нашем материале составляют 28 % (75 антонимических пар). Для комплементарных антонимов обнаруживаются формальные проявления семантической противоположности, чаще всего коррелирующие с наличием/отсутствием внутреннего повтора в жесте (для примерно 44 % пар от общего числа антонимов в данной группе)23. Внутренний повтор и его отсутствие соответствуют схеме комплементарной антонимии ‘X — не X’: временный — постоянный, одинаковый — разный, обыкновенный — необыкновенный, туманный — ясный, фальшивый — настоящий и др. При этом в определенных комплементарных парах наблюдаются и другие интересные проявления противоположности на структурном уровне, обусловленные эффектами визуальной модальности. Так же, как и в предыдущей группе векторных антонимов, направление движения тоже может быть формальным отражением противоположности. Например, в упомянутой выше паре одинаковый — разный24 (рис. 15) при совпадении всех остальных параметров руки движутся друг к другу и в разные стороны соответственно. В другой упомянутой выше паре обыкновенный — необыкновенный (рис. 16) наблюдается то же самое формальное различие, однако при этом у этих жестов еще и противоположные ориентация ладоней (к себе — от себя) и локализация (ниже — выше). Точно так же друг к другу и в разные стороны соответственно движутся руки в двуручных жестах туманный — ясный; точно так же к себе и от себя соответственно в них ориентированы ладони. Нельзя также не упомянуть, что в этой паре различается и немануальный компонент — в первом жесте глаза прищурены, а во втором широко раскрыты (рис. 17).
Рис. 15. Жесты (а) одинаковый и (б) разный
Рис. 16. Жесты (а) обыкновенный и (б) необыкновенный
Рис. 17. Жесты (а) туманный и (б) ясный
Различия в немануальном оформлении (в первом жесте нахмурены брови и прищурены глаза, а во втором брови приподняты и глаза широко раскрыты) наблюдается также в паре тёмный — светлый, которая во многом похожа на векторную антонимическую пару гаснуть1 — загораться1 (вместе с направлением движения вниз и вверх соответственно меняется конфигурация из открытой в закрытую и наоборот).
В паре свобода — зависимость противоположность отражается за счет наличия/отсутствия движения и отсутствия/наличия контакта рук между собой. В жесте свобода руки движутся друг от друга, как бы разрывая оковы. В жестах со значением ‘зависимость’ движение отсутствует, руки соединены между собой25.
В ряде случаев сеттинг (например, относительно пассивной руки) может формально отражать комплементарную противоположность: так, жест внешний (наружный) исполняется с тыльной стороны ладони пассивной руки, а внутренний — с внутренней.
Как и в случае векторной антонимии, не во всех выявленных нами комплементарных парах можно обнаружить иконическое отражение противоположности; жесты могут просто различаться по целому ряду параметров, как, например, в классической комплементарной паре живой — мёртвый (рис. 18 а-б) или в парах свой — чужой (рис. 18 в-г), смелый — трусливый, правда — ложь и др., хотя при этом сами жесты зачастую иконичны26.
Рис. 18. Жесты (а) живой, (б) мертвый, (в) свой, (г) чужой
В выражении комплементарных антонимических отношений в РЖЯ используются также и словообразовательные процессы. Жесты могут быть образованы путем аффиксации или при помощи служебных жестов, проявляющих тенденцию к аффиксации (важный — важный-neg; счастье — счастье-neg). Достаточно частотны жесты, образованные путем словосложения: оружие^есть — оружие^отсутствовать / оружие^пустой (‘вооруженный’ — ‘безоружный’); польза — польза^ноль (‘полезный’ — ‘бесполезный’); талант — талант^пустой / талант^ноль (‘талантливый’ — ‘бездарный’).
Таким образом, двучленная оппозиция, где отрицание одного члена дает значение другого, чаще всего формально выражается в наличии и отсутствии внутреннего повтора в пределах одной комплементарной антонимической пары. Другие признаки тоже способны выражать противоположность в данной группе антонимов, в разной степени соответствуя схеме комплементарной антонимии.
3.2.3. Контрарные антонимы
Группа контрарных антонимов в нашем материале представлена наибольшим количеством пар — 102 (38 %).
В антонимичных контрарных парах противоположность может иконически отражаться в различных компонентах жеста — например, в локализации выше и ниже в паре высокий — низкий.
Кроме того, сеттинг тоже может выражать градуальную противоположность: например, в паре полный — пустой совпадают практически все параметры, включая крупную область жестового пространства, где локализованы эти два жеста, однако в первом активная рука расположена над пассивной, а во втором — под пассивной рукой. Таким образом в положении относительно пассивной руки отражаются крайние степени проявления признака (максимальная величина и абсолютное отсутствие чего-либо).
Закрытая и открытая конфигурация руки, визуально уменьшающая и увеличивающая размер кисти, коррелирует как с семантикой жестов мало — много, так и с семантикой жестов дешёвый — дорогой. Последняя пара интересна тем, что второй жест начинается с такой же конфигурации, как и первый (согнутая закрытая для двух выбранных пальцев, полностью закрытая для невыбранных), однако затем ладонь раскрывается в полностью открытую для всех пальцев конфигурацию — тем самым очевидна семантическая общность двух жестов и полярная оппозиция между ними.
Конечная ориентация ладони в жесте тяжёлый (вниз) противоположна ориентации ладони в жесте лёгкий (вверх), т. е. ориентация здесь семантически мотивирована — всё, что имеет бо́льшую массу, тяготеет вниз (рис. 19).
Рис. 19. Жесты (а) тяжелый и (б) легкий
Так же, как у векторных и комплементарных, у некоторых контрарных антонимов мы обнаруживаем противоположное направление движения: большой — маленький, длинный — короткий, узкий — широкий и др.
Тип и характер движения и немануальный компонент тоже могут быть иконически мотивированы. Это можно проиллюстрировать парой контрарных антонимичных жестов тесный — просторный (рис. 20). Руки в жесте тесный расположены вплотную друг к другу и тесно контактируют (соответственно, сеттинг тоже семантически мотивирован), а внутреннее движение — смена ориентации не ладоней, а только пальцев — наравне с отсутствием траекторного движения отражает семантику недостаточного пространства. В жесте просторный, напротив, обнаруживается траекторное движение (руки движутся в стороны от говорящего по диагонали), а внутреннее движение является более полным (ладони разворачиваются кнаружи). При этом немануальный маркер в первом жесте — прищуренные глаза, сжатые зубы, в то время как во втором жесте выражение лица нейтрально, мышцы лица расслаблены.
Рис. 20. Жесты (а) тесный и (б) просторный
Еще одно важное различие, которое обнаруживается достаточно часто (в 41 % контрарных антонимических пар) — это противопоставление по наличию и отсутствию внутреннего повтора. Оно может быть связано с большей/меньшей степенью проявления какого-либо свойства: например, в паре дорогой — дешёвый в первом жесте есть внутренний повтор; давно — недавно, где в первом жесте, обозначающем большее количество прошедшего времени, тоже есть внутренний повтор. Противопоставление по наличию/отсутствию внутреннего повтора может также коррелировать с наличием чего-либо в максимальной степени / полным отсутствием чего-либо: так, в паре грязный — чистый первый жест, выражающий значение «покрытый грязью», содержит внутренний повтор, в отличие от жеста чистый, обозначающего ее полное отсутствие; в парах всегда1 — никогда1 и всегда2 — никогда2 можно наблюдать внутренний повтор в обоих вариантах первого жеста, обозначающего «во всякое время», и отсутствие повтора во втором жесте, обозначающем «ни в какое время»; в парах бодрый1 — усталый1 и бодрый2 — усталый2 внутренний повтор присутствует в жестах, выражающих значение наполненности силами и энергией, и отсутствует в жестах, обозначающих отсутствие сил.
Однако нельзя сказать, что данная корреляция является абсолютно регулярной. В ряде антонимических пар отсутствие внутреннего повтора может быть, наоборот, связано с максимальной степенью проявления признака: пустой (с внутренним повтором) — полный (без внутреннего повтора); голодный (с внутренним повтором) — сытый (без внутреннего повтора). В отдельных случаях именно те крайние члены оппозиции, которые несут в себе позитивные коннотации и противопоставлены крайним членам оппозиции с отрицательным коннотациями, содержат внутренний повтор: радостный — грустный; полезный — вредный; весёлый — скучный; ароматный — вонючий.
Контрарные антонимы-компаунды представлены многочисленными примерами: люди^пустой — люди^толпа (‘безлюдный’ — ‘людный’); опыт — опыт^мало (‘опытный’ — ‘неопытный’); образование — ум^камень (‘умный’ — ‘глупый’) и др.
В рамках контрарной антонимии также обнаруживаются единичные примеры антонимов, образованных путем аффиксации: опыт — опыт-neg (‘опытный’ — ‘неопытный’), грамотный — грамотный-neg (‘грамотный’ — ‘неграмотный’), давно — давно-neg (‘давно’ — ‘недавно’). Во всех трех лексических единицах нет ассимиляции по конфигурации, но редуцирован знаменательный жест и отсутствует пауза между ним и аффиксом.
Контрарные антонимические отношения могут быть также выражены противоположными по смыслу жестом и словосочетанием, например: indxloc+++(m/arc) — indxloc+++(m/arc) отсутствовать (‘везде’ — ‘нигде’).
Особого внимания в рамках контрарной антонимии заслуживает важная для носителей любого жестового языка антонимическая пара, выражающая значения ‘глухой’ — ‘слышащий’. В литературе отмечается, что носители разных культур по-разному воспринимают отношения противоположности, и именно поэтому бывает сложно классифицировать некоторые антонимы. Например, для американцев в нейтральном контексте антонимом к слову mountain ‘гора’ будет служить слово valley ‘долина’, а японцы этому же слову со значением ‘гора’ в своем языке противопоставляют лексическую единицу со значением ‘океан’ [Лаврова 2017]. Слышащие носители русского и английского звуковых языков и соответствующих этим языкам культур слову глухой / deaf противопоставляют антоним слышащий / hearing. В данном случае основой для противопоставления служит наличие или отсутствие слуха. В то же время носители РЖЯ, как и носители ASL, жесту глухой / deaf (рука в конфигурации «1» с пальцем, ориентированным вертикально, движется от рта к уху или наоборот) противопоставляют жест говорящий / speaking (рука в конфигурации «1» с пальцем, ориентированным горизонтально, совершает вращательные движения у рта) (рис. 21, с. 79).
Рис. 21. Жесты (а) глухой и (б) говорящий
Соответственно, для носителей субкультуры глухих не столько наличие/отсутствие слуха, сколько предпочтительный способ общения (жестовая vs. устная речь) служит основой для семантического противопоставления, с которым коррелирует форма этих жестов. Эта оппозиция совершенно очевидно является культурно обусловленной. Стоит также обратить внимание, что для обозначения нарушений в органе чувств, отвечающем за зрение, используется простой жест слепой, а для его антонима, обозначающего отсутствие этих нарушений, используются жесты-компаунды видеть^хороший или видеть^отличный. При этом в международном словаре жестовых языков [Spreadthesign] жест со значением ‘зрячий’ даже не зафиксирован в отличие от жеста говорящий со значением ‘слышащий’.
Антонимы глухой и говорящий являются контрарными, поскольку между ними возможен средний член оппозиции со значением ‘слабослышащий’. Последний жест тоже весьма интересен, так как он существует в РЖЯ в двух вариантах. Первый из них, слабослышащий1, по форме похож на жест ломать с той разницей, что движение направлено вверх. Вероятно, он больше соотносим с биолого-медицинским восприятием тугоухости, т. е. тугоухости как нарушения. Второй — жест слабослышащий2, исполняемый в центре области лица (рис. 22), иконически отражает семантику «половинчатости», принадлежности к двум мирам, к двум культурам, которая стала возможной ввиду сохранения остаточного слуха.
Рис. 22. Жест слабослышащий2
Таким образом, способы корреляции формы с семантикой контрарных антонимических жестов достаточно разнообразны. Внутренний повтор / его отсутствие наиболее частотны, как и в случае комплементарной антонимии, однако здесь они отражают иной вид антонимических отношений. Как и другие параметры и характеристики жестов, которые здесь оказываются противоположны немного реже (но их противоположность при этом не менее выразительна), они соотносятся с семантикой ступенчатости, градации различных признаков и свойств.
3.3. Абстрактная vs. конкретная антонимичная лексика
При обсуждении антонимии в РЖЯ отдельного внимания заслуживает сопоставление конкретной и абстрактной антонимичной лексики, уже безотносительно к семантическим типам антонимии. Дело в том, что абстрактные антонимы, как и конкретные, используют иконичность, но в их образовании, как правило, задействованы механизмы метафорического переноса значений. При этом перенос обычно осуществляется на базе свойственной именно жестовым языкам визуальной метафоры «от образа к значению», когда абстрактное понятие сопоставляется с более конкретным, и это конкретное понятие затем кодируется иконически, см. [Taub 2001: 95]. Часто иконически мотивированным оказывается только один параметр: так, в паре грубый — нежный на метафоре строится характер движения, выражающий противоположность этих жестов по признаку «резкость — плавность». Тот же самый жест нежный входит в состав компаунда вкус^нежный, имеющего значение ‘слабый’ и использующегося при описании вкусовых характеристик кофе или чая. В этом случае антонимом для него служит компаунд вкус^крепкий, обозначающий более насыщенный вкус, и характер движения здесь вновь метафоричен, его плавность и мягкость в первом жесте противостоят резкости и жесткости во втором.
В жестах волноваться — успокаиваться (рис. 23) иконически мотивированы на основе метафоры несколько параметров (направление движения и конфигурация) и такая характеристика, как внутренний повтор. В первом жесте движение, направленное вверх, отражает возбужденное состояние, тревожные ощущения, испытываемые человеком, беспокойство, которое нарастает. Внутренний повтор жеста тоже иконически соответствует стихийному и волнообразному характеру этого состояния. Во втором жесте движение направлено вниз, коррелируя с семантикой уменьшения, снижения эмоциональной нестабильности. Внутренний повтор, соответственно, отсутствует, поскольку жест описывает переход в состояние покоя. Семантическое противопоставление в этой паре жестов отражает и конфигурация — она остается открытой от начала до конца исполнения первого жеста и переходит из открытой в закрытую во втором. Подобное изменение конфигурации происходит в жесте давить, так что здесь мы находим иконическое выражение метафоры подавления эмоций.
Рис. 23. Жесты (а) волноваться и (б) успокаиваться
Другие пары антонимов обнаруживают метафорическую отсылку к иконичному конкретному образу в своей целостной структуре, например: существуют два жеста, выражающих переносное значение ‘включить — выключить голову’ (примеры 1–3). Для пассивной руки используется классификатор части тела — полностью закрытая конфигурация (кисть сжата в кулак), иконически обозначающая голову человека, а конфигурация и противоположно направленное движение активной руки визуально напоминают присоединяемый/отсоединяемый штекер27.
(1) экзамен билет взять indx1 голова.выключить
‘Взял экзаменационный билет — и голова отключилась’28.
(2) indx1 учить++ с.утра.до.вечера indx1 голова.выключить
‘Я учился весь день, с утра до вечера — теперь соображать совсем не могу’.
(3) голова.выключить отдохнуть голова.включить
‘Голова отключилась, но как только отдохнул — включилась обратно’.
Кроме того, метафорический семантический переход может осуществляться путем изменения одного из компонентов в антонимической паре, выражающей конкретное значение, например: жесты с конкретными значениями в антонимической паре гаснуть1 — загораться1 являются бесконтактными — они исполняются в нейтральном жестовом пространстве и могут смещаться в его пределах. При выражении абстрактного значения эмоционального состояния человека (4) используются жесты гаснуть2 — загораться2. Они имеют все те же параметры что гаснуть1 — загораться1, кроме локализации: жесты становятся контактными и у них появляется жесткая привязка к области сердца.
(4) indx1 спорт поступить indx1 гореть229 спорт сложный получаться neg получаться neg гаснуть2
‘Я пришел заниматься спортом, очень хотел заниматься, но оказалось сложно, ничего не получалось, и мое желание угасло’.
В уже упомянутой выше антонимической паре начать — закончить направленное вверх движение в жесте начать соответствует распространенной языковой метафоре «начало — это движение вверх» [Майсак 2005: 205]. Движение вниз в жесте закончить тоже может быть обусловлено метафорой. В [Там же: 150] отмечается, что в звуковых языках конструкции с глаголами типа ‘спускаться’ часто грамматикализуются как показатели перфектива; направление движения в жесте закончить, по-видимому, иконически отражает метафору «окончание — это движение вниз».
В антонимической паре хороший — плохой набор выбранных пальцев, составляющих особую конфигурацию руки, различается — в первом случае выпрямленным является большой палец, во втором случае — мизинец. Возможно, это противопоставление соответствует языковой метафоре «больше — это лучше» [Лакофф, Джонсон 2004: 137].
Таким образом, эффекты визуальной модальности в антонимических отношениях абстрактных лексических единиц РЖЯ строятся на основе механизмов метафорического переноса значений, которые отличаются большим разнообразием.
Заключение
С точки зрения структурной классификации антонимы в РЖЯ разнородны. Собственно лексические антонимы имеют в основе разные жесты (т. е. разные лексемы) и далее делятся на несколько подгрупп в зависимости от простой или сложной структуры жестов в пределах одной антонимической пары. Лексико-грамматические антонимы в РЖЯ имеют в основе один и тот же жест и образуются путем присоединения отрицательного аффикса (или отрицательного служебного жеста, тяготеющего к превращению в аффикс) и словосложения.
С точки зрения семантической классификации антонимия в РЖЯ отличается от одноименного явления в звуковых языках. Эффекты визуальной модальности, в которой существуют жестовые языки, в значительной степени обусловливают связь структуры и содержания жестов-антонимов. Наиболее ярко иконическая связь между формой жеста и выражаемым типом противоположности проявляется в векторной антонимии, поскольку именно здесь направление движения коррелирует с семантической разнонаправленностью действий, признаков и свойств. Однако эффекты визуальной модальности прослеживаются и в комплементарных, и в контрарных антонимах, и способы выражения этих отношений отличаются большим разнообразием (при этом и комплементарные, и контрарные антонимы наиболее часто формально противопоставлены по признаку «внутренний повтор и его отсутствие», а также для первого типа часто встречается противоположная локализация, а для второго — противоположная конфигурация). На эффектах визуальной модальности основывается в том числе и метафорический перенос значений, участвующий в образовании абстрактной антонимичной лексики.
Таким образом, в русском жестовом языке связь между структурой и семантикой антонимичных жестов строится на важнейших свойствах любого жестового языка — иконичности и возможности использования при передаче информации трехмерного пространства, и этим обусловлена уникальность антонимических отношений в жестовых языках в сопоставлении с одноименными отношениями в звуковых языках30.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
^ — жест-компаунд: опыт^мало ‘неопытный’
+ — простая редупликация
+++(m/arc) — редупликация со смещением локализации жеста по дугообразной траектории при каждом повторе
indx1 / indxloc — указание на говорящего / точку в пространстве, ассоциируемую с референтом, в указательном жесте
neg — служебный жест-показатель отрицания
clf(ы:летательный.аппарат)-приземляться — классификатор(конфигурация:значение)-глагол
[1] РЖЯ распространен на всей территории Российской Федерации. Часть носителей проживают за границей — в бывших советских республиках (Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Белоруссии и Молдавии). Небольшое число носителей имеется также в США, Германии и Израиле — это эмигранты или дети эмигрантов из России последних десятилетий. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. численность носителей РЖЯ составляет около 120 500 человек, однако по данным Всероссийского общества глухих она превышает 300 000 человек [Рухледев 2014]. Информация о численности носителей РЖЯ за пределами Российской Федерации отсутствует. Большинство носителей РЖЯ — глухие и слабослышащие; почти все они билингвы, т. е. могут в той или иной степени пользоваться звуковым русским языком в его письменной и/или устной форме. С 2012 г. РЖЯ официально признан в Российской Федерации, его статус отражен в Федеральном законе № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
[2] Корпус РЖЯ был создан в рамках проекта «Корпусное исследование морфосинтаксиса и лексики русского жестового языка» (грант РФФИ № 12-06-00231, 2012–2014 гг.). В онлайн-версию корпуса (http://rsl.nstu.ru/) вошло около 190 текстов, записанных от 45 носителей РЖЯ, мужчин и женщин в возрасте от 17 до 63 лет с разной степенью глухоты: глухих, слабослышащих и CODA. Для доступа к материалам онлайн-корпуса требуется регистрация.
[3] CODA — аббревиатура выражения Child of Deaf Adult — слышащий ребенок глухих родителей, для которого первым родным языком является жестовый.
[4] Термин «модальность» в данном случае используется в значении, принятом для него в психологии и нейрофизиологии — как указание на принадлежность ощущения к определенной сенсорной системе.
[5] Под жестом понимается единица жестовой речи, являющаяся аналогом слова в звуковых языках.
[6] В англоязычной литературе используется специальный термин «signer».
[7] Здесь и далее глоссы жестов по принятой в жестовой лингвистике традиции обозначаются малыми прописными буквами. Используемые в глоссах условные обозначения см. в конце настоящей статьи.
[8] Для жестов, содержащих движение, на фото приводятся начальная, конечная и, при необходимости, средняя фазы исполнения жеста. Авторы выражают благодарность носителю РЖЯ Иннокентию Сергучеву и фотографу Елизавете Денисовой за помощь в подготовке иллюстраций.
[9] В англоязычной литературе — body-anchored signs.
[10] Подробнее о типах жестов и параметрах жеста см., например, [Буркова, Киммельман 2019: 120–141].
[11] Подробнее см., например, [Mandel 1977; van der Kooij 2002; Sutton-Spence, Woll 2007: 165–171; Буркова, Киммельман 2019: 145–148].
[12] Одной из моделей описания линейной структуры жеста в жестовых языках является Модель движения — удержания Лидделла — Джонсона (The Movement-Hold Model). Основная идея этой модели заключается в том, что, подобно тому как слоги в звуковых языках состоят из последовательностей согласных и гласных, жесты состоят из последовательностей сегментов движения и удержания [Liddell, Johnston 1989]. Например, жест РЖЯ отец имеет структуру HMH (он начинается с удержания руки у лба (H), затем рука движется вниз (M), и жест заканчивается вторым удержанием у подбородка (H)); жест один имеет структуру (H); жест сколько — структуру (M); жест я — структуру (МH).
[13] Подробнее о морфологии жестовых языков см., например, [Aronoff et al. 2005; Буркова, Киммельман 2019: 169–212].
[14] Морфологизация жеста neg чаще всего проявляется в отсутствии паузы между знаменательным и служебным жестами, редукции знаменательного жеста и ассимиляции neg знаменательному жесту по конфигурации (например, в случае, когда у знаменательного жеста полностью закрытая конфигурация — крепко сжатый кулак, — она может быть использована и в жесте neg). Жест neg морфологизирован при жестах нужно, можно, важный и проявляет тенденцию к превращению в аффикс при жестах помнить, чувствовать, счастливый и некоторых других.
[15] Словосложение представляет собой очень продуктивный способ образования новых слов в жестовых языках. Во многих чертах он сходен с одноименным процессом в звуковых языках. Подробнее см., например, [Буркова, Киммельман 2019: 173–175].
[16] Жесты ноль, пустой, дефицит, помимо использования их в лексической функции, часто выступают в качестве показателей экзистенциального отрицания.
[17] Второй жест в этой паре образован путем калькирования семантической структуры слова русского языка двуличный.
[18] В работах по жестовым языкам распространенным способом обозначения конфигурации многих (хотя и не всех) жестов является отсылка к конфигурациям жестов дактильного алфавита или жестов-числительных.
[19] Классификаторные жесты представляют собой особый класс лексических единиц в жестовых языках. В отличие от жестов базового словаря, в которых все или большинство параметров не обладают значением, в классификаторных жестах все параметры значимы. Конфигурация руки в них обозначает отнесенность референта к определенному классу: двуногих существ, плоских предметов, узких длинных предметов, транспортных средств и т. д. Классификаторные конфигурации в сочетании с разнообразными локализациями, ориентациями и типами движения могут указывать на движение или местоположение определенного объекта, те или иные операции с определенными объектами, а также на размеры и форму объекта. Например, жест с конфигурацией clf(Ж:машина) в зависимости от характера других параметров может выражать значения ‘машина подъезжает / отъезжает / стоит / врезается в стену / ездит по кругу и т. д’. Подробнее см., например, [Буркова, Киммельман 2019: 188–190, 223–229].
[20] Например, в контекстах ‘самолет приземляется’ — ‘самолет взлетает’.
[21] Например, в контекстах ‘человек спускается с горы’ — ‘человек идет в гору’.
[22] Глоссы упоминаемых в данной статье разных жестов, соответствующих в переводе одному и тому же русскому слову, обозначены под номерами.
[23] Внутренний повтор представляет собой повтор движения, входящий во внутреннюю структуру жеста в его словарной форме. Например, жест обыкновенный не может быть исполнен с одиночным круговым движением рук по направлению друг к другу, он обязательно включает в себя неоднократное повторение этого движения.
[24] Нужно заметить, что каждый из этой пары жестов, как и некоторые другие пары жестов, приводимые в данной статье, — лишь один из вариантов выражения соответствующих значений. В некоторых случаях это связано с территориально и социально обусловленной вариативностью РЖЯ, а в других — с отличным от окружающего русского звукового языка членением той или иной семантической зоны. См., например, обсуждение в п. 3.2.2 двух жестов, соответствующих слову слабослышащий.
[25] В нашем материале обнаруживаются два жеста, используемые в качестве антонимов жеста свобода. В первом руки сцеплены между собой согнутыми указательными пальцами (этот жест также означает ‘связь’); во втором правая рука обхватывает запястье левой.
[26] Например, в жесте мертвый руки скрещены на груди, в жесте трусливый рука изображает трясущиеся от страха ноги.
[27] Жест со значением ‘выключить голову’, по нашим наблюдениям, более частотен, чем его антоним ‘включить голову’, воспринимаемый носителями языка скорее в шутливом, ироническом значении, см. (3).
[28] Примеры 1-4 были предложены носителями РЖЯ, участвовавшими в элицитации.
[29] Аналогично и жест гореть2 с переносным значением, в отличие от жеста гореть1 с конкретным значением, исполняется не в нейтральном жестовом пространстве, а у области сердца.
[30] По замечанию одного из анонимных рецензентов, в заключении к настоящей статье необходимо также сравнение с другими жестовыми языками на основе существующей литературы. В разделе 2 этой статьи упоминалось, что отражение семантического противопоставления в формальной структуре жестов-антонимов отмечается и для некоторых других жестовых языков, и оно, на наш взгляд, вполне ожидаемо для языков визуальной модальности. Однако более детальное типологическое сравнение материала РЖЯ с материалом других жестовых языков пока вряд ли возможно — для этого просто недостаточно данных, антонимия в жестовых языках изучена очень слабо, специальные работы в этой области единичны, см. об этом выше во введении к статье и в разделе 2.
About the authors
Violetta E. Gusakova
Novosibirsk State Technical University
Author for correspondence.
Email: ve_gusakova@mail.ru
Russian Federation, Novosibirsk
Svetlana I. Burkova
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State Technical University
Email: burkova_s@mail.ru
Russian Federation, Moscow; Novosibirsk
References
- Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. I. Лексическая семантика. М.: Языки рус-ской культуры, 1995. [Apresjan Yu. D. Izbrannye trudy. T. 1: Leksicheskaya semantika. [Selected works. Vol. 1: Lexical semantics]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul’tury, 1995.]
- Базоев и др. 2020 — Базоев В. З., Гаврилова Г. Н., Егорова И. А., Ежова В. В., Давыденко Т. П., Чаушьян Н. А. Словарь русского жестового языка. М.: Флинта, 2020. [Bazoev V. Z., Gavrilova G. N., Egorova I. A., Ezhova V. V., Davydenko T. P., Chaush’yan N. A. Slovar’ russkogo zhestovogo yazyka [Russian Sign Language Dictionary]. Moscow: Flinta, 2020.]
- Буркова, Киммельман 2019 — Буркова С. И., Киммельман В. И. (ред.). Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. [Burkova S. I., Kimmel’man V. I. (eds.). Vvedenie v lingvistiku zhestovykh yazykov. Russkii zhestovyi yazyk [Introduc-tion into sign language linguistics. Russian Sign Language]. Novosibirsk: Novosibirsk State Tech-nical Univ. Press, 2019.]
- Корпус РЖЯ 2012–2015 — Корпус русского жестового языка. Буркова С. И. (рук. проекта). Ново-сибирск: НГТУ, 2012–2015. [Korpus russkogo zhestovogo yazyka [Russian Sign Language Corpus]. Burkova S. I. (project manager). Novosibirsk: Novosibirsk State Technical Univ., 2012–2015.] http://rsl.nstu.ru/.
- Кронгауз 2005 — Кронгауз М. А. Семантика. М.: Академия, 2005. [Krongauz M. A. Semantika [Semantics]. Moscow: Akademiya, 2005.]
- Лаврова 2017 — Лаврова Н. А. К вопросу об определении антонимии и о типологической класси-фикации антонимов. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки, 2017, 7(779): 62–71. [Lavrova N. A. On the definition of antonymy and ty-pological classification of antonyms. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo univer-siteta. Gumanitarnye nauki, 2017, 7(779): 62–71.]
- Лакофф, Джонсон 2004 — Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: URSS, 2004. [Lakoff G., Johnson M. Metafory, kotorymi my zhivem [Metaphors we live by]. Moscow: URSS, 2004.]
- Майсак 2005 — Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М.: Языки славянских культур, 2005. [Maisak T. A. Tipologiya grammat-ikalizatsii konstruktsii s glagolami dvizheniya i glagolami pozitsii [Typology of grammaticalization of constructions with verbs of motion and verbs of position]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur, 2005.]
- Миллер 1990 — Миллер Е. Н. Природа лексической и фразеологической антонимии. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. [Miller E. N. Priroda leksicheskoi i frazeologicheskoi antonimii [The nature of lexical and phraseological antonymy]. Saratov: Saratov State Univ. Press, 1990.]
- Новиков 1984 — Новиков Л. А. Русская антонимия и ее лексикографическое описание. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. Новиков Л. А. (ред.). М.: Русский язык, 1984, 5–30. [Novikov L. A. Russian antonymy and its lexicographic description. L’vov M. R. Slovar’ antonimov russkogo yazyka [Dictionary of antonyms of the Russian language]. Novikov L. A. (ed.). Moscow: Russkii yazyk, 1984, 5–30.]
- Рухледев 2014 — Рухледев В. Н. Проблемы глухих людей: интервью с президентом Всероссийского общества глухих В. Н. Рухледевым от 30.10.2014 г. [Rukhledev V. N. Problemy glukhikh lyudei: interv’yu s prezidentom Vserossiiskogo obshchestva glukhikh V. N. Rukhledevym ot 30.10.2014 g. [Problems of deaf people: An interview with the President of the All-Russian Society of the Deaf V. N. Rukhledev from Oct. 30, 2014.] https://www.deafnet.ru/new.phtml c=69&id=12154.
- Фрадкина 2001 — Фрадкина Р. Н. Говорящие руки: Тематический словарь жестового языка глухих России. М.: Сопричастность, 2001. [Fradkina R. N. Govoryashchie ruki: Tematicheskii slovar’ zhestovogo yazyka glukhikh Rossii [Talking hands: A thematic dictionary of the sign language of the Deaf in Russia]. Moscow: Soprichastnost’, 2001.]
- Шанский 1964/2009 — Шанский H. М. Лексикология современного русского языка. М.: URSS, 2009. [Shanskii H. M. Leksikologiya sovremennogo russkogo yazyka [Lexicology of modern Russian]. Mos-cow: URSS, 2009.]
- Шмелев 1966 — Шмелев Д. Н. Об анализе семантической структуры слова. Zeichen und System der Sprache, 1966, 3: 126–138. [Shmelev D. N. On the analysis of the semantic structure of a word. Zeichen und System der Sprache, 1966, 3: 126–138.]
- Aronoff et al. 2005 — Aronoff M., Meir I., Sandler W. The paradox of sign language morphology. Lan-guage, 2005, 81(2): 301–344.
- Battison 1978 — Battison R. Lexical borrowing in American Sign Language. Silver Spring (MD): Linstok Press, 1978.
- Bickford, Fraychineaud 2006 — Bickford J. A., Fraychineaud K. Mouth morphemes in ASL: A closer look. Sign languages: spinning and unraveling the past, present and future. TISLR9, forty five papers and three posters from the 9th Theoretical Issues in Sign Language Research Conference. de Quadros R. M. (ed.). Florianopolis: Editora Arara Azul, 2006, 32–47.
- Börstell, Lepic 2019 — Börstell C., Lepic R. Spatial metaphors in antonym pairs across sign languages. Theoretical Issues in Sign Language Research Conference (Hamburg, 26–28 Sept. 2019). Conference Handbook. Hamburg: Univ. of Hamburg, 2019, 88–89.
- Brentari 1998 — Brentari D. A prosodic model of sign language phonology. Cambridge (MA): MIT Press, 1998.
- Brentari 2011 — Brentari D. Handshape in sign language phonology. The Blackwell companion to pho-nology. Vol. I. General Issues and Segmental Phonology. van Oostendorp M., Ewen C. J., Hume E., Rice K. (eds.). Malden (MA): Wiley-Blackwell, 2011, 195–222.
- Cruse 1987 — Cruse D. A. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987.
- Dimou et al. 2014 — Dimou A. L., Goulas T., Efthimiou E., Fotinea S. E., Karioris P., Pissaris M., Ko-rakakis D., Vasilaki K. Creation of a multipurpose sign language lexical resource: The GSL lexicon database. 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel. Workshop Proceedings. Reykjavik, 2014, 37–42.
- Gabarro-Lopez 2017 — Gabarro-Lopez S. Discourse markers in French Belgian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC): BUOYS, PALM-UP and SAME. Variation, functions and position in discourse: Doctoral diss. Namur: Univ. of Namur, 2017.
- Johnston, Schembri 2007 — Johnston T., Schembri A. Australian Sign Language (Auslan). An Introduc-tion to sign language linguistics. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.
- van der Kooij 2002 — van der Kooij E. Phonological categories in Sign Language of the Netherlands: The role of phonetic implementation and iconicity: Ph.D. diss. Utrecht: LOT, 2002.
- Liddell, Johnson 1989 — Liddell S. K., Johnson R. E. American Sign Language: The phonological base. Linguistics of American Sign Language: An introduction. Valli C., Lucas C. (eds.). Cambridge: Cam-bridge Univ. Press, 2000, 267–306.
- Lyons 1977 — Lyons J. Semantics. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977.
- Mandel 1977 — Mandel M. Iconic devices in American Sign Language. On the other hand: new perspec-tives on American Sign Language. Friedman L. A. (ed.). New York: Academic Press, 1977, 57–107.
- Meir 2006 — Meir I. The morphological realization of semantic fields. Sign languages: spinning and unraveling the past, present and future. TISLR9, forty five papers and three posters from the 9th Theo-retical Issues in Sign Language Research Conference. de Quadros R. M. (ed.). Florianopolis: Editora Arara Azul, 2006, 347–364.
- Murphy 2003 — Murphy M. L. Semantic relations and the lexicon. Antonymy, synonymy and other para-digms. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003.
- Spreadthesign — Spreadthesign: A multilingual dictionary for sign languages. Örebro: European Sign Language Center, 2018. https://www.spreadthesign.com/.
- Stokoe 1960 — Stokoe W. C. Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American Deaf. Buffalo (NY): Univ. of Buffalo, 1960.
- Sutton-Spence, Woll 2007 — Sutton-Spence R., Woll B. The linguistics of British Sign Language: An introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.
- Tamm et al. 2017 — Tamm M. K., Miestamo M., Börstell C. Impossible but not difficult: A typological study of lexical vs. derived antonyms. SLE 2017. Book of abstracts. Zürich: Univ. of Zürich, 2017, 135–136.
- Taub 2001 — Taub S. Language from the body: Iconicity and metaphor in American Sign Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001.
- Tsay, Myers 2009 — Tsay J., Myers J. The morphology and phonology of Taiwan Sign Language. Tai-wan Sign Language and beyond. Tai J. H.-Y., Tsay J. (eds.). Chia-Yi: Taiwan Institute for the Hu-manities, National Chung Cheng Univ., 2009, 83–129.
- Valli, Lucas 2000 — Valli C., Lucas C. (eds.). Linguistics of American Sign Language: An introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000.