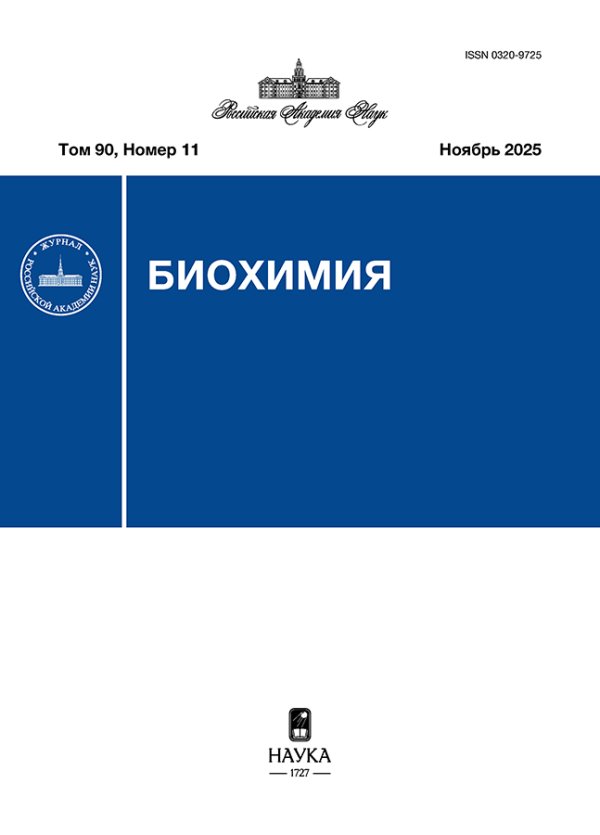Pharmacological Doses of Thiamine Benefit Patients with Charcot–Marie–Tooth Neuropathy, Changing the Thiamine Diphosphate Levels and Dependent Enzyme Regulation
- Authors: Artiukhov A.V.1,2, Solovjeva O.N.1, Balashova N.V.3,4, Sidorova O.P.3, Graf A.V.1, Bunik V.I.1,2
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Sechenov University
- M.F. Vladimirsky Moscow Regional Research and Clinical Institute
- RUDN
- Issue: Vol 89, No 7 (2024)
- Pages: 1149-1173
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0320-9725/article/view/276345
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320972524070019
- EDN: https://elibrary.ru/WNUSPY
- ID: 276345
Cite item
Full Text
Abstract
Charcot–Marie–Tooth (CMT) neuropathy is a polygenic disorder of peripheral nerves with no effective cure. Thiamine (vitamin B1) is a neurotropic compound improving neuropathies. Our pilot study characterizes therapeutic potential of daily oral administration of thiamine (100 mg) in CMT neuropathy and its molecular mechanisms. The patient hand grip strength is determined before and after the thiamine administration along with the blood levels of the thiamine coenzyme form (thiamine diphosphate, ThDP), activities of endogenous (without ThDP in the assay medium) holo-transketolase and total (with ThDP in the assay medium) transketolase, and the transketolase activation by ThDP [1-(holo-transketolase/total transketolase),%], corresponding to the fraction of the ThDP-free apo-transketolase. Single cases of administration of sulbutiamine (200 mg) or benfotiamine (150 mg) reveal their effects on the assayed parameters within those of thiamine. Administration of thiamine or its pharmacological forms increases the hand grip strength in the CMT patients. Comparison of the thiamin status in patients with varied forms of CMT disease to that of the control subjects without diagnosed pathologies has not found significant differences in the average levels of ThDP, holo-transketolase or transketolase distribution between the holo and apo forms. However, the transketolase regulation by thiamine/ThDP differs in the control and CMT groups. In the assay medium, ThDP does not activate transketolase of CMT patients, while the activation is statistically significant in the control group. Thiamine supplementation in vivo paradoxically decreases endogenous holo-transketolase in CMT patients, the effect not observed in the control group. Correlation analysis reveals sex-specific differences in relationships between the parameters of thiamine status in the control subjects and patients with CMT disease. Thus, our findings link physiological benefits of thiamine supplementation in CMT patients to the changes in their thiamine status, characterized by the blood levels of ThDP and transketolase regulation.
Full Text
Принятые сокращения: ТДФ – тиаминдифосфат; ШМТ – болезнь Шарко–Мари–Тута; RM-ANOVA – дисперсионный анализ с учетом парных выборок.
ВВЕДЕНИЕ
Невропатия Шарко–Мари–Тута (ШМТ) – наиболее распространенная в мире форма наследственных нервно-мышечных заболеваний у человека [1, 2]. Заболевание обладает широкой гетерогенностью, но, как правило, характеризуется прогрессирующей мышечной атрофией и потерей двигательных функций нижних конечностей, в дальнейшем поражающей и верхние [3–6]. Сенсорные расстройства менее выражены, но могут дополнительно снижать качество жизни пациентов. В зависимости от конкретного молекулярного дефекта клинические проявления ШМТ могут варьировать от легкой слабости в ногах до тяжелого паралича, но в целом заболевание характеризуется очень медленным прогрессированием; часто проходят десятилетия, прежде чем клиническая картина станет явной [7, 8]. Классификация ШМТ учитывает нарушение скорости нервной проводимости и тип наследования, на основании которых выделяют две основные формы – демиелинизирующую (ШМТ1) и аксональную (ШМТ2). В отдельную группу также выделяются подтипы, сцепленные с X-хромосомой (ШМТХ) [8–10]. Дальнейшая классификация форм ШМТ основана на поражении конкретных генов или мультигенных локусов. Различные типы заболевания имеют коллективную распространенность 1 : 2500 [11], однако в изолированных популяциях, например, в Японии и Норвегии, частота встречаемости ШМТ значительно выше [12–14]. Согласно некоторым оценкам, около половины больных ШМТ людей могут считаться «недееспособными» [15] и до 20% – «тяжелыми инвалидами» [16], что приводит к значительной финансовой нагрузке на систему здравоохранения.
Наиболее распространенный подтип ШМТ, встречающийся более чем у 50% всех пациентов [17], ШМТ1А, возникает в результате дупликации хромосомной области 17p11.2-17p12, содержащей ген PMP22. Данный ген кодирует гликопротеин, главный компонент миелиновой оболочки периферических нервных волокон. На животных моделях сверхэкспрессия PMP22 вызывает симптомы, аналогичные симптомам у пациентов с ШМТ1А, т.е. демиелинизацию нервных волокон, которая снижает скорость нервной проводимости, связанную с атрофией мышц [17]. Тяжесть симптомов у этих животных коррелирует с количеством копий PMP22 в геноме, причем даже две дополнительные копии гена вызывают демиелинизацию [18]. Локус 17p11.2-17p12 содержит еще 7 генов и несколько псевдогенов, однако лишь PMP22, для которого показан вышеописанный «эффект дозы», считается ответственным за развитие ШМТ1A [19]. Второй наиболее распространенный подтип ШМТ, ШМТX1, вызывается мутациями гена GJB1, локализованного на Х-хромосоме. Проявления ШМТX1 ближе к ШМТ2 у пациентов женского пола, но занимают промежуточное положение между ШМТ1 и ШМТ2 у пациентов мужского пола [8–10]. Число описанных мутаций в различных участках генома, связанных с симптомами ШМТ, постоянно растет: в настоящее время известно порядка 100 генов, мутации в которых вызывают развитие ШМТ [8, 9]. Некоторые из подтипов ШМТ иногда диагностируются и как самостоятельные нарушения. Так, дисфункция гена TFG описывается и как подтип ШМТ2Р, и как наследственная моторно-сенсорная невропатия «типа Окинавы» [20].
Ни один из доступных терапевтических подходов не может полностью вылечить ШМТ. Однако при ряде других неврологических расстройств введение тиамина (витамина B1) в высоких дозах приводило к улучшению клинической картины [21–26]. Насколько нам известно, терапевтическое действие тиамина на пациентов с ШМТ не изучалось даже в тех случаях, когда патология была обусловлена мутациями ферментов, функции которых зависят от тиамина и, следовательно, могли бы быть скорректированы введением тиамина [27, 28]. С другой стороны, известно, что демиелинизация при различных формах ШМТ ассоциирована с митохондриальной дисфункцией [29], а тиамин как предшественник кофермента центрального метаболизма глюкозы, тиаминдифосфата (ТДФ), улучшает функцию митохондрий при различных невропатологиях [26, 30–34]. В частности, тиамин оптимизирует окисление глюкозы, снижая таким образом использование аминокислот в качестве энергетических субстратов [35], а также защищает от окислительного стресса [26, 36–38]. Принимая во внимание вклад усиленной митохондриальной деградации аминокислот в такой признак ШМТ, как мышечная атрофия [39, 40], снижение деградации аминокислот, ранее наблюдавшееся в ходе оптимизации метаболизма в результате введения тиамина [35], может иметь потенциальное терапевтическое значение при данном заболевании. Кроме того, нейротропное действие тиамина [41, 42] и существование его фармакологических форм, в частности, мембранопроницаемого сульбутиамина (препараты «Энерион», «Аркалион», также входит в состав препарата «Нейробион») или бенфотиамина, являющегося аналогом тиаминмонофосфата (препарат «Бенфогамма», также входит в состав препаратов «Мильгамма» и «Комбилипен»), делает витамин B1 перспективным кандидатом для лечения ШМТ.
В настоящей работе представлены результаты наблюдения трех клинических случаев женщин с наиболее распространенной формой ШМТ (ШМТ1А), в ходе которого оценивали их физиологические и биохимические ответы на пероральный прием высоких доз тиамина (витамина В1) или сульбутиамина. Основываясь на успешных результатах этих исследований, мы дополнительно оценили тиаминовый статус в образцах крови сопоставимых пилотных выборок пациентов с ШМТ и здоровых контролей. Несмотря на то, что у пациентов с ШМТ не наблюдается существенных отличий от контрольной группы по средним уровням ТДФ или активности транскетолазы в крови, регуляция транскетолазы пациентов при введении ТДФ в среду измерения активности этого ТДФ-зависимого фермента или при приеме тиамина пациентами отличается от таковой у контрольной группы. Такие биохимические различия подтверждаются корреляционным анализом параметров тиаминового статуса. Таким образом, метаболическое действие высоких доз тиамина, регулирующего ТДФ-зависимые ферменты, может привести к наблюдаемому улучшению физиологических показателей пациентов с ШМТ при приеме тиамина.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Реагенты. Коммерческие реагенты, использовавшиеся для биохимических анализов, имели наивысшую доступную чистоту и были получены от фирмы «Sigma-Aldrich», США. Смесь фосфопентоз для измерения активности транскетолазы получали из рибозо-5-фосфата, согласно известной методике энзиматического синтеза с использованием рибозо-5-фосфатизомеразы и ксилулозо-5-фосфатэпимеразы, полученных из ацетонового порошка бычьей селезенки [43, 44]. Апофермент транскетолазы дрожжей получали методом иммуноаффинной хроматографии, согласно опубликованному протоколу с использованием поликлональных антител, выделенных из сыворотки иммунизированного кролика [45, 46]. Препарат фермента разделяли на аликвоты и хранили при –15 °С в буфере, содержащем 10 мМ KH2PO4 и 50 мМ (NH4)2SO4 (pH 7,6). Перед анализом дрожжевую апо-транскетолазу пропускали через колонку Sephadex G-50 («Pharmacia», Швеция), уравновешенную 50 мМ глицил-глициновым буфером (pH 7,6). Полученный таким образом препарат транскетолазы характеризовался типичными параметрами (например, 7,4 мг/мл; 20 Ед./мг) и был стабилен при хранении при –15 °C в течение нескольких дней. Транскетолазную активность этого препарата определяли в присутствии 0,1 мМ ТДФ с использованием нижеописанной методики. Для определения концентрации белка использовали молярный коэффициент экстинкции А0,1%1см, равный 1,45 при 280 нм [47]. Непосредственно перед анализом к препарату транскетолазы добавляли CaCl2 (конечная концентрация – 0,1 мМ). В присутствии CaCl2 наблюдался расширенный интервал линейной зависимости активности транскетолазы от концентрации ТДФ [48].
Исследования на людях. Исследование не было предварительно зарегистрировано. Общее количество участников исследования и их общие характеристики показаны в табл. 1. Клинические данные обо всех участниках с диагнозом ШМТ представлены в таблице П1 в Приложении. В исследование были включены пациенты в возрасте 16–63 года с подтвержденным диагнозом ШМТ, а также лица контрольной группы аналогичного возрастного интервала без диагностированных патологий. Пациенты с ШМТ или участники контрольной группы, сообщившие о продолжающемся или недавнем (<6 месяцев) приеме витамина B1, рассматривались лишь как принимавшие тиамин. Выбор трех пациенток с ШМТ для осуществления длительного клинического наблюдения определялся их наиболее распространенной формой болезни (ШМТ1А) и готовностью проходить регулярные обследования, включая анализы крови. На момент включения в исследование эти пациенты получали поддерживающую терапию, состоящую в пероральном приеме карнозина (Севитин, 500 мг в день), ацетилкарнитина (Карницетин, 500 мг в день) и ипидакрина (Аксамон, 60 мг в день). Пациентка 1 также принимала липоевую кислоту (Берлитион, 600 мг в день) и габапентин (600 мг в день). В дополнение к этому продолжающемуся лечению пациенткам 1 и 3 (таблица П1 в Приложении) были назначены курсы перорального приема тиамина гидрохлорида (100 мг в день, B-1, «NOW Foods», США); пациентка 2 (таблица П1 в Приложении) получала сульбутиамина гидрохлорид (200 мг в день, Энерион, «Les Laboratoires Servier Industrie», Франция).
Таблица 1. Краткое описание исследуемых когорт
Группа | Подгруппа | Пол | Возраст, лет |
Здоровые контроли, n = 22 | не принимающие витамин B1, n = 18 | 33% мужчины (n = 6) 67% женщины (n = 12) | 35–70 19–70 |
принимающие витамин B1*, n = 4 | 50% мужчины (n = 2) 50% женщины (n = 2) | 35–63 44–65 | |
Пациенты с ШМТ, n = 15 | не получавшие терапию витамином B1 в течение 6 предшествующих месяцев, n = 14 | 43% мужчины (n = 6) 57% женщины (n = 8) | 18–63 16–49 |
получавшие терапию витамином B1 при включении в исследование или в течение 6 предшествующих месяцев**, n = 10 | 30% мужчины (n = 3) 70% женщины (n = 7) | 18–63 16–63 |
* Витаминные комплексы, о приеме которых сообщали участники контрольной группы, содержали витамина B1 в дозировке 1,5–50 мг в день (VPlab ultra Mens, Vita Balance 2000, Naturelo, Solgar Male Multiple).
** Подробная информация о приеме тиамина, сульбутиамина (Энерион) и бенфотиамина (Бенфогамма) пациентами с ШМТ представлена в табл. П1 в Приложении.
Биохимические исследования образцов крови проводились двойным слепым методом, когда исследователь, проводивший анализы, не был осведомлен о принадлежности образца к определенной группе, а статистический анализ полученных этим исследователем данных проводился независимым исследователем. Физиологическое и биохимическое тестирование пациентов проводили, как описано ниже.
Медицинские тесты. Измерение силы мышц-сгибателей пальцев кисти оценивали с помощью ручного динамометра ДК-25 (Россия) по стандартизированной методике кистевой динамометрии, рекомендованной Советом медицинских исследований Великобритании [49–52]. Все пациенты с доминирующей правой рукой садились на стул и брали динамометр таким образом, чтобы шкала была направлена внутрь. Пациенты сжимали динамометр вытянутой рукой, получая словесную поддержку во время тестирования. Сила мышц-сгибателей пальцев кистей (в кг) в каждой временной точке определялась по среднему из трех измерений отдельно для левой и правой рук. Измеряемый параметр является высоконадежным и достоверным индикатором прогрессирования ШМТ у взрослых пациентов [53, 54]. Надежность кистевой динамометрии подтверждает и ее использование для определения двигательной функции в различных фармакологических исследованиях [55, 56]. У здоровых людей 30–50 лет средняя сила мышц-сгибателей пальцев доминирующей и не доминирующей рук составляет соответственно 27,5 кг и 25,5 кг у женщин и 46 кг и 40,5 кг у мужчин [57].
Силу дистальных мышц ног (в основном передней большеберцовой мышцы) измеряли с помощью динамометра ДС-200 (Россия) и системы оценки по шкале BMRC, рекомендованной Советом медицинских исследований Великобритании [58]: 0 – отсутствие мышечного сокращения; 1 – сокращение без видимых движений в суставе; 2 – видимое движение без преодоления силы тяжести конечности; 3 – видимое движение, преодолевающее силу тяжести, но не сопротивление конечности; 4 – движение с частичным преодолением сопротивления; 5 – нормальная мышечная сила.
МРТ-исследование мышц нижних конечностей проводили в режимах T1- и T2-STIR системы Optima MR450w GEM («General Electric», США) с магнитным полем 1,5 Тл.
Электронейромиография моторных волокон нервов верхних и нижних конечностей проводилась с помощью системы «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия) по стандартному ранее описанному протоколу [59]. Неинвазивные электроды располагали на тестируемых участках и использовали для определения скорости проводимости по срединному, малоберцовому, большеберцовому и бедренному нервам, а также для определения остаточной латентности.
Вибрационную чувствительность в руках и ногах измеряли в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации диабета [60] с использованием градуированного камертона Райделя–Зейфера с частотой 128 Гц, приложенного перпендикулярно различным тестируемым участкам, как описано в других источниках [61, 62]. Тест оценивал время восприятия в секундах; нормальным считается время 10 с и более.
Забор и обработка крови для биохимических анализов. Для биохимического исследования кровь из срединной локтевой вены собирали в вакутейнер с гепарином утром натощак, делили на аликвоты и хранили при –70 °С. Размороженную для измерений тиаминового статуса аликвоту крови озвучивали с использованием Bioruptor («Diagenode», Австрия) в режиме низкой интенсивности в течение 7 циклов, состоящих из 30 с озвучивания и 30 с паузы, как описано ранее [63].
Анализ транскетолазы крови. Активность транскетолазы в крови человека измеряли с помощью микропланшетного ридера CLARIOstar Plus («BMG Labtech», Германия) в режиме спектрофотометрии при 340 нм по поглощению NADH, образующегося в сопряженной реакции, согласно описанной ранее методике [64, 65]. Для измерения активности транскетолазы и ее активации ТДФ в медицинских анализах рекомендовано использовать цельную кровь [66, 67]. Активность транскетолазы выражали в единицах на мл крови (Ед./мл), где 1 Ед. соответствует трансформации одного мкмоля субстрата, эквивалентного продукции одного мкмоля NADH в сопряженной реакции, в мин. Озвученную кровь разводили в 5 раз в среде для анализа, содержащей 50 мМ глицил-глициновый буфер (pH 7,6) и 2,5 мМ MgCl2. Из полученного образца отбирали 130 мкл и инкубировали в 520 мкл среды для анализа, дополнительно содержащей 1 мМ NADH, 13,5 Ед./мл триозофосфатизомеразы, 0,9 Ед./мл глицерин-3-фосфатдегидрогеназы и 0,2 мМ ТДФ либо не содержащей последнего, в течение 20–40 мин в стеклянной пробирке. За это время расходовались различные субстраты, присутствующие в препаратах ферментов и окисляющие NADH, в результате чего фоновые изменения приходили в стационарное состояние, характеризующееся низкой и постоянной скоростью снижения поглощения NADH. По достижении этого состояния 50 мкл описанного выше разведения крови добавляли в лунку микропланшета, смешивали со 150 мкл среды для анализа, содержащей дополнительно смесь фосфопентоз в концентрации 4 мг/мл, и измеряли активность транскетолазы в течение 90 мин. Смесь субстратов, добавленная при анализе активности транскетолазы, позволяет насытить фермент для определения максимальной скорости реакции. Фоновую реакцию измеряли аналогичным образом, но без добавления фосфопентоз к смеси 150 мкл среды и 50 мкл разведенной крови. Полученную скорость фоновой реакции ΔA340/мин вычитали из скорости транскетолазной реакции с добавленными фосфопентозами. Анализ каждого образца крови проводили в трех повторах. Активность транскетолазы без добавления ТДФ в реакционную среду в дальнейшем тексте упоминается как активность эндогенной холо-транскетолазы, тогда как активность с добавлением ТДФ в среду для анализа – как общая активность транскетолазы. Уровень эндогенной апо-транскетолазы характеризуется разницей между активностью общей транскетолазы и эндогенной холо-транскетолазы. Фракция эндогенной апо-транскетолазы соответствует активации транскетолазы ТДФ, которую рассчитывали, как [1 – (эндогенная холо-транскетолаза/общая транскетолаза)] × 100%. Отрицательные значения такой активации соответствуют ингибированию транскетолазы ТДФ, наблюдавшемуся в наших и других исследованиях [68–74].
Экстракция и анализ ТДФ в крови. Обработанную ультразвуком кровь, разведенную в 5 раз в среде для анализа, использовали для экстракции ТДФ, которую проводили нагреванием при 95 °C в течение 3 мин с последующим центрифугированием при 21 500 g в течение 15 мин. ТДФ измеряли ферментативно с использованием апофермента дрожжевой транскетолазы, активирующегося экстрагированным ТДФ [75], с ранее описанными модификациями [76]. Супернатант после нагревания крови (40 мкл) инкубировали в течение 40 мин с 10 мкл среды для анализа, содержащей 3 мкг дрожжевой апо-транскетолазы. После этого добавляли 150 мкл той же среды, содержащей 0,33 мМ NADH, 4,5 Ед./мл триозофосфатизомеразы, 0,3 Ед./мл глицерин-3-фосфатдегидрогеназы и 4 мг/мл смеси калиевых солей ксилулозо-5-фосфата и рибозо-5-фосфата. В полученной смеси измеряли скорость транскетолазной реакции в течение 30–40 мин. Калибровочную кривую строили с использованием 40 мкл 0–0,2 мкМ раствора ТДФ (0–8 пмоль ТДФ в лунке). Концентрацию ТДФ в приготовленном в качестве калибровочного стандарта растворе определяли по поглощению при 272 нм с использованием молярного коэффициента экстинкции 7500 М–1·см–1 [77].
Статистический анализ. Для статистического анализа использовали GraphPad Prism 8.0 («GrapPad Inc.», США). Достоверность различий между двумя группами оценивалась с помощью теста Манна–Уитни, для которого не требуется нормальное распределение данных. Множественные экспериментальные группы анализировали с помощью двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с post-hoc-тестом Сидака. Если одна и та же выборка тестировалась в различных условиях, использовалась соответствующая модификация дисперсионного анализа с повторностями (RM-ANOVA).
Для корреляционного анализа использовали корреляции Спирмена, поскольку не все выборки данных имели нормальное распределение, согласно тесту Д’Агостино–Пирсона. Итеративный тест Граббса (при значении параметра Alpha 0,01) не определил выбросы в имеющихся выборках. Мощность всех статистических тестов (1–β) была ≥ 0,9.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клиническое описание пациенток до введения тиамина. На основании клинической картины и дупликации локуса 17р11.2-р12, охватывающего ген PMP22, у трех участвовавших в длительном наблюдении пациенток была диагностирована наследственная моторно-сенсорная невропатия Шарко–Мари–Тута подтипа 1А.
Пациентка 1 на момент включения в исследование была в возрасте 47 лет, обладала полой стопой, низкой силой мышц-сгибателей пальцев кистей (8,5 кг в правой руке и 4,5 кг – в левой), нарушением вибрационной чувствительности и снижением сухожильных рефлексов. Пациентка жаловалась на слабость и острую боль в нижних конечностях, спотыкание и периодические падения. Она слегка пошатывалась в позе Ромберга и при пальце-носовой и пяточно-коленной пробах демонстрировала легкий тремор. Электронейромиография выявила сильные нарушения скорости нервной проводимости и длительные латентные периоды, сопровождающиеся полной блокадой сенсорного потенциала большеберцовых и срединных нервов с обеих сторон. МРТ показала серьезные поражения мышц. Сила передней большеберцовой мышцы не определялась, так как при первичной оценке у пациента не было выявлено признаков мышечного сопротивления (0–1 балл по шкале BMRC). Пациентке был назначен тиамина гидрохлорид перорально в дозе 100 мг в день в дополнение к базовой терапии, описанной в разделе «Материалы и методы» («Исследования на людях»).
Пациентка 2 на момент включения в исследование была возрастом 35 лет, имела полую стопу, низкую силу мышц-сгибателей пальцев кистей (9 кг в правой руке и 7 кг – в левой), отсутствие вибрационной чувствительности в пальцах ног и отсутствие сухожильных рефлексов. Пациентка жаловалась на слабость в нижних и верхних конечностях, невозможность встать из положения сидя; подъем из положения лежа происходил в три приема. Она была нестабильна в позе Ромберга, но точно выполняла пальце-носовую пробу. Электронейромиография установила низкую скорость проводимости, большие латентные периоды и полную блокаду сенсорного потенциала срединного нерва с обеих сторон, а также снижение количества нервных волокон. МРТ показала серьезные поражения мышц. Сила передней большеберцовой мышцы была значительно редуцирована (3 балла по шкале BMRC). Пациентке был назначен сульбутиамин перорально в дозе 200 мг в день в дополнение к базовой терапии, описанной в разделе «Материалы и методы» («Исследования на людях»).
Пациентка 3 на момент включения в исследование была возрастом 36 лет, обладала ступенчатой походкой, болями в виде гипестезии, низкой силой мышц-сгибателей пальцев кистей (8,5 кг в правой руке и 4,5 кг – в левой), отсутствием вибрационной чувствительности и отсутствием сухожильных рефлексов. Пациентка жаловалась на слабость нижних конечностей, в особенности стоп. Электронейромиография также продемонстрировала существенное ослабление функции нервов, а МРТ – значительную дегенерацию мышц. Пациентка не проявляла достаточной резистентности при первичной оценке силы передней большеберцовой мышцы (0–1 балл по шкале BMRC). Биохимический анализ крови показал повышенную активность аспартаттрансаминазы – 39 Ед./литр (нормальные значения: 5–31 Ед./литр), хотя активность аланинтрансаминазы (22 Ед./литр) находилась в пределах диапазона нормальных значений (5–34 Ед./литр). Таким образом, биохимический анализ подтвердил серьезное повреждение внепеченочных тканей, таких как скелетные мышцы. Пациентке был назначен тиамина гидрохлорид перорально в дозе 100 мг в день в дополнение к базовой терапии, описанной в разделе «Материалы и методы» («Исследования на людях»).
Клиническое описание пациентов во время и после завершения курсов тиамина. Пациентка 1. В течение 10 месяцев ежедневного перорального приема витамина В1 в форме тиамина гидрохлорида у пациентки наблюдалось постепенное улучшение физиологических и биохимических показателей. Повышение уровня ТДФ в цельной крови с 149 до 332 нМ сопровождалось увеличением силы мышц-сгибателей пальцев обеих кистей (рис. 1, а). Повышение ТДФ сопровождалось снижением активности транскетолазы и исчезновением незначительной активации транскетолазы ТДФ (рис. 1, б). Через 10 месяцев после начала приема тиамина у пациентки были также замечены некоторые неврологические улучшения (табл. 2).
Рис. 1. Динамика изменения тиаминового статуса в крови и силы мышц-сгибателей пальцев кистей у пациенток 1 (а и б), 2 (в и г) и 3 (д и е) во время и после завершения курсов ежедневного перорального приема витамина В1 в форме тиамина гидрохлорида (пациентки 1, 3) или сульбутиамина (пациентка 2). Точечной штриховкой обозначены периоды, когда пациентки принимали B1. (а, в, д) – Содержание ТДФ в крови (левая шкала по оси Y, синяя линия) и сила мышц-сгибателей пальцев кистей (правая шкала по оси Y), правой (красная линия) и левой (зеленая линия) кистей. (б, г, е) – Активность транскетолазы (ТК) крови (левая шкала по оси Y), измеренная при отсутствии (–ТДФ, сиреневая линия) и в присутствии (+ТДФ, оранжевая линия) ТДФ в реакционной среде; измерения используются для расчета активации транскетолазы ТДФ, характеризующей долю апо-транскетолазы от общего количества фермента (правая шкала по оси Y, черная линия), как описано в разделе «Материалы и методы» («Анализ транскетолазы крови»). Все биохимические параметры представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего (полосы ошибок не отображаются, если находятся в пределах размера символов)
Таблица 2. Неврологические улучшения у пациентки 1 спустя 10 месяцев ежедневного приема 100 мг тиамина гидрохлорида
Плечелучевые сухожильные рефлексы рук | Выполнение пальце-носовой пробы | ||||
правая | левая | ||||
– | + | – | + | – | + |
отсутствуют | слабые | отсутствуют | живые | с умеренным тремором | точно |
Спустя 7 месяцев после завершения 10-месячной терапии тиамином уровень ТДФ в крови снизился с 332 нМ до практически исходного уровня (156 нМ; рис. 1, а), что сопровождалось увеличением активности транскетолазы и ее активации ТДФ (рис. 1, б). Однако клинические улучшения сохранялись хотя бы частично: сила мышц-сгибателей пальцев в левой кисти не уменьшалась, а в правой – снижалась, но все равно была выше (12 кг) исходной (8,5 кг) (рис. 1, а). Слабые и живые сухожильные рефлексы по-прежнему наблюдались на правой и левой руках соответственно. Пальце-носовая проба по-прежнему выполнялась точно. Таким образом, 10-месячная терапия тиамином привела к долгосрочному, т.е. спустя 7 месяцев после завершения терапии, улучшению, хотя мышечная сила и параметры тиаминового статуса в крови продемонстрировали сопряженные изменения: уровень ТДФ и сила мышц-сгибателей пальцев кистей снижались, а активность транскетолазы и ее активация ТДФ повышались.
Пациентка 2. Спустя 3 месяца ежедневного перорального приема сульбутиамина у пациентки наблюдалось повышение уровня ТДФ (рис. 1, в) совместно со снижением активности транскетолазы (рис. 1, г) в крови, что сопровождалось улучшением силы сжатия в правой руке (рис. 1, в). Сила мышц ног также увеличивалась (с 3-х до 4-х баллов для передней большеберцовой мышцы).
Через 4 месяца после завершения 6-месячного приема сульбутиамина уровень ТДФ оставался выше (248 нМ), чем до терапии (194 нМ), активация транскетолазы ТДФ исчезла, а сила сжатия в правой кисти, хоть и снизилась до 10 кг, но оставалась выше исходного уровня (9 кг) (рис. 1, в). При этом сила мышц ног (передней большеберцовой мышцы) увеличилась (с 4-х баллов в конце терапии до 5). Таким образом, после завершения терапии сульбутиамином уровень ТДФ у пациентки 2 оставался стабильным в течение 4-х месяцев, активация транскетолазы ТДФ продолжала снижаться, а мышечная сила – улучшаться.
Пациентка 3. Уже спустя 2 месяца приема тиамина гидрохлорида у пациентки 3 наблюдались значительные улучшения биохимических и физиологических показателей (рис. 1, д). Уровень ТДФ в цельной крови резко увеличился (с 169 до 408 нМ). При этом сила сжатия в правой кисти немного улучшилась, но в левой – почти утроилась (рис. 1, д), тогда как активация транскетолазы ТДФ исчезла (рис. 1, е). Аномальный уровень активности АСТ в крови снизился с 39 до 34 Ед./литр. Такие значительные эффекты наблюдались при исходно низком (0,03–0,04 Ед./мл) уровне активности транскетолазы в крови пациентки 3, который при повышении ТДФ не снижался (рис. 1, е). Напротив, более высокие уровни активности транскетолазы (0,05–0,08 Ед./литр) у пациенток 1 (рис. 1, б) и 2 (рис. 1, г) снижались при введении тиамина.
Спустя 4 месяца приема тиамина пациентка была вынуждена прекратить терапию из-за обострения желчной колики. Спустя еще 2 месяца, после регресса печеночных симптомов, уровень ТДФ в крови пациентки оставался высоким (277 нМ), по сравнению с исходным уровнем (169 нМ), как и сила сжатия обеих кистей (9,5 и 15,5 кг для правой и левой руки соответственно). Активность АСТ понизилась до 32 Ед./литр. Сразу после этого обследования пациентке повторно был назначен тиамина гидрохлорид. Однако через месяц после окончания второго курса тиамина признаки заболевания печени вернулись и была проведена цистэктомия.
Примечательно, что спустя 5 месяцев после окончания второго курса тиамина было обнаружено дальнейшее увеличение силы сжатия кистей (15 и 17,3 кг для правой и левой руки соответственно; рис. 1, д), сопровождающееся появлением вибрационной чувствительности (4 с), которая полностью отсутствовала до назначения тиамина. На этот момент уровень ТДФ в крови пациентки (229 нМ) все еще был выше, по сравнению с уровнем до терапии (169 нМ; рис. 1, e), и она возобновила прием витамина B1 в виде препарата Нейробион (содержит 100 мг сульбутиамина). Таким образом, у тяжелобольной пациентки 3 прерывистый прием витамина B1 оказал длительное позитивное влияние на состояние мышечной (нормализация уровня активности АСТ, увеличение мышечной силы) и нервной тканей (улучшение вибрационной чувствительности).
Характерные параметры тиаминового статуса у пациентов с ШМТ по сравнению с контрольной группой. Данные наблюдения трех пациенток с ШМТ1А показали улучшение средней силы мышц-сгибателей пальцев с 8,7 ± 0,2 кг до 13,2 ± 2,6 кг в правой кисти и с 5,3 ± 0,8 кг до 9,3 ± 1,5 кг в левой кисти при повышении среднего уровня ТДФ в крови с 171 ± 13 нМ до 325 ± 50 нМ. Однако исследованных пациенток нельзя отнести к лицам с дефицитом тиамина, поскольку исходные уровни ТДФ в их крови (рис. 1) находились в пределах референсного интервала у здоровых лиц, 70–230 нМ [43–49]. Чтобы проверить и напрямую соотнести параметры тиаминового статуса, определяемые в наших экспериментах, анализы крови были проведены с использованием выборок пациентов с ШМТ (n = 15) и контрольной группы, в которой никакие патологии не были диагносцированы (n = 22).
Проведенный анализ определяемых показателей тиаминового статуса, таких как уровень ТДФ в крови, активность эндогенной холо-транскетолазы, активность общей (холо + апо)-транскетолазы и доля эндогенной холо-транскетолазы, не выявил существенных половых различий в средних значениях этих параметров (рис. П1 в Приложении). Данные о различных фармакологических формах витамина В1, применяемых у наших пациентов, также не выявили каких-либо специфичных для препарата различий в их влиянии на анализируемые параметры тиаминового статуса (рис. П2 в Приложении). Поэтому при дальнейшем сравнении показателей, присущих группе ШМТ и контрольной группе, мы объединили данные, полученные у представителей обоих полов и при приеме разных фармакологических форм тиамина (рис. 2 и 3).
Рис. 2. Сравнение показателей, характеризующих статус тиамина в крови контрольной группы и пациентов с ШМТ, не принимающих и принимающих витамин В1. У лиц, получавших B1 и имеющих несколько временных точек, доступных во время наблюдения за пациентом, для сравнений выбиралась точка, соответствующая максимальному уровню ТДФ в крови. Значения активности транскетолазы (ТК), определенные in vitro без и при добавлении ТДФ в среду, показаны пустыми и закрашенными символами соответственно. Прием B1 in vivo для каждой группы обозначен серыми столбцами, как показано в легенде. Черные и красные символы обозначают ШМТ1 и ШМТ2 соответственно. Статистически значимые (р ≤ 0,05) различия между изучаемыми группами, определенные методом двустороннего дисперсионного анализа с парными измерениями (RM-ANOVA) с критерием множественных сравнений Сидака, представлены на графиках. Под графиками указаны статистически значимые факторы. Данные представлены в виде «ящиков с усами», показывающих медиану, а также верхний и нижний квартили распределения каждого образца. Число испытуемых в исследуемых группах составляет: n = 18 здоровых контролей, не принимающих витамин В1; n = 4 здоровых контролей, принимающих витамин B1; n = 14 пациентов с ШМТ, не получавших витамин B1 в течение предыдущих 6 месяцев; n = 10 пациентов с ШМТ, получающих терапию витамином B1
Рис. 3. Сравнение активации транскетолазы (ТК) добавлением ТДФ в среду измерения активности у участников контрольной группы и пациентов с ШМТ. Значения активности ТК, определенные без и при добавлении ТДФ в среду, показаны пустыми и закрашенными символами соответственно. Черные и красные символы обозначают ШМТ1 и ШМТ2 соответственно. При сравнении эндогенной холо-транскетолазы (холо-TK) прием B1 in vivo обозначен полыми и закрашенными прямоугольниками, как показано в легенде под графиком. У лиц, получавших B1 и имеющих несколько временных точек, доступных во время наблюдения за пациентом, для сравнений выбиралась точка, соответствующая максимальному уровню ТДФ в крови. Статистически значимые (р ≤ 0,05) различия между изучаемыми группами, определенные методом двустороннего дисперсионного анализа с парными измерениями (RM-ANOVA) с критерием множественных сравнений Сидака, представлены на графиках. Под графиками указаны значимые факторы с их статистикой. Число испытуемых в исследуемых группах такое же, как на рис. 2
Как показано на рис. 2, существенных различий в уровнях ТДФ и активностях транскетолазы в крови между ШМТ и контрольной группами, а также между различными изученными формами ШМТ не было обнаружено. Уровни ТДФ как в группе ШМТ, так и в контрольной группе одинаково увеличивались после введения витамина B1. Однако у пациентов с ШМТ можно было наблюдать снижение среднего уровня активности эндогенной холо-транскетолазы в ответ на введение В1 (рис. 2), что хорошо согласуется с его снижением при наблюдении отдельных пациенток во времени (рис. 1). Снижение эндогенной холо-транскетолазы сопровождалось снижением активности общей транскетолазы у пациентов с ШМТ после приема B1 (рис. 2; p = 0,11), причем оба снижения были гораздо более значимыми при анализе с учетом парных измерений (RM-ANOVA), примененному отдельно к группе ШМТ (рис. П2 в Приложении).
У пациентов с ШМТ наблюдался более узкий интервал без высоких значений уровня ТДФ в крови (90–230 мкМ) по сравнению с контрольной группой (100–370 мкМ). Эта особенность могла способствовать большей статистической значимости ответа пациентов на введение B1 (p = 0,002) по сравнению с ответом в контрольной группе (p = 0,02). Примечательно, что в обеих группах при приеме тиамина был выявлен широкий интервал уровней ТДФ в крови (рис. 2), хотя пациенты с ШМТ принимали более высокие дозы витамина B1 (100 мг тиамина, 150 мг бенфотиамина или 200 мг сульбутиамина; табл. 1), чем контрольная группа (витаминные комплексы, содержащие 1,5–50 мг В1; табл. 1). Это указывает на то, что анализируемые уровни активной коферментной формы тиамина, т.е. ТДФ, регулируются не только доступностью и клеточной проницаемостью вводимых предшественников ТДФ, но также и отдельными компонентами тиамин-зависимой сети реакций, включая в первую очередь биосинтез ТДФ, тесно связанный с транспортом тиамина/ТДФ.
Средние уровни активности эндогенной холо-транскетолазы или общей транскетолазы статистически не различались в двух группах ни до, ни после введения витамина B1 (рис. 2). Однако анализ активации транскетолазы ТДФ в каждом образце с помощью RM-ANOVA выявил статистически значимый эффект только в контрольной группе (рис. 3). Этот эффект был связан с сильно варьирующей долей эндогенной холо-транскетолазы в контрольной группе (рис. 3), что хорошо согласуется с более высокой вариабельностью уровня ТДФ в ней по сравнению с группой ШМТ (рис. 2). Примечательно, что в контрольной группе, принимающей содержащие витамин B1 препараты, активация транскетолазы ТДФ оставалась значимой (рис. 3).
Таким образом, активация транскетолазы ТДФ была статистически значимой только в контрольной группе, тогда как уровень активности эндогенной холо-транскетолазы снижался в ответ на введение витамина В1 только у пациентов с ШМТ. В результате мы обнаружили различную регуляцию транскетолазы тиамином у пациентов с ШМТ, по сравнению с участниками контрольной группы, проявляющуюся в виде отсутствия апоформы транскетолазы и снижения транскетолазной активности в ответ на введение витамина B1 при ШМТ, но не у контрольной группы. Указанные изменения были связаны с увеличением силы мышц-сгибателей пальцев кистей у всех исследованных пациентов с ШМТ после введения витамина В1 (рис. 4), что подтверждается результатами наблюдения во времени трех пациенток с ШМТ1А (рис. 1).
Рис. 4. Изменения силы мышц-сгибателей пальцев кистей у пациентов с ШМТ, принимающих витамин В1. Для каждого пациента показаны данные для правой и левой кистей. Закрашенные и пустые символы обозначают силу, измеренную до приема витамина и при максимальном уровне ТДФ в крови в период приема тиамина соответственно. Данные о пациентах женского пола (n = 6; пациенты 1–3, 5, 10, 13; таблица П1 в Приложении) и пациентах мужского пола (n = 2; пациенты 8, 14; таблица П1 в Приложении) показаны черными и серыми символами соответственно. Статистическую значимость определяли с помощью парного критерия Манна–Уитни
Корреляции силы мышц-сгибателей пальцев кистей с параметрами тиаминового статуса в крови пациентов с ШМТ с учетом пола. Учитывая физиологические половые различия в силе мышц-сгибателей пальцев кистей, ее корреляции с параметрами, характеризующими тиаминовый статус в крови, были проанализированы отдельно для пациентов мужского и женского пола, не принимавших тиамин (рис. 5). У пациентов мужского пола сила мышц-сгибателей пальцев кистей показала статистически значимую положительную корреляцию Спирмена с уровнем ТДФ (рис. 5, а) и значимые отрицательные корреляции с активностями эндогенной холо-транскетолазы и общей транскетолазы (рис. 5, б и в). Корреляция силы мышц-сгибателей пальцев кистей с фракцией апо-транскетолазы у пациентов-мужчин с ШМТ не достигла статистической значимости (рис. 5, г), хотя ее положительная направленность хорошо согласуется с отрицательной корреляцией силы с активностью эндогенной холо-транскетолазы (рис. 5, б). Напротив, у женщин с ШМТ, не принимающих витамин B1, никакие корреляции с силой сжатия не были статистически значимыми (рис. 5, a–г).
Рис. 5. Корреляция силы мышц-сгибателей пальцев рук с показателями тиаминового статуса в крови пациентов с ШМТ. Графики в верхней и нижней строках соответствуют пациентам женского (n = 7) и мужского (n = 6) пола. Анализируемые параметры включают: уровень ТДФ (а); активность эндогенной холо-транскетолазы (холо-ТК) (б); активность общей транскетолазы (ТК) (в); долю эндогенного апофермента в общей ТК (апо-ТК, %) (г). Закрашенные и пустые символы соответствуют правой и левой руке соответственно. Коэффициенты корреляции Спирмена (rS) и p-значения (p) показаны на графиках. Параметры корреляций с p ≤ 0,05 выделены жирным шрифтом и сопровождаются сплошными линиями тренда, а незначимые корреляции показаны пунктирными линиями тренда
Таким образом, корреляционный анализ показал, что у мужчин с ШМТ более высокая сила мышц-сгибателей пальцев кистей ассоциирована с более высоким уровнем ТДФ (рис. 5, а), но более низким уровнем активности транскетолазы (рис. 5, б и в). Ввиду отрицательной корреляции между активностью транскетолазы в крови и силой у мужчин с ШМТ (рис. 5, б и в), практически полное насыщение транскетолазы ТДФ у всех пациентов ШМТ по сравнению с контрольной группой (рис. 3, эндогенная фракция холо-транскетолазы), по-видимому, является одним из признаков патологии.
Разная взаимосвязь между показателями тиаминового статуса крови в контрольной группе и у пациентов с ШМТ. Ранее нами была показана более высокая дискриминационная способность корреляционного анализа по сравнению со средними уровнями параметров [35, 50–52]. Поэтому мы провели корреляционный анализ между параметрами статуса тиамина у пациентов с ШМТ и контрольной группы, чтобы выявить различия, обусловленные заболеванием. Учитывая описанные выше половые различия, корреляционный анализ проводился отдельно у мужчин и женщин. Как видно из табл. 3, эти зависящие от пола корреляции подтверждают представление о том, что определенные параметры тиаминового статуса связаны с полом, аналогично корреляциям с силой мышц-сгибателей пальцев кистей (рис. 4). У женщин контрольной группы (табл. 3, нижний левый угол) активность эндогенной холо-транскетолазы показывает очень сильную корреляцию с активностью общей транскетолазы. С учетом умеренных корреляций активности эндогенной холо-транскетолазы с ТДФ и фракции эндогенной апо-транскетолазы с активностью общей транскетолазы корреляционный анализ показывает, что у здоровых женщин насыщение транскетолазы ТДФ в большей степени определяется экспрессией транскетолазы, чем уровнем ТДФ. В отличие от женщин, у мужчин контрольной группы (табл. 3, верхний правый угол) наблюдается отрицательная корреляция фракции апо-транскетолазы с уровнем ТДФ (р = 0,058) и отсутствуют корреляции апо- или холофермента транскетолазы с общей активностью фермента. В целом, эти результаты указывают на более высокий вклад уровня ТДФ в крови в насыщение транскетолазы коферментом у здоровых мужчин. Так, у здоровых мужчин повышенные уровни ТДФ в крови коррелируют со снижением фракции апо-транскетолазы, а у женщин эта фракция не коррелирует с уровнем ТДФ.
Таблица 3. Влияние пола на корреляции параметров тиаминового статуса в крови здоровых контролей (Контр.) и у пациентов с ШМТ (ШМТ), не принимающих тиамин
Контроль | Пациенты с ШМТ | ||||||||
М, Контр. Ж, Контр. | ТДФ | Активность эндогенной холо-ТК | Активность общей ТК | Фракция эндогенной апо-ТК | М, ШМТ Ж, ШМТ | ТДФ | Активность эндогенной холо-ТК | Активность общей ТК | Фракция эндогенной апо-ТК |
ТДФ | 0,257 0,658 | –0,429 0,419 | –0,829 0,058 | ТДФ | –0,714 0,136 | –0,714 0,136 | 0,609 0,206 | ||
Активность эндогенной холо-ТК | 0,503 0,099 | 0,543 0,297 | –0,600 0,242 | Активность эндогенной холо-ТК | 0,024 0,977 | 1,000 0,003 | –0,058 0,933 | ||
Активность общей ТК | 0,266 0,404 | 0,888 0,000 | 0,314 0,564 | Активность общей ТК | 0,119 0,793 | 0,929 0,002 | –0,058 0,933 | ||
Фракция эндогенной апо-ТК | 0,007 0,991 | 0,357 0,256 | 0,545 0,071 | Фракция эндогенной апо-ТК | –0,643 0,096 | 0,143 0,752 | 0,286 0,501 | ||
Примечание. Сравниваются женщины (Ж, n = 12 и n = 8 в контрольной и ШМТ группах соответственно) и мужчины (М, n = 6 и в контрольной, и в ШМТ группах). Верхние и нижние значения в каждой ячейке представляют собой коэффициенты корреляции Спирмена и их p-значения соответственно. Достоверные корреляции (p ≤ 0,05) выделены темно-серым цветом, тренды (0,05 < p ≤ 0,15) – светло-серым. ТК – транскетолаза.
У пациентов с ШМТ соотношение компонентов тиаминового статуса в крови у женщин и мужчин отличается от такового в контрольных группах (табл. 3). Корреляция между активностями общей транскетолазы и эндогенной холо-транскетолазы становится достоверной не только у женщин, но и у мужчин с ШМТ, сопровождаясь сдвигом других корреляций по сравнению с наблюдаемыми у контролей. Так, у пациенток с ШМТ умеренная корреляция фракции апо-транскетолазы с активностью общей транскетолазы, свойственная здоровым женщинам, сменяется умеренной отрицательной корреляцией с уровнем ТДФ. С учетом одновременного исчезновения у пациенток с ШМТ ассоциации ТДФ с активностью эндогенной холо-транскетолазы, вызванные заболеванием изменения позволяют предположить замещение связи ТДФ с экспрессией транскетолазы у здоровых женщин связью ТДФ с насыщением апо-транскетолазы у женщин с ШМТ. Напротив, связь ТДФ с фракцией апо-транскетолазы у здоровых мужчин при ШМТ заменяется связью ТДФ с уровнем холо-транскетолазы. В результате корреляции между ТДФ и распределением транскетолазы между фракциями апо- и холофермента у женщин с ШМТ сходны с таковыми у мужчин из контрольной группы: в обоих случаях уровень ТДФ отрицательно коррелирует с фракцией эндогенной апо-транскетолазы. И наоборот, корреляции между ТДФ и распределением транскетолазы между фракциями у мужчин с ШМТ сходны с таковыми у женщин из контрольной группы: в обоих случаях уровень ТДФ коррелирует с активностью эндогенной холо-транскетолазы (табл. 3).
В целом, изменившиеся соотношения между показателями тиаминового статуса крови у здоровых людей и пациентов с ШМТ свидетельствуют о том, что, несмотря на сходство средних уровней показателей в двух когортах, сеть тиамин-зависимых процессов при ШМТ нарушена по сравнению со здоровым состоянием.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Суммирование клинических и биохимических эффектов приема тиамина пациентами с ШМТ. Тиаминовый статус в крови принимавших тиамин пациентов с ШМТ характеризовали уровнями коферментной формы тиамина (ТДФ) и активности ТДФ-зависимого фермента транскетолазы, а также распределением транскетолазы между холо- и апоферментом, определяемым по активации транскетолазы добавленным в среду измерения активности ТДФ. Ранее было показано, что эритроцитарный ТДФ является доминирующим компонентом пула тиамина в крови, поэтому уровень ТДФ в цельной крови коррелирует с уровнем ТДФ в эритроцитах [78]. Оба параметра используют в качестве индикаторов поступления тиамина в кровь и возможности насыщения тканей доставляемым кровью тиамином, однако определение ТДФ цельной крови позволяет проводить клиническую характеристику пациентов без дополнительных затрат труда и времени на выделение эритроцитов [78–82]. То же самое касается и транскетолазы, показатели активности которой в цельной крови и эритроцитах совпадали [66, 67]. Действительно, средние уровни активности транскетолазы в нашем исследовании хорошо согласуются с активностями порядка 0,04–0,08 Ед./мл, определяемыми в эритроцитах человека в независимых исследованиях [83–86], хотя распределение активности транскетолазы в этом интервале может различаться в разных когортах [87]. Стоит отметить, что активность транскетолазы увеличивалась с 0,05 до 0,08 Ед./мл при анемии [85] и снижалась примерно на 35% при диабете [86]. Этот порядок изменения активности транскетолазы в крови человека аналогичен наблюдаемому в нашем исследовании.
У трех взрослых пациенток с ШМТ1А различной степени тяжести после приема тиамина наблюдалось заметное улучшение физиологических и неврологических параметров, таких как сила мышц-сгибателей пальцев кистей, живость рефлексов, вибрационная чувствительность и/или точность проведения пальце-носовой пробы (рис. 1; табл. 2 и 4). Сила мышц-сгибателей пальцев кистей была выбрана в качестве надежного и легкодоступного для определения физиологического параметра, позволяющего отслеживать терапевтические эффекты. Преимущества этого подхода, использованного в ряде независимых исследований, включая фармакологические [53–56], были подтверждены в нашем исследовании, которое выявило рост силы мышц-сгибателей пальцев кистей при терапии витамином В1 у всех обследованных пациентов с ШМТ. Помимо статистически значимого увеличения силы мышц-сгибателей пальцев кистей у пациентов с ШМТ после введения B1 (рис. 4), исследование трех клинических случаев ШМТ1А продемонстрировало индивидуальную динамику и комбинацию биохимических и клинических реакций. Различия, по-видимому, не связаны с различными фармакологическими формами и дозами тиамина (рис. П2 в Приложении), а, скорее, соответствуют различным уровням специфических нарушений у пациентов. По сравнению с пациенткой 2, принимавшей сульбутиамин (200 мг), у пациенток 1 и 3, принимавших гидрохлорид тиамина (100 мг), наблюдалось более выраженное повышение уровня ТДФ в крови и более быстрое исчезновение незначительной фракции апо-транскетолазы. Одновременно у пациенток 1 и 3 наблюдалось большее улучшение мышечной силы (в 2–3 раза) по сравнению с пациенткой 2 (30%). Эти различия коррелировали с исходным уровнем нарушений у пациенток, а не с фармакологической формой тиамина. Действительно, до терапии у пациенток 1 и 3 были более низкие уровни ТДФ и большее снижение мышечной силы по сравнению с пациенткой 2 (табл. 4). С другой стороны, аналогичные долгосрочные улучшения и стабилизация уровней ТДФ в крови на более высоких, чем исходные, уровнях наблюдались как у пациентки 2, так и у пациентки 3, принимавших различные дозы и фармакологические формы тиамина. Возможно, что эти долгосрочные эффекты приема витаминных добавок зависели от возраста, поскольку они были более выражены у пациенток 36–37 лет (пациентки 2 и 3) по сравнению с пациенткой 47 лет (пациентка 1). Возрастная зависимость длительных эффектов тиамина может быть связана с возможностями печени по формированию запаса тиамина и уровнем биосинтетической активности организма. Известно, что печень является депо тиамина, поставляющим этот витамин в другие ткани в соответствии с их потребностями в синтезируемом тканями ТДФ [88, 89].
Таблица 4. Сравнение влияния перорального приема тиамина на тиаминовый статус цельной крови и мышечную работоспособность у трех пациенток с ШМТ1
№ | Возраст | Форма, дозировка и длительность приема тиамина | ТДФ (цельная кровь), нМ | Активность ТК, Ед./мл | Эндогенная апо-ТК, % от общей ТК | Сила сжатия кистей, кг | ||||||||
эндогенная холо-ТК | общая ТК | правая кисть | левая кисть | |||||||||||
– | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | |||
1 | 47 | B1*HCl, 100 мг в день, 10 месяцев | 149 ± 2 | 332 ± 8 | 0,075 ± 0,003 | 0,033 ± 0,001 | 0,080 ± 0,003 | 0,033 ± 0,001 | 6 ± 4 | 1 ± 2 | 8,5 | 18 | 4,5 | 9 |
2 | 36 | Энерион, 200 мг в день, 3 месяца | 194 ± 7 | 242 ± 3 | 0,058 ± 0,0003 | 0,035 ± 0,001 | 0,060 ± 0,001 | 0,037 ± 0,001 | 4 ± 7 | 3 ± 2 | 9 | 12,5 | 7 | 7 |
3 | 37 | B1*HCl, 100 мг в день, 2 месяца | 169 ± 17 | 408 ± 37 | 0,034 ± 0,001 | 0,034 ± 0,001 | 0,037 ± 0,001 | 0,033 ± 0,004 | 9 ± 3 | 0 | 8,5 | 9,2 | 4,5 | 12 |
Примечание. Параметры указаны до (–) и после (+) введения витамина В1; форма, дозировка и длительность приема указаны в таблице. ТК – транскетолаза.
Хотя нами не было обнаружено исследований, описывающих влияние витамина B1 на пациентов с ШМТ, клиническое улучшение, наблюдаемое в нашем исследовании, хорошо согласуется с положительным эффектом высоких доз тиамина у пациентов с другими неврологическими расстройствами, включая болезнь Паркинсона [90, 91], болезнь Альцгеймера [92–94], атаксию Фридриха [95, 96], рассеянный склероз [97], эпилепсию [98], черепно-мозговую травму [26], а также в животных моделях этих заболеваний [30, 31, 99–104].
Аналогично вышеупомянутым исследованиям клинического улучшения под действием тиамина, наши результаты показали, что поддержание положительного влияния на уровень ТДФ в крови и силу мышц-сгибателей пальцев кистей требует постоянного введения тиамина. Тем не менее мы также наблюдали и долгосрочные эффекты, особенно по улучшению неврологических симптомов. Например, живость рефлексов у пациентки 1 или вибрационная чувствительность у пациентки 3 продолжали улучшаться после завершения приема витамина. Вполне вероятно, что индуцируемое тиамином прерывание порочного круга постоянно усиливающихся повреждений может стимулировать неврологические функции путем создания условий реабилитации.
Заболевание ШМТ не сопровождается дефицитом тиамина, однако для компенсации сопряженных с заболеванием метаболических нарушений могут быть нужны высокие дозы тиамина. Средние уровни ТДФ, активности транскетолазы или ее распределение между холо- и апоформами не отличаются у пациентов с ШМТ по сравнению с контрольной группой (рис. 2) и не отклоняются от референсных значений, известных из литературы для ТДФ [82, 94, 105–109] и транскетолазы [83–86]. Однако корреляция между уровнем ТДФ в крови и силой мышц-сгибателей пальцев кистей у пациентов мужского пола с ШМТ, не принимающих B1 (рис. 5, а), показывает, что чем больше уровень ТДФ, тем менее нарушена мышечная сила. С учетом положительного эффекта приема тиамина на силу мышц-сгибателей пальцев кистей (рис. 4), сопряженного с повышением основного внутриклеточного производного витамина B1 – его коферментной формы ТДФ – наши результаты свидетельствуют в пользу того, что при ШМТ может требоваться более высокое содержание витамина B1 и/или его производных, чем при нормальном метаболизме. В результате даже при отсутствии у пациентов с ШМТ дефицита тиамина повышенная доступность тиамина может способствовать преодолению патофизиологических изменений.
Очевидно, что тиамин улучшает метаболизм за счет воздействия на ТДФ-зависимые ферменты: митохондриальные дегидрогеназы пирувата, 2-оксоглутарата, 2-оксоадипата и 2-оксокислот с разветвленной цепью, участвующие в генерации энергии из глюкозы и аминокислот, и цитозольную транскетолазу, участвующую в синтезе восстановительных эквивалентов для антиоксидантной защиты. Как генерация энергии, так и антиоксидантная защита нарушаются при различных невропатиях, в том числе ШМТ [8, 28, 30, 31, 110–113]. Некоторые исследования указывают на более высокие энергетические потребности при ходьбе у пациентов с ШМТ, что может быть связано с атрофией мышц и повышенной утомляемостью [114–116]. Эти метаболические особенности физической активности при ШМТ могут требовать более высоких уровней ТДФ у пациентов по сравнению с контрольной группой. В результате введение тиамина пациентам с ШМТ может приводить к увеличению силы мышц-сгибателей пальцев кистей, хотя показатели тиаминового статуса при ШМТ не отличаются от таковых у здоровых людей.
Действительно, в модели нарушения митохондриального метаболизма [117], который, как известно, нарушен и в различных подтипах ШМТ [28, 29, 110, 118], нейроны и мозг in vivo поглощают больше тиамина, что указывает на повышенную потребность в тиамине при метаболическом стрессе. В результате при патологических состояниях могут требоваться дозы тиамина, значительно превышающие те, что достаточны для нормальных физиологических условий. В качестве примера можно привести улучшение реабилитации после введения высоких доз тиамина крысам с тяжелой травмой спинного мозга [30] или наше текущее наблюдение индуцированного тиамином улучшения при ШМТ. При некоторых формах ШМТ, вызванных мутациями ТДФ-зависимых ферментов, таких как киназа пируватдегидрогеназы или 2-оксоадипатдегидрогеназа, ТДФ может напрямую регулировать ферменты для преодоления нарушений их функций [28]. Однако ингибирование ТДФ-зависимой пируватдегидрогеназной реакции при ШМТ может быть опосредовано снижением уровня Са2+ в митохондриях из-за вызываемых патологией актин-зависимых нарушений сайтов контакта между митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом [118]. Поскольку ТДФ является активатором пируватдегидрогеназы, он может частично компенсировать недостаточность функции фермента, вызванную снижением концентрации другого активатора фермента – митохондриального Са2+. Более того, другая Ca2+-активируемая митохондриальная дегидрогеназа, а именно 2-оксоглутаратдегидрогеназа, которая связана с пируватдегидрогеназой через митохондриальный цикл трикарбоновых кислот, также является ТДФ-зависимой. Следовательно, при снижении концентрации митохондриального активатора Са2+ ТДФ может быть альтернативным активатором цикла Кребса, субстрат которого, ацетил-КоА, поставляется пируватдегидрогеназой, а общий поток метаболитов лимитируется 2-оксоглутаратдегидрогеназой. ТДФ-зависимая активация митохондриальной части пути окисления глюкозы может конкурентно снижать митохондриальную деградацию аминокислот в качестве энергетических субстратов, тем самым препятствуя атрофии мышц. Эти явления могут способствовать наблюдаемому физиологическому результату введения тиамина, хотя и не могут быть детектированы при исследовании крови, определяющую массу которой составляют лишенные митохондрий эритроциты.
Пациенты с ШМТ отличаются от контрольной группы по регуляции транскетолазы ТДФ in vitro и тиамином in vivo. Активация транскетолазы ТДФ часто рассматривается как мера уровня ТДФ в крови [78, 79, 81, 119–124]. Это основано на предположении, что снижение уровня ТДФ приводит к повышению доли апо-транскетолазы, т.е. части общей транскетолазы, которая не насыщена ТДФ. Действительно, уровень апо-транскетолазы может повышаться при различных тиамин-дефицитных состояниях, которые в том числе могут наблюдаться у лиц, злоупотребляющих алкоголем, больных малярией и пожилых людей с риском развития тиаминовой недостаточности [81, 125–129]. В нашем исследовании трех клинических случаев женщин с ШМТ фракция апо-транскетолазы, определенная по активации транскетолазы ТДФ, также снижается с увеличением ТДФ при приеме витамина B1 (рис. 1). С другой стороны, эта незначительная фракция апо-транскетолазы не указывает на состояние дефицита тиамина у пациентов с ШМТ, поскольку уровни ТДФ у них находятся в пределах референсного интервала. Более того, фракция апо-транскетолазы более выражена у контрольной группы, где транскетолаза активируется добавлением ТДФ в реакционную среду в большей степени, чем у пациентов с ШМТ (рис. 3). Таким образом, при одинаковых средних уровнях ТДФ (рис. 2) у пациентов с ШМТ наблюдается более высокое насыщение транскетолазы ТДФ, чем у здоровых людей. Отсутствие активации транскетолазы ТДФ у больных ШМТ известно также из независимого исследования [130]. Интересно, что исследование деменции у пожилых пациентов показало, что активация транскетолазы ТДФ выше у пациентов без деменции по сравнению с пациентами с деменцией [120], аналогично нашему наблюдению пациентов с невропатией ШМТ по сравнению с контрольной группой (рис. 3).
Более того, при приеме витамина B1 ТДФ крови в группе ШМТ и в контрольной группе растет сходным образом (рис. 2). Тем не менее, несмотря на значимое повышение уровня ТДФ, в контрольной группе сохраняется статистически достоверная активация транскетолазы ТДФ (рис. 3). Полученные данные позволяют предположить, что этот тип регуляции транскетолазы не обязательно является показателем дефицита тиамина, но также присущ нормальному метаболизму. Важность этой латентной транскетолазы особенно очевидна у мужчин с ШМТ, для которых показана сильная отрицательная корреляция силы мышц-сгибателей пальцев кистей с активностями эндогенной холо-транскетолазы и общей транскетолазы, тогда как корреляция силы рук с фракцией апо-транскетолазы (rS = 0,4, p = 0,2) положительна (рис. 5, мужчины с ШМТ).
В результате имеющиеся данные указывают на то, что насыщение транскетолазы ТДФ контролируется не только уровнем ТДФ, демонстрируя в очередной раз уже известные ограничения в использовании активации транскетолазы ТДФ в качестве меры уровня этого кофермента внутри клеток [87, 131]. В частности, более высокое насыщение транскетолазы ТДФ может наблюдаться при неврологических заболеваниях, как показано нами (рис. 3) и в независимом исследовании [120]. Очевидно, что насыщение транскетолазы ТДФ зависит и от других регуляторных механизмов, дополняющих регуляторное действие внутриклеточного ТДФ. Корреляции между уровнями эндогенной холо-транскетолазы и общей транскетолазы (табл. 3) свидетельствуют о том, что экспрессия транскетолазы может быть одним из таких механизмов. Действительно, согласно закону действующих масс, образование комплекса между транскетолазой и ТДФ зависит от концентраций обоих компонентов, т.е. как ТДФ, так и транскетолазы. Различное сродство транскетолазы к ТДФ также может регулироваться посттрансляционными модификациями. Многочисленные варианты эритроцитарной транскетолазы, идентифицируемые с помощью изоэлектрического фокусирования, различаются по своему сродству к ТДФ [131]. Показано, что при синдроме Вернике–Корсакова транскетолаза фибробластов обладает пониженным сродством к ТДФ по сравнению со здоровыми контролями [132], что может быть связано с посттрансляционными модификациями [133]. Известно, что фосфорилирование [134] и ацилирование [65, 135] являются функционально важными для транскетолазы, что свидетельствует о роли посттрансляционных модификаций в ее регуляции. Часто такие модификации изменяются при патологиях, что может также влиять на сродство фермента к ТДФ и насыщение фермента ТДФ.
Помимо статистически значимой активации исследуемой транскетолазы ТДФ лишь в контрольной группе (рис. 3), у контрольных пациентов не наблюдается снижение активности фермента в ответ на прием витамина В1, которое демонстрируют пациенты с ШМТ (рис. 2), предоставляя дополнительное свидетельство разной регуляции транскетолазы тиамином у здоровых людей и пациентов с ШМТ. Такое подавление активности фермента при введении тиамина хорошо выражено при наблюдении трех пациенток с ШMT1А (рис. 1). Снижение активности общей транскетолазы в ответ на введение В1 может быть опосредовано регуляцией экспрессии генов тиамином/ТДФ [136, 137]. Отрицательная регуляция может быть связана с многогранной ролью тиамина/ТДФ в антиоксидантной защите и целостности ДНК (см. обзор Contestabile et al. [138]). Не исключены и изменения метаболома хозяина посредством ТДФ-рибопереключателя у кишечной микробиоты человека [139].
Таким образом, пациентам с ШMT присуща иная регуляция транскетолазы ТДФ и его предшественником тиамином in vivo, по сравнению с контрольной группой, хотя средние уровни ТДФ, транскетолазы или распределение фермента между апо- и холоформами существенно не отличаются от значений в контрольной группе (рис. 2). Отсутствие у пациентов с ШMT латентной (апо-) формы транскетолазы, которая может активироваться ТДФ при повышенных метаболических потребностях, например, при мышечном сокращении, может вносить вклад в известное снижение физической работоспособности и повышенную утомляемость при ШMT.
Связанные с полом изменения корреляций между параметрами тиаминового статуса крови у пациентов с ШМТ по сравнению со здоровыми людьми. Роль регуляции транскетолазы коферментом ТДФ в норме и при невропатии ШMT дополнительно подтверждается корреляционным анализом параметров тиаминового статуса у здоровых людей и пациентов с ШMT. Выявленные половые различия в этих корреляциях могут лежать в основе как физиологической зависимости силы мышц-сгибателей пальцев кистей от пола, так и изменений взаимоотношений между транскетолазой и ТДФ при ШMT (табл. 3). Действительно, наши результаты показывают, что женщины контрольной группы обладают механизмами, позволяющими сохранять значительную часть транскетолазы в апоформе даже при высокой активности общей транскетолазы и достаточном уровне ТДФ. Напротив, уровень апо-транскетолазы у контрольных мужчин в большей степени определяется уровнем ТДФ. Эти взаимосвязи меняются при ШMT, когда фракция апо-транскетолазы становится сильнее связанной с ТДФ у пациентов-женщин, в то время как пациенты-мужчины приобретают механизмы, приводящие к снижению активностей общей транскетолазы и ее эндогенной холоформы с повышением ТДФ.
Зависимость изменений корреляций между параметрами тиаминового статуса при заболевании ШMT от пола, показанная в табл. 3, подтверждает наблюдение о том, что выраженные корреляции силы мышц-сгибателей пальцев кистей с ТДФ (положительные) и транскетолазой (отрицательные) наблюдаются у мужчин, но не у женщин, страдающих ШMT (рис. 5). Возможно, что у пациенток с ШMT влияние ТДФ на силу мышц-сгибателей пальцев кистей в большей степени опосредовано другими ТДФ-зависимыми ферментами. В частности, существуют специфические для пола различия в экспрессии ферментов ТДФ-зависимого пируватдегидрогеназного комплекса и его киназы [140, 141].
Наши данные о половом диморфизме механизмов регуляции транскетолазы тиамином согласуются с известными из независимых исследований половыми различиями в метаболизме тиамина. В частности, в разных популяциях потребление тиамина у здоровых мужчин было выше, чем у женщин [68, 142, 143]. Данная особенность, подкрепленная различиями в других тиамин-зависимых процессах и их регуляции [140, 141], может вносить вклад не только в более высокую мышечную силу мужчин, по сравнению с женщинами, но также и в зависимые от пола корреляции между параметрами тиаминового статуса как в контрольной группе, так и у пациентов с ШMT (табл. 3). У пожилых людей потребление тиамина обоими полами снижается, но у женщин с деменцией потребление тиамина ниже, чем у женщин контрольной группы [120]. В модели приматов транскетолаза эритроцитов и ее насыщение ТДФ изменяются в течение менструального цикла [119]. Эти особенности метаболизма тиамина, связанные с полом и заболеванием, хорошо согласуются с нашими выводами о том, что корреляции между различными параметрами тиаминового статуса крови зависят от пола и по-разному меняются у пациентов-мужчин и пациентов-женщин при ШМТ (табл. 3). В этой связи стоит отметить, что различное взаимодействие между компонентами тиамин-зависимой сети белков и метаболитов может определяться не только изучаемыми параметрами крови и другими ТДФ-зависимыми ферментами, но и белками, использующими тиамин или его производные в качестве некоферментных регуляторов, включая белки, участвующие в нейротрансмиссии [21, 144].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем исследовании показано, что тиамин или его фармакологические формы улучшают клинические показатели у пациентов с ШМТ. Таким образом, пероральный прием высоких доз тиамина может быть рекомендован в качестве поддерживающей терапии при невропатии ШМТ. Положительная взаимосвязь между уровнем ТДФ в крови и силой мышц-сгибателей пальцев кистей у пациентов с ШMT дополняет предыдущие сообщения о благоприятном влиянии тиамина при других невропатиях. Ответы транскетолазы крови на добавление ТДФ в среду измерения активности и введение тиамина in vivo изменяются при ШMT по сравнению со здоровым состоянием. Корреляции между различными параметрами, характеризующими тиаминовый статус в крови людей, показывают зависящие от пола изменения в системе процессов с участием тиамина у пациентов с ШМТ по сравнению с контрольной группой. В результате представленного пилотного исследования выявлены ранее неизвестные биохимические маркеры изменений в ТДФ-зависимом метаболизме при ШМТ, что открывает путь к дальнейшему полномасштабному исследованию клинических улучшений у пациентов с ШМТ при приеме витамина В1 и его производных.
Вклад авторов. Все авторы внесли свой вклад в методологию исследования. Использованные в исследовании материалы предоставили О.Н.С., Н.В.Б. и О.П.С. Данные были собраны О.Н.С. и О.П.С., проанализированы и визуализированы А.В.А., А.В.Г. и В.И.Б. Текст статьи был написан В.И.Б. на основе подготовленного А.В.А. описания результатов исследования клинических случаев и проведенного В.И.Б. и А.В.Г. анализа результатов по выборке пациентов ШМТ и контрольных участников. Все авторы прочитали и одобрили финальную версию манускрипта.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-54-7804 под руководством А.В.Г.) и государственной темы АААА-А19-119042590056-2.
Благодарности. Авторы выражают благодарность персоналу МОНИКИ, участвовавшему в обслуживании пациентов и проведении медицинских обследований.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
Соблюдение этических норм. Данное исследование было проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации и одобрено Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом имени М.Ф. Владимирского (Протокол № 17 от 10.12.2020). Письменное информированное согласие было получено от всех участников, включенных в исследование.
Дополнительные материалы. Приложение к статье опубликовано на сайте журнала «Биохимия» (https://biochemistrymoscow.com).
About the authors
A. V. Artiukhov
Lomonosov Moscow State University; Sechenov University
Email: bunik@belozersky.msu.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
O. N. Solovjeva
Lomonosov Moscow State University
Email: bunik@belozersky.msu.ru
Russian Federation, Moscow
N. V. Balashova
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Research and Clinical Institute; RUDN
Email: bunik@belozersky.msu.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
O. P. Sidorova
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Research and Clinical Institute
Email: bunik@belozersky.msu.ru
Russian Federation, Moscow
A. V. Graf
Lomonosov Moscow State University
Email: bunik@belozersky.msu.ru
Russian Federation, Moscow
V. I. Bunik
Lomonosov Moscow State University; Sechenov University
Author for correspondence.
Email: bunik@belozersky.msu.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Saporta, M. A. (2014) Charcot–Marie–Tooth disease and other inherited neuropathies, Continuum (Minneap Minn), 20, 1208-1225, https://doi.org/10.1212/01.CON.0000455885.37169.4c.
- Nagappa, M., Sharma, S., and Taly, A. B. (2023) Charcot–Marie–Tooth Disease, in StatPearls, StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), pp. 1-31.
- Pareyson, D., and Marchesi, C. (2009) Diagnosis, natural history, and management of Charcot–Marie–Tooth disease, Lancet Neurol., 8, 654-667, https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70110-3.
- Rossor, A. M., Polke, J. M., Houlden, H., and Reilly, M. M. (2013) Clinical implications of genetic advances in Charcot–Marie–Tooth disease, Nat. Rev. Neurol., 9, 562-571, https://doi.org/10.1038/nrneurol.2013.179.
- Saporta, M. A., and Shy, M. E. (2013) Inherited peripheral neuropathies, Neurol. Clin., 31, 597-619, https://doi.org/ 10.1016/j.ncl.2013.01.009.
- Shy, M. E., Blake, J., Krajewski, K., Fuerst, D. R., Laura, M., Hahn, A. F., Li, J., Lewis, R. A., and Reilly, M. (2005) Reliability and validity of the CMT neuropathy score as a measure of disability, Neurology, 64, 1209-1214, https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000156517.00615.A3.
- Gess, B., Baets, J., De Jonghe, P., Reilly, M. M., Pareyson, D., and Young, P. (2015) Ascorbic acid for the treatment of Charcot–Marie–Tooth disease, Cochrane Database Syst. Rev., 2015, CD011952, https://doi.org/10.1002/14651858.CD011952.
- Baets, J., De Jonghe, P., and Timmerman, V. (2014) Recent advances in Charcot–Marie–Tooth disease, Curr. Opin. Neurol., 27, 532-540, https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000131.
- Estévez-Arias, B., Carrera-García, L., Nascimento, A., Cantarero, L., Hoenicka, J., and Palau, F. (2022) Genetic approaches and pathogenic pathways in the clinical management of Charcot–Marie–Tooth disease, J. Translat. Genetics Genomics, 114, 333-352, https://doi.org/10.20517/jtgg.2022.04.
- Higuchi, Y., and Takashima, H. (2023) Clinical genetics of Charcot–Marie–Tooth disease, J. Hum. Genet., 68, 199-214, https://doi.org/10.1038/s10038-022-01031-2.
- Skre, H. (1974) Genetic and clinical aspects of Charcot–Marie–Tooth’s disease, Clin. Genet., 6, 98-118, https:// doi.org/10.1111/j.1399-0004.1974.tb00638.x.
- Kurihara, S., Adachi, Y., Wada, K., Awaki, E., Harada, H., and Nakashima, K. (2002) An epidemiological genetic study of Charcot–Marie–Tooth disease in Western Japan, Neuroepidemiology, 21, 246-250, https://doi.org/ 10.1159/000065643.
- Braathen, G. J. (2012) Genetic epidemiology of Charcot–Marie–Tooth disease, Acta Neurol. Scand. Suppl., 193, iv-22, https://doi.org/10.1111/ane.12013.
- Barreto, L. C., Oliveira, F. S., Nunes, P. S., de Franca Costa, I. M., Garcez, C. A., Goes, G. M., Neves, E. L., de Souza Siqueira Quintans, J., and de Souza Araujo, A. A. (2016) Epidemiologic study of Charcot–Marie–Tooth disease: a systematic review, Neuroepidemiology, 46, 157-165, https://doi.org/10.1159/000443706.
- Pfeiffer, G., Wicklein, E. M., Ratusinski, T., Schmitt, L., and Kunze, K. (2001) Disability and quality of life in Charcot–Marie–Tooth disease type 1, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 70, 548-550, https://doi.org/10.1136/jnnp.70.4.548.
- Reilly, M. M. (1998) Genetically determined neuropathies, J. Neurol., 245, 6-13, https://doi.org/10.1007/s004150050167.
- Li, J., Parker, B., Martyn, C., Natarajan, C., and Guo, J. (2013) The PMP22 gene and its related diseases, Mol. Neurobiol., 47, 673-698, https://doi.org/10.1007/s12035-012-8370-x.
- Huxley, C., Passage, E., Robertson, A. M., Youl, B., Huston, S., Manson, A., Saberan-Djoniedi, D., Figarella-Branger, D., Pellissier, J. F., Thomas, P. K., and Fontes, M. (1998) Correlation between varying levels of PMP22 expression and the degree of demyelination and reduction in nerve conduction velocity in transgenic mice, Hum. Mol. Genet., 7, 449-458, https://doi.org/10.1093/hmg/7.3.449.
- Inoue, K., Dewar, K., Katsanis, N., Reiter, L. T., Lander, E. S., Devon, K. L., Wyman, D. W., Lupski, J. R., and Birren, B. (2001) The 1.4-Mb CMT1A duplication/HNPP deletion genomic region reveals unique genome architectural features and provides insights into the recent evolution of new genes, Genome Res., 11, 1018-1033, https:// doi.org/10.1101/gr.180401.
- Maeda, K., Kaji, R., Yasuno, K., Jambaldorj, J., Nodera, H., Takashima, H., Nakagawa, M., Makino, S., and Tamiya, G. (2007) Refinement of a locus for autosomal dominant hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominancy (HMSN-P) and genetic heterogeneity, J. Hum. Genet., 52, 907-914, https://doi.org/10.1007/s10038007-0193-7.
- Aleshin, V. A., Mkrtchyan, G. V., and Bunik, V. I. (2019) Mechanisms of non-coenzyme action of thiamine: protein targets and medical significance, Biochemistry (Moscow), 84, 829-850, https://doi.org/10.1134/S0006297919080017.
- Bunik, V. I., and Aleshin, V. A. (2017) Analysis of the protein binding sites for thiamin and its derivatives to elucidate molecular mechanisms of the non-coenzyme action of thiamin (vitamin B1), Studies Nat. Products Chem., 53, 375-429, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63930-1.00011-9.
- Sambon, M., Wins, P., and Bettendorff, L. (2021) Neuroprotective effects of thiamine and precursors with higher bioavailability: focus on benfotiamine and dibenzoylthiamine, Int. J. Mol. Sci., 22, 5418, https://doi.org/ 10.3390/ijms22115418.
- Sechi, G. P., Bardanzellu, F., Pintus, M. C., Sechi, M. M., Marcialis, M. A., and Fanos, V. (2021) Thiamine as a possible neuroprotective strategy in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy, Antioxidants (Basel), 11, 42, https://doi.org/10.3390/antiox11010042.
- Bunik, V. I. (2014) Benefits of thiamin (vitamin B1) administration in neurodegenerative diseases may be due to both the coenzyme and non-coenzyme roles of thiamin, J. Alzheimers Dis. Parkinsonism, 4, 173-177, https://doi.org/10.4172/2161-0460.1000173.
- Husn, M., Amin, Z., Ali, Y., Kanwal, L., Sabir, K., Shah, S. A., and Shah, S. F. (2023) Neuroprotective effects of vitamin B1 on memory impairment and suppression of pro-inflammatory cytokines in traumatic brain injury, Metab. Brain Dis., 38, 2175-2184, https://doi.org/10.1007/s11011-023-01245-z.
- Azzedine, H., Senderek, J., Rivolta, C., and Chrast, R. (2012) Molecular genetics of Charcot–Marie–Tooth disease: from genes to genomes, Mol. Syndromol., 3, 204-214, https://doi.org/10.1159/000343487.
- Bunik, V. (2023) The therapeutic potential of vitamins B1, B3 and B6 in Charcot–Marie–Tooth disease with the compromised status of vitamin-dependent processes, Biology, 12, 897, https://doi.org/10.3390/ biology12070897.
- Schiavon, C. R., Shadel, G. S., and Manor, U. (2021) Impaired mitochondrial mobility in Charcot-Marie-Tooth disease, Front. Cell Dev. Biol., 9, 624823, https://doi.org/10.3389/fcell.2021.624823.
- Boyko, A., Tsepkova, P., Aleshin, V., Artiukhov, A., Mkrtchyan, G., Ksenofontov, A., Baratova, L., Ryabov, S., Graf, A., and Bunik, V. (2021) Severe spinal cord injury in rats induces chronic changes in the spinal cord and cerebral cortex metabolism, adjusted by thiamine that improves locomotor performance, Front. Mol. Neurosci., 14, 620593, https://doi.org/10.3389/fnmol.2021.620593.
- Mkrtchyan, G. V., Ucal, M., Mullebner, A., Dumitrescu, S., Kames, M., Moldzio, R., Molcanyi, M., Schaefer, S., Weidinger, A., Schaefer, U., Hescheler, J., Duvigneau, J. C., Redl, H., Bunik, V. I., and Kozlov, A. V. (2018) Thiamine preserves mitochondrial function in a rat model of traumatic brain injury, preventing inactivation of the 2-oxoglutarate dehydrogenase complex, Biochim. Biophys. Acta, 1859, 925-931, https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2018.05.005.
- Weidinger, A., Milivojev, N., Hosmann, A., Duvigneau, J. C., Szabo, C., Toro, G., Rauter, L., Vaglio-Garro, A., Mkrtchyan, G. V., Trofimova, L., Sharipov, R. R., Surin, A. M., Krasilnikova, I. A., Pinelis, V. G., Tretter, L., Moldzio, R., Bayir, H., Kagan, V. E., Bunik, V. I., and Kozlov, A. V. (2023) Oxoglutarate dehydrogenase complex controls glutamate-mediated neuronal death, Redox Biol., 62, 102669, https://doi.org/10.1016/j.redox.2023.102669.
- Gibson, G. E., Hirsch, J. A., Fonzetti, P., Jordan, B. D., Cirio, R. T., and Elder, J. (2016) Vitamin B1 (thiamine) and dementia, Ann. N Y Acad. Sci., 1367, 21-30, https://doi.org/10.1111/nyas.13031.
- Gibson, G. E., Hirsch, J. A., Cirio, R. T., Jordan, B. D., Fonzetti, P., and Elder, J. (2013) Abnormal thiamine-dependent processes in Alzheimer’s disease. Lessons from diabetes, Mol. Cell. Neurosci., 55, 17-25, https://doi.org/10.1016/ j.mcn.2012.09.001.
- Tsepkova, P. M., Artiukhov, A. V., Boyko, A. I., Aleshin, V. A., Mkrtchyan, G. V., Zvyagintseva, M. A., Ryabov, S. I., Ksenofontov, A. L., Baratova, L. A., Graf, A. V., and Bunik, V. I. (2017) Thiamine induces long-term changes in amino acid profiles and activities of 2-oxoglutarate and 2-oxoadipate dehydrogenases in rat brain, Biochemistry (Moscow), 82, 723-736, https://doi.org/10.1134/S0006297917060098.
- Boyko, A., Ksenofontov, A., Ryabov, S., Baratova, L., Graf, A., and Bunik, V. (2017) Delayed influence of spinal cord injury on the amino acids of NO• metabolism in rat cerebral cortex is attenuated by thiamine, Front. Med., 4, 249, https://doi.org/10.3389/fmed.2017.00249.
- Saberi, R., Mirazi, N., Amirahmadi, S., Darbandi, Z. K., Vafaee, F., Rajabian, A., and Hosseini, M. (2023) Ameliorative effects of thiamin on learning behavior and memory dysfunction in a rat model of hypothyroidism: implication of oxidative stress and acetylcholinesterase, Metab. Brain Dis., 38, 2603-2613, https://doi.org/10.1007/s11011-023-01317-0.
- Felhi, R., Sfaihi, L., Charif, M., Frikha, F., Aoiadni, N., Kamoun, T., Lenaers, G., and Fakhfakh, F. (2023) Vitamin B1 deficiency leads to high oxidative stress and mtDNA depletion caused by SLC19A3 mutation in consanguineous family with Leigh syndrome, Metab. Brain Dis., 38, 2489-2497, https://doi.org/10.1007/s11011-023-01280-w.
- Kunzke, T., Buck, A., Prade, V. M., Feuchtinger, A., Prokopchuk, O., Martignoni, M. E., Heisz, S., Hauner, H., Janssen, K. P., Walch, A., and Aichler, M. (2020) Derangements of amino acids in cachectic skeletal muscle are caused by mitochondrial dysfunction, J. Cachexia Sarcopenia Muscle, 11, 226-240, https://doi.org/10.1002/jcsm.12498.
- Penna, F., Ballaro, R., Beltra, M., De Lucia, S., and Costelli, P. (2018) Modulating metabolism to improve cancer-induced muscle wasting, Oxid. Med. Cell. Longev., 2018, 7153610, https://doi.org/10.1155/2018/7153610.
- Calderon-Ospina, C. A., and Nava-Mesa, M. O. (2020) B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin, CNS Neurosci. Ther., 26, 5-13, https://doi.org/10.1111/cns.13207.
- Baltrusch, S. (2021) The role of neurotropic B vitamins in nerve regeneration, Biomed. Res. Int., 2021, 9968228, https://doi.org/10.1155/2021/9968228.
- Gubler, C. J., Johnson, L. R., and Wittorf, J. H. (1970) Yeast transketolase (sedoheptulose-7-phosphate:d-glyceraldehyde-3-phosphate dihydroxyacetonetransferase, EC 2.2.1.1) assay of thiamine diphosphate, Methods Enzymol., 18, 120-125, https://doi.org/10.1016/0076-6879(71)18290-0.
- Kochetov, G. A. (1980) Practice guidelines on biochemistry, 2 ed., Vysshaya shkola, Moscow.
- Tikhomirova, N. K., and Kochetov, G. A. (1990) Purification of transketolase from baker’s yeast by an immunoadsorbent, Biochem. Int., 22, 31-36.
- Solovjeva, O. N. (2002) Isolation and properties of noncovalent complex of transketolase with RNA, Biochemistry (Moscow), 67, 667-671, https://doi.org/10.1023/a:1016198321838.
- Heinrich, C. P., Noack, K., and Wiss, O. (1972) Chemical modification of tryptophan at the binding site of thiamine-pyrophosphate in transketolase from baker’s yeast, Biochem. Biophys. Res. Commun., 49, 1427-1432, https://doi.org/10.1016/0006-291x(72)90498-6.
- Solovjeva, O. N., Selivanov, V. A., Orlov, V. N., and Kochetov, G. A. (2019) Stages of the formation of nonequivalence of active centers of transketolase from baker’s yeast, Mol. Catal., 466, 122-129, https://doi.org/10.1016/ j.mcat.2019.01.00.
- Solari, A., Laura, M., Salsano, E., Radice, D., Pareyson, D., and Group, C.-T. S. (2008) Reliability of clinical outcome measures in Charcot–Marie–Tooth disease, Neuromusc. Disord., 18, 19-26, https://doi.org/10.1016/j.nmd.2007.09.006.
- Escolar, D. M., Henricson, E. K., Mayhew, J., Florence, J., Leshner, R., Patel, K. M., and Clemens, P. R. (2001) Clinical evaluator reliability for quantitative and manual muscle testing measures of strength in children, Muscle Nerve, 24, 787-793, https://doi.org/10.1002/mus.1070.
- Mathiowetz, V., Kashman, N., Volland, G., Weber, K., Dowe, M., and Rogers, S. (1985) Grip and pinch strength: normative data for adults, Arch. Phys. Med. Rehabil., 66, 69-74.
- Sidorova, O. P. (1986) Quantitative assessment of muscle strength in hereditary diseases of the nervous system [in Russian], S. S. Korsakov J. Neurol. Psychiatry, 3, 346-347.
- Videler, A. J., Beelen, A., Aufdemkampe, G., de Groot, I. J., and Van Leemputte, M. (2002) Hand strength and fatigue in patients with hereditary motor and sensory neuropathy (types I and II), Arch. Phys. Med. Rehabil., 83, 1274-1278, https://doi.org/10.1053/apmr.2002.34282.
- Svensson, E., and Hager-Ross, C. (2006) Hand function in Charcot Marie Tooth: test retest reliability of some measurements, Clin. Rehabil., 20, 896-908, https://doi.org/10.1177/0269215506072184.
- Pierzchlewicz, K., Kepa, I., Podogrodzki, J., and Kotulska, K. (2021) Spinal muscular atrophy: the use of functional motor scales in the era of disease-modifying treatment, Child Neurol. Open, 8, 2329048X211008725, https:// doi.org/10.1177/2329048X211008725.
- Wu, J. W., Pepler, L., Maturi, B., Afonso, A. C. F., Sarmiento, J., and Haldenby, R. (2022) Systematic review of motor function scales and patient-reported outcomes in spinal muscular atrophy, Am. J. Phys. Med. Rehabil., 101, 590-608, https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000001869.
- Kim, M., Won, C. W., and Kim, M. (2018) Muscular grip strength normative values for a Korean population from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2014-2015, PLoS One, 13, e0201275, https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0201275.
- James, M. A. (2007) Use of the Medical Research Council muscle strength grading system in the upper extremity, J. Hand. Surg. Am., 32, 154-156, https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2006.11.008.
- Gekht, B. M., Kasatkina, L. F., Samoilov, M. I., and Sanadze, A. G. (1997) Electromyography in diagnostics of neuromuscular disorders, TRTU, Taganrog.
- American Diabetes Association Professional Practice, C. (2022) 12. Retinopathy, neuropathy, and foot care: standards of medical care in diabetes-2022, Diabetes Care, 45, S185-S194, https://doi.org/10.2337/dc22-S012.
- Hilz, M. J., Axelrod, F. B., Hermann, K., Haertl, U., Duetsch, M., and Neundorfer, B. (1998) Normative values of vibratory perception in 530 children, juveniles and adults aged 3-79 years, J. Neurol. Sci., 159, 219-225, https://doi.org/10.1016/s0022-510x(98)00177-4.
- Starostina, E. G. (2017) Diabetic neuropathy: some issues in differential diagnosis and systemic treatment of the pain syndrome, Russ. Med. J., 22, 1665-1676.
- Graf, A., Trofimova, L., Loshinskaja, A., Mkrtchyan, G., Strokina, A., Lovat, M., Tylicky, A., Strumilo, S., Bettendorff, L., and Bunik, V. I. (2013) Up-regulation of 2-oxoglutarate dehydrogenase as a stress response, Int. J. Biochem. Cell Biol., 45, 175-189, https://doi.org/10.1016/j.biocel.2012.07.002.
- De La Haba, G., Leder, I. G., and Racker, E. (1955) Crystalline transketolase from bakers’ yeast: isolation and properties, J. Biol. Chem., 214, 409-426, https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)70978-2.
- Aleshin, V. A., Kaehne, T., Maslova, M. V., Graf, A. V., and Bunik, V. I. (2024) Posttranslational acylations of the rat brain transketolase discriminate the enzyme responses to inhibitors of ThDP-dependent enzymes or thiamine transport, Int. J. Mol. Sci., 25, 917, https://doi.org/10.3390/ijms25020917.
- Ali, M., Gubler, C. J., Al Saleh, J., and Abu Farsak, F. (1987) A comparison of transketolase assay and transketolase and lactate dehydrogenase activity levels in whole blood and red cell hemolysates and in leukocytes, Compar. Biochem. Physiol. B Compar. Biochem., 87, 833-835, https://doi.org/10.1016/0305-0491(87)90397-x.
- Buttery, J. E., and Pannall, P. R. (1985) Kinetic transketolase assay: use of whole-blood hemolysate as the sample, Clin. Chem., 31, 1086, https://doi.org/10.1093/clinchem/31.6.1086.
- Mataix, J., Aranda, P., Sanchez, C., Montellano, M. A., Planells, E., and Llopis, J. (2003) Assessment of thiamin (vitamin B1) and riboflavin (vitamin B2) status in an adult Mediterranean population, Br. J. Nutr., 90, 661-666, https://doi.org/10.1079/bjn2003926.
- Wood, B., Breen, K. J., and Penington, D. G. (1977) Thiamine status in alcoholism, Aust. N Z J Med., 7, 475-484, https://doi.org/10.1111/j.1445-5994.1977.tb03368.x.
- Soukaloun, D., Lee, S. J., Chamberlain, K., Taylor, A. M., Mayxay, M., Sisouk, K., Soumphonphakdy, B., Latsavong, K., Akkhavong, K., Phommachanh, D., Sengmeuang, V., Luangxay, K., McDonagh, T., White, N. J., and Newton, P. N. (2011) Erythrocyte transketolase activity, markers of cardiac dysfunction and the diagnosis of infantile beriberi, PLoS Negl. Trop. Dis., 5, e971, https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000971.
- Jeyasingham, M. D., Pratt, O. E., Burns, A., Shaw, G. K., Thomson, A. D., and Marsh, A. (1987) The activation of red blood cell transketolase in groups of patients especially at risk from thiamin deficiency, Psychol. Med., 17, 311-318, https://doi.org/10.1017/s0033291700024843.
- Jeyasingham, M. D., Pratt, O. E., Shaw, G. K., and Thomson, A. D. (1987) Changes in the activation of red blood cell transketolase of alcoholic patients during treatment, Alcohol Alcohol., 22, 359-365.
- Seear, M., Lockitch, G., Jacobson, B., Quigley, G., and MacNab, A. (1992) Thiamine, riboflavin, and pyridoxine deficiencies in a population of critically ill children, J. Pediatrs., 121, 533-538, https://doi.org/10.1016/s0022-3476(05)81140-0.
- Bailey, A. L., Finglas, P. M., Wright, A. J., and Southon, S. (1994) Thiamin intake, erythrocyte transketolase (EC 2.2.1.1) activity and total erythrocyte thiamin in adolescents, Br. J. Nutr., 72, 111-125, https://doi.org/10.1079/bjn19940014.
- Datta, A. G., and Racker, E. (1961) Mechanism of action of transketolase. II. The substrate-enzyme intermediate, J. Biol. Chem., 236, 624-628, https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)64278-4.
- Kochetov, G. A. (1982) Transketolase from yeast, rat liver, and pig liver, Methods Enzymol., 90 Pt E, 209-223, https://doi.org/10.1016/s0076-6879(82)90128-8.
- Schellenberger, A., and Hubner, G. (1965) On the separation of phosphoric acid esters of thiamine and its analogues by gradient elution [in German], Hoppe Seylers Z. Physiol. Chem., 343, 189-192.
- Talwar, D., Davidson, H., Cooney, J., and St, J. R. D. (2000) Vitamin B(1) status assessed by direct measurement of thiamin pyrophosphate in erythrocytes or whole blood by HPLC: comparison with erythrocyte transketolase activation assay, Clin. Chem., 46, 704-710, https://doi.org/10.1093/clinchem/46.5.704.
- Jones, K. S., Parkington, D. A., Cox, L. J., and Koulman, A. (2021) Erythrocyte transketolase activity coefficient (ETKAC) assay protocol for the assessment of thiamine status, Ann. N Y Acad. Sci., 1498, 77-84, https://doi.org/ 10.1111/nyas.14547.
- Howard, J. M. (2000) Assessment of vitamin B(1) status, Clin. Chem., 46, 1867-1868, https://doi.org/10.1093/clinchem/46.11.1867.
- Baines, M., and Davies, G. (1988) The evaluation of erythrocyte thiamin diphosphate as an indicator of thiamin status in man, and its comparison with erythrocyte transketolase activity measurements, Ann. Clin. Biochem., 25 (Pt 6), 698-705, https://doi.org/10.1177/000456328802500617.
- Lu, J., and Frank, E. L. (2008) Rapid HPLC measurement of thiamine and its phosphate esters in whole blood, Clin. Chem., 54, 901-906, https://doi.org/10.1373/clinchem.2007.099077.
- Himmo, S. D., Thomson, M., and Gubler, C. J. (1988) Isolation of transketolase from human erythrocytes, Prep. Biochem., 18, 261-276, https://doi.org/10.1080/00327488808062528.
- Warnock, L. G., and Prudhomme, C. R. (1982) The isolation and preliminary characterization of apotransketolase from human erythrocytes, Biochem. Biophys. Res. Commun., 106, 719-723, https://doi.org/10.1016/0006-291x(82)91770-3.
- Chong, Y. H., and Ho, G. S. (1973) Erythrocyte transketolase activity and anaemia, Med. J. Malaysia, 28, 113-114.
- Michalak, S., Michalowska-Wender, G., Adamcewicz, G., and Wender, M. B. (2013) Erythrocyte transketolase activity in patients with diabetic and alcoholic neuropathies, Folia Neuropathol., 51, 222-226, https://doi.org/10.5114/fn.2013.37706.
- Jones, K. S., Parkington, D. A., Bourassa, M. W., Cerami, C., and Koulman, A. (2023) Protocol and application of basal erythrocyte transketolase activity to improve assessment of thiamine status, Ann. N Y Acad. Sci., 1521, 104-111, https://doi.org/10.1111/nyas.14962.
- Parkhomenko, Y. M., Kudryavtsev, P. A., Pylypchuk, S. Y., Chekhivska, L. I., Stepanenko, S. P., Sergiichuk, A. A., and Bunik, V. I. (2011) Chronic alcoholism in rats induces a compensatory response, preserving brain thiamine diphosphate, but the brain 2-oxo acid dehydrogenases are inactivated despite unchanged coenzyme levels, J. Neurochem., 117, 1055-1065, https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2011.07283.x.
- Osiezagha, K., Ali, S., Freeman, C., Barker, N. C., Jabeen, S., Maitra, S., Olagbemiro, Y., Richie, W., and Bailey, R. K. (2013) Thiamine deficiency and delirium, Innov. Clin. Neurosci., 10, 26-32.
- Costantini, A., Pala, M. I., Grossi, E., Mondonico, S., Cardelli, L. E., Jenner, C., Proietti, S., Colangeli, M., and Fancellu, R. (2015) Long-term treatment with high-dose thiamine in Parkinson disease: an open-label pilot study, J. Altern. Complement. Med., 21, 740-747, https://doi.org/10.1089/acm.2014.0353.
- Costantini, A., Pala, M. I., Compagnoni, L., and Colangeli, M. (2013) High-dose thiamine as initial treatment for Parkinson’s disease, BMJ Case Rep., 2013, https://doi.org/10.1136/bcr-2013-009289.
- Gibson, G. E., Luchsinger, J. A., Cirio, R., Chen, H., Franchino-Elder, J., Hirsch, J. A., Bettendorff, L., Chen, Z., Flowers, S. A., Gerber, L. M., Grandville, T., Schupf, N., Xu, H., Stern, Y., Habeck, C., Jordan, B., and Fonzetti, P. (2020) Benfotiamine and cognitive decline in Alzheimer’s disease: results of a randomized placebo-controlled phase IIa clinical trial, J. Alzheimers Dis., 78, 989-1010, https://doi.org/10.3233/JAD-200896.
- Pan, X., Fei, G., Lu, J., Jin, L., Pan, S., Chen, Z., Wang, C., Sang, S., Liu, H., Hu, W., Zhang, H., Wang, H., Wang, Z., Tan, Q., Qin, Y., Zhang, Q., Xie, X., Ji, Y., Cui, D., Gu, X., Xu, J., Yu, Y., and Zhong, C. (2016) Measurement of blood thiamine metabolites for Alzheimer’s disease diagnosis, EBioMedicine, 3, 155-162, https://doi.org/10.1016/ j.ebiom.2015.11.039.
- Pan, X., Sang, S., Fei, G., Jin, L., Liu, H., Wang, Z., Wang, H., and Zhong, C. (2017) Enhanced activities of blood thiamine diphosphatase and monophosphatase in Alzheimer’s disease, PLoS One, 12, e0167273, https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0167273.
- Costantini, A., Laureti, T., Pala, M. I., Colangeli, M., Cavalieri, S., Pozzi, E., Brusco, A., Salvarani, S., Serrati, C., and Fancellu, R. (2016) Long-term treatment with thiamine as possible medical therapy for Friedreich ataxia, J. Neurol., 263, 2170-2178, https://doi.org/10.1007/s00415-016-8244-7.
- Costantini, A., Giorgi, R., D’Agostino, S., and Pala, M. I. (2013) High-dose thiamine improves the symptoms of Friedreich’s ataxia, BMJ Case Rep., 2013, https://doi.org/10.1136/bcr-2013-009424.
- Costantini, A., Nappo, A., Pala, M. I., and Zappone, A. (2013) High dose thiamine improves fatigue in multiple sclerosis, BMJ Case Rep., 2013, https://doi.org/10.1136/bcr-2013-009144.
- Botez, M. I., Botez, T., Ross-Chouinard, A., and Lalonde, R. (1993) Thiamine and folate treatment of chronic epileptic patients: a controlled study with the Wechsler IQ scale, Epilepsy Res., 16, 157-163, https://doi.org/10.1016/0920-1211(93)90030-b.
- Aleshin, V. A., Graf, A. V., Artiukhov, A. V., Boyko, A. I., Ksenofontov, A. L., Maslova, M. V., Nogues, I., di Salvo, M. L., and Bunik, V. I. (2021) Physiological and biochemical markers of the sex-specific sensitivity to epileptogenic factors, delayed consequences of seizures and their response to vitamins B1 and B6 in a rat model, Pharmaceuticals (Basel), 14, 737, https://doi.org/10.3390/ph14080737.
- Tapias, V., Jainuddin, S., Ahuja, M., Stack, C., Elipenahli, C., Vignisse, J., Gerges, M., Starkova, N., Xu, H., Starkov, A. A., Bettendorff, L., Hushpulian, D. M., Smirnova, N. A., Gazaryan, I. G., Kaidery, N. A., Wakade, S., Calingasan, N. Y., Thomas, B., Gibson, G. E., Dumont, M., and Beal M. F. (2018) Benfotiamine treatment activates the Nrf2/ARE pathway and is neuroprotective in a transgenic mouse model of tauopathy, Hum. Mol. Genet., 27, 2874-2892, https://doi.org/10.1093/hmg/ddy201.
- Pan, X., Gong, N., Zhao, J., Yu, Z., Gu, F., Chen, J., Sun, X., Zhao, L., Yu, M., Xu, Z., Dong, W., Qin, Y., Fei, G., Zhong, C., and Xu, T. L. (2010) Powerful beneficial effects of benfotiamine on cognitive impairment and beta-amyloid deposition in amyloid precursor protein/presenilin-1 transgenic mice, Brain, 133, 1342-1351, https://doi.org/10.1093/brain/awq069.
- Sambon, M., Gorlova, A., Demelenne, A., Alhama-Riba, J., Coumans, B., Lakaye, B., Wins, P., Fillet, M., Anthony, D. C., Strekalova, T., and Bettendorff, L. (2020) Dibenzoylthiamine has powerful antioxidant and anti-inflammatory properties in cultured cells and in mouse models of stress and neurodegeneration, Biomedicines, 8, 361, https://doi.org/10.3390/biomedicines8090361.
- Markova, N., Bazhenova, N., Anthony, D. C., Vignisse, J., Svistunov, A., Lesch, K. P., Bettendorff, L., and Strekalova, T. (2017) Thiamine and benfotiamine improve cognition and ameliorate GSK-3beta-associated stress-induced behaviours in mice, Progr. Neuro Psychopharmacol. Biol. Psychiatry, 75, 148-156, https://doi.org/10.1016/ j.pnpbp.2016.11.001.
- Zhang, Q., Yang, G., Li, W., Fan, Z., Sun, A., Luo, J., and Ke, Z. J. (2011) Thiamine deficiency increases beta-secretase activity and accumulation of beta-amyloid peptides, Neurobiol. Aging, 32, 42-53, https://doi.org/10.1016/ j.neurobiolaging.2009.01.005.
- Ihara, H., Matsumoto, T., Shino, Y., and Hashizume, N. (2005) Assay values for thiamine or thiamine phosphate esters in whole blood do not depend on the anticoagulant used, J. Clin. Lab. Anal., 19, 205-208, https://doi.org/ 10.1002/jcla.20079.
- Stuetz, W., Carrara, V. I., McGready, R., Lee, S. J., Biesalski, H. K., and Nosten, F. H. (2012) Thiamine diphosphate in whole blood, thiamine and thiamine monophosphate in breast-milk in a refugee population, PLoS One, 7, e36280, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036280.
- Gangolf, M., Czerniecki, J., Radermecker, M., Detry, O., Nisolle, M., Jouan, C., Martin, D., Chantraine, F., Lakaye, B., Wins, P., Grisar, T., and Bettendorff, L. (2010) Thiamine status in humans and content of phosphorylated thiamine derivatives in biopsies and cultured cells, PLoS One, 5, e13616, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013616.
- Lee, B. L., Ong, H. Y., and Ong, C. N. (1991) Determination of thiamine and its phosphate esters by gradientelution high-performance liquid chromatography, J. Chromatogr., 567, 71-80, https://doi.org/10.1016/0378-4347(91)80311-y.
- Gropper, S. A. S., Smith, J. L., and Carr, T. P. (2018) Advanced Nutrition and Human Metabolism, 7th Edn., Cengage Learning, Boston, MA.
- Van Hameren, G., Campbell, G., Deck, M., Berthelot, J., Gautier, B., Quintana, P., Chrast, R., and Tricaud, N. (2019) In vivo real-time dynamics of ATP and ROS production in axonal mitochondria show decoupling in mouse models of peripheral neuropathies, Acta Neuropathol. Commun., 7, 86, https://doi.org/10.1186/s40478-019-0740-4.
- Cassereau, J., Chevrollier, A., Codron, P., Goizet, C., Gueguen, N., Verny, C., Reynier, P., Bonneau, D., Lenaers, G., and Procaccio, V. (2020) Oxidative stress contributes differentially to the pathophysiology of Charcot–Marie–Tooth disease type 2K, Exp. Neurol., 323, 113069, https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2019.113069.
- Espinos, C., Galindo, M. I., Garcia-Gimeno, M. A., Ibanez-Cabellos, J. S., Martinez-Rubio, D., Millan, J. M., Rodrigo, R., Sanz, P., Seco-Cervera, M., Sevilla, T., Tapia, A., and Pallardo, F. V. (2020) Oxidative stress, a crossroad between rare diseases and neurodegeneration, Antioxidants (Basel), 9, 313, https://doi.org/10.3390/antiox9040313.
- Lin, M. T., and Beal, M. F. (2006) Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases, Nature, 443, 787-795, https://doi.org/10.1038/nature05292.
- Ramdharry, G. M., Pollard, A. J., Grant, R., Dewar, E. L., Laura, M., Moore, S. A., Hallsworth, K., Ploetz, T., Trenell, M. I., and Reilly, M. M. (2017) A study of physical activity comparing people with Charcot–Marie–Tooth disease to normal control subjects, Disabil. Rehabil., 39, 1753-1758, https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1211180.
- Ramdharry, G. M., Thornhill, A., Mein, G., Reilly, M. M., and Marsden, J. F. (2012) Exploring the experience of fatigue in people with Charcot–Marie–Tooth disease, Neuromusc. Disord., 22, S208-S213, https://doi.org/10.1016/ j.nmd.2012.10.016.
- Menotti, F., Felici, F., Damiani, A., Mangiola, F., Vannicelli, R., and Macaluso, A. (2011) Charcot-Marie-Tooth 1A patients with low level of impairment have a higher energy cost of walking than healthy individuals, Neuromusc. Disord., 21, 52-57, https://doi.org/10.1016/j.nmd.2010.09.008.
- Mkrtchyan, G., Graf, A., Bettendorff, L., and Bunik, V. (2016) Cellular thiamine status is coupled to function of mitochondrial 2-oxoglutarate dehydrogenase, Neurochem. Int., 101, 66-75, https://doi.org/10.1016/j.neuint.2016.10.009.
- Wolf, C., Pouya, A., Bitar, S., Pfeiffer, A., Bueno, D., Rojas-Charry, L., Arndt, S., Gomez-Zepeda, D., Tenzer, S., Bello, F. D., Vianello, C., Ritz, S., Schwirz, J., Dobrindt, K., Peitz, M., Hanschmann, E. M., Mencke, P., Boussaad, I., Silies, M., Brüstle, O., Giacomello, M., Krüger, R., and Methner, A. (2022) GDAP1 loss of function inhibits the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex by altering the actin cytoskeleton, Commun. Biol., 5, 541, https://doi.org/10.1038/s42003-022-03487-6.
- Boots, L. R., Cornwell, P. E., Donahue, M. A., and Bradley, E. L., Jr. (1983) Vitamin fluctuations in the blood of female baboons in relation to normal menstrual cycles, treatments with Lo-Ovral or Depo-Provera and a selected vitamin supplement, Am. J. Clin. Nutr., 37, 518-531, https://doi.org/10.1093/ajcn/37.4.518.
- Nes, M., Sem, S. W., Rousseau, B., Bjorneboe, G. E., Engedal, K., Trygg, K., and Pedersen, J. I. (1988) Dietary intakes and nutritional status of old people with dementia living at home in Oslo, Eur. J. Clin. Nutr., 42, 581-593.
- Heap, L. C., Peters, T. J., and Wessely, S. (1999) Vitamin B status in patients with chronic fatigue syndrome, J. R. Soc. Med., 92, 183-185, https://doi.org/10.1177/014107689909200405.
- Shaw, N. S., Wang, J. L., Pan, W. H., Liao, P. C., and Yang, F. L. (2007) Thiamin and riboflavin status of Taiwanese elementary schoolchildren, Asia Pacific J. Clin. Nutr., 16 Suppl 2, 564-571.
- Yang, F. L., Liao, P. C., Chen, Y. Y., Wang, J. L., and Shaw, N. S. (2005) Prevalence of thiamin and riboflavin deficiency among the elderly in Taiwan, Asia Pacific J. Clin. Nutr., 14, 238-243.
- Malara, M., Hubner-Wozniak, E., and Lewandowska, I. (2013) Assessment of intake and nutritional status of vitamin b1, b2, and b6 in men and women with different physical activity levels, Biol. Sport, 30, 117-123, https://doi.org/10.5604/20831862.1044430.
- Price, J., Clague, A. E., Kerr, R. A., and Nixon, P. F. (1991) In thiamine deficiency, activation of erythrocyte transketolase by thiamine in vivo exceeds activation by cofactor in vitro, Clin. Chim. Acta, 202, 39-45, https://doi.org/ 10.1016/0009-8981(91)90253-9.
- Taylor, A. J., Talwar, D., Lee, S. J., Cox, L., Mayxay, M., and Newton, P. N. (2020) Comparison of thiamin diphosphate high-performance liquid chromatography and erythrocyte transketolase assays for evaluating thiamin status in malaria patients without beriberi, Am. J. Tropic. Med. Hygiene, 103, 2600-2604, https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0479.
- Herve, C., Beyne, P., Letteron, P., and Delacoux, E. (1995) Comparison of erythrocyte transketolase activity with thiamine and thiamine phosphate ester levels in chronic alcoholic patients, Clin. Chim. Acta, 234, 91-100, https://doi.org/10.1016/0009-8981(94)05980-7.
- Warnock, L. G., Prudhomme, C. R., and Wagner, C. (1978) The determination of thiamin pyrophosphate in blood and other tissues, and its correlation with erythrocyte transketolase activity, J. Nutr., 108, 421-427, https:// doi.org/10.1093/jn/108.3.421.
- Takeuchi, T., Jung, E. H., Nishino, K., and Itokawa, Y. (1990) The relationship between the thiamin pyrophosphate effect and the saturation status of the transketolase with its coenzyme in human erythrocytes, Int. J. Vitam. Nutr. Res., 60, 112-120.
- Switala, K. J., Robinson, N., Sances, A., Jr., Larson, S., Evans, S. M., and Pintar, K. (1977) Serum enzymes in peroneal muscular atrophy (Charcot–Marie–Tooth disease), Wis. Med. J., 76, S4-S6.
- Kaczmarek, M. J., and Nixon, P. F. (1983) Variants of transketolase from human erythrocytes, Clin. Chim. Acta, 130, 349-356, https://doi.org/10.1016/0009-8981(83)90309-1.
- Blass, J. P., and Gibson, G. E. (1977) Abnormality of a thiamine-requiring enzyme in patients with Wernicke–Korsakoff syndrome, New Eng. J. Med., 297, 1367-1370, https://doi.org/10.1056/NEJM197712222972503.
- Martin, P. R., McCool, B. A., and Singleton, C. K. (1995) Molecular genetics of transketolase in the pathogenesis of the Wernicke–Korsakoff syndrome, Metab. Brain Dis., 10, 45-55, https://doi.org/10.1007/BF01991782.
- Saha, A., Connelly, S., Jiang, J., Zhuang, S., Amador, D. T., Phan, T., Pilz, R. B., and Boss, G. R. (2014) Akt phosphorylation and regulation of transketolase is a nodal point for amino acid control of purine synthesis, Mol. Cell, 55, 264-276, https://doi.org/10.1016/j.molcel.2014.05.028.
- Wang, H. L., Chen, Y., Wang, Y. Q., Tao, E. W., Tan, J., Liu, Q. Q., Li, C. M., Tong, X. M., Gao, Q. Y., Hong, J., Chen, Y. X., and Fang, J. Y. (2022) Sirtuin5 protects colorectal cancer from DNA damage by keeping nucleotide availability, Nat. Commun., 13, 6121, https://doi.org/10.1038/s41467-022-33903-8.
- Coles, C. A., Woodman, K. G., Gibbs, E. M., Crosbie, R. H., White, J. D., and Lamande, S. R. (2024) Benfotiamine improves dystrophic pathology and exercise capacity in mdx mice by reducing inflammation and fibrosis, Hum. Mol. Genet., https://doi.org/10.1093/hmg/ddae066.
- Bunik, V. I., Aleshin, V. A., Zhou, X., Tabakov, V. Y., and Karlsson, A. (2020) Activation of mitochondrial 2-oxoglutarate dehydrogenase by cocarboxylase in human lung adenocarcinoma cells A549 Is p53/p21-dependent and impairs cellular redox state, mimicking the cisplatin action, Int. J. Mol. Sci., 21, 3759, https://doi.org/10.3390/ijms21113759.
- Contestabile, R., di Salvo, M. L., Bunik, V., Tramonti, A., and Verni, F. (2020) The multifaceted role of vitamin B(6) in cancer: Drosophila as a model system to investigate DNA damage, Open Biol., 10, 200034, https://doi.org/10.1098/rsob.200034.
- Quarta, G., and Schlick, T. (2024) Riboswitch distribution in the human gut microbiome reveals common metabolite pathways, J. Phys. Chem. B, 128, 4336-4343, https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c00267.
- Christianto, A., Baba, T., Takahashi, F., Inui, K., Inoue, M., Suyama, M., Ono, Y., Ohkawa, Y., and Morohashi, K. I. (2021) Sex differences in metabolic pathways are regulated by Pfkfb3 and Pdk4 expression in rodent muscle, Commun. Biol., 4, 1264, https://doi.org/10.1038/s42003-021-02790-y.
- Vijay, V., Han, T., Moland, C. L., Kwekel, J. C., Fuscoe, J. C., and Desai, V. G. (2015) Sexual dimorphism in the expression of mitochondria-related genes in rat heart at different ages, PLoS One, 10, e0117047, https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0117047.
- Martel, J. L., Kerndt, C. C., Doshi, H., and Franklin, D. S. (2023) Vitamin B1 (Thiamine). in StatPearls, StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), pp. 1-13.
- Institute of Medicine (U.S.). Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes., Institute of Medicine (U.S.). Panel on Folate Other B Vitamins and Choline., and Institute of Medicine (U.S.). Subcommittee on Upper Reference Levels of Nutrients. (1998) Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline, National Academy Press, Washington, D.C.
- Bunik, V. I., Tylicki, A., and Lukashev, N. V. (2013) Thiamin diphosphate-dependent enzymes: from enzymology to metabolic regulation, drug design and disease models, FEBS J., 280, 6412-6442, https://doi.org/10.1111/febs.12512.
Supplementary files