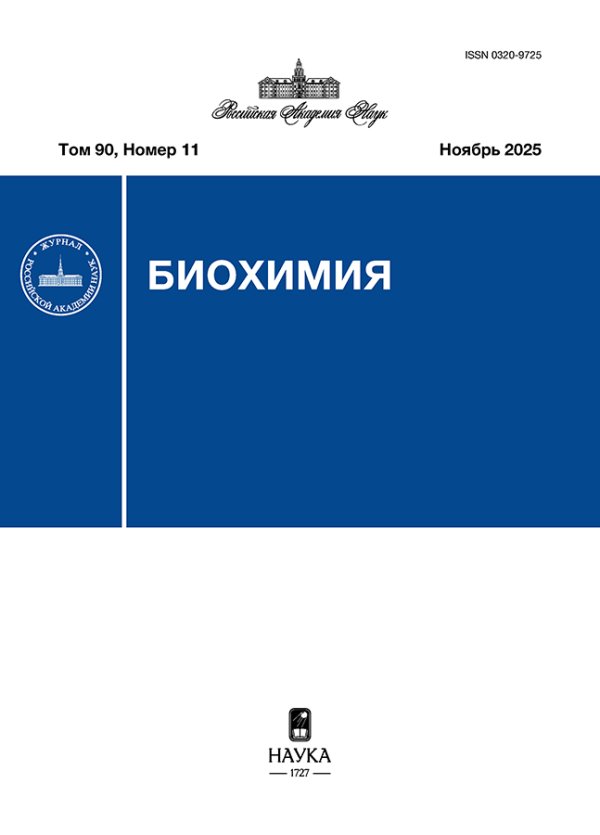Immunology of SARS-CoV-2 infection
- Authors: Gabdoulkhakova A.G.1,2, Mingaleeva R.N.1, Romozanova A.M.1, Sagdeeva A.R.1, Filina Y.V.1, Rizvanov A.A.1,3, Miftakhova R.R.1
-
Affiliations:
- Kazan (Volga region) Federal University
- Kazan State Medical Academy, Branch Campus of the Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy of Continuous Professional Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
- Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan
- Issue: Vol 89, No 1 (2024)
- Pages: 74-93
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0320-9725/article/view/260448
- DOI: https://doi.org/10.31857/10.31857/S0320972524010042
- EDN: https://elibrary.ru/YRLNZE
- ID: 260448
Cite item
Full Text
Abstract
According to WHO data, about 800 million of the world population had contracted a coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 by mid-2023. The properties of this virus allowed it to circulate in the human population for a long time, evolving defense mechanisms against the host immune system. The severity of the disease depends largely on the degree of activation of the systemic immune response, including overstimulation of macrophages and monocytes, cytokine production, and triggering of adaptive T- and B-cell responses while SARS-CoV-2 evading from the immune system action. In the review we discussed the immune responses triggered in response to SARS-CoV-2 virus entry into the cell and the malfunctions of the immune system leading to the development of severe disease.
Full Text
Принятые сокращения: АПК – антигенпрезентирующие клетки; БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж; MHC – главный комплекс гистосовместимости; СВЦ – синдром высвобождения цитокинов; ЭПР – эндоплазматический ретикулум; ACE2 – ангиотензинпревращающий фермент 2; ADE – антителозависимое усиление; RBD – рецептор-связывающий домен; SARS-CoV-2 – коронавирус 2, вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром; ТЕМ – плазматические мембраны, обогащённые тетраспанинами; TMPRSS2 – трансмембранная сериновая протеаза 2.
Введение
В начале 2020 г. мир настигла пандемия нового вирусного заболевания, получившего позже название «КОВИД-19» (от англ. COVID-19, COronaVIrus Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 года). Причиной стало появление нового вида коронавируса SARS-CoV-2. Ранее было описано несколько коронавирусов (CoV), способных заражать людей. Четыре из них, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, были описаны у людей с заболеванием верхних дыхательных путей лёгкой степени тяжести. Три вспышки эпидемий, вызванные коронавирусами, сопровождались тяжёлыми респираторными симптомами, системными осложнениями и значительным уровнем летальности. Первая вспышка, вызванная SARS-CoV-1, возникла в Китае в 2002 г. и затронула несколько стран мира; в 2012 г. в Саудовской Аравии началась очередная вспышка, вызванная MERS-CoV. В декабре 2019 г. в Ухане (Китай) началась третья вспышка, вызванная SARS-CoV-2, который антигенно и генетически подобен SARS-CoV. Благодаря современному уровню развития технологий исследователи практически в режиме реального времени отслеживали, как мутации в геноме SARS-CoV-2 (коронавирус 2, вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром) вели к изменению структуры вирусных белков и влияли на проникновение вируса в клетку, его репликацию и высвобождение. Выявление иммунногенных эпитопов вируса и разработка эффективных методов введения антигена позволили разработать разнообразные вакцины, что поспособствовало остановке эпидемии. Вместе с тем, вероятно, даже сейчас вирус продолжает свою эволюцию, возникают новые мутации, одни из них закрепляются, другие реверсивно меняются. Это модифицирует структуру шипового и других белков вируса SARS-CoV-2, балансируя между повышением аффинности к клеточным белкам-рецепторам, появлением тропизма к новым мишеням и избеганием действия нейтрализующих антител. В нашем обзоре мы объединили разрозненные данные о механизмах проникновения вируса SARS-CoV-2 в клетку и развитии иммунного ответа. Выявленные аминокислотные замены в структуре шипового белка мы разделили на 4 условных кластера: 1) по способности к связыванию с основным рецептором – ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АСЕ2), 2) по доступности шипового белка к расщеплению протеазами, 3) по способности к слиянию с мембранами и 4) по изменению структуры белков для ухода от действия антител. Комбинация приобретённых мутаций определяет вирулентность штамма вируса, но, кроме этого, тяжесть КОВИД-19 зависит от эффективности развития противовирусного иммунного ответа. Нарушения в регуляции иммунного ответа, преобладание интерферонового ответа второго типа и гиперпродукция провоспалительных цитокинов вызывают развитие осложнений вплоть до летальных исходов.
«Входные ворота» вируса, механизм проникновения в клетки
Мишенями SARS-CoV-2 и других бетакоронавирусов являются клетки, несущие на своей поверхности молекулы ACE2: это клетки слизистой оболочки рта и носоглотки, лёгких, желудка, кишечника, лимфатических узлов, костного мозга, тимуса, селезёнки, печени, почек и мозга [1, 2]. Наиболее высокая плотность ACE2 наблюдается на поверхности эпителиальных клеток альвеол и энтероцитов тонкого кишечника, что обусловливает поражение лёгких и развитие гастроэнтероколитов.
На начальном этапе проникновения SARS-CoV-2 в клетку происходит узнавание поверхностного S-белка вируса (шипового белка) рецептором АСЕ2 и прикрепление вируса к мембране. Исключение составляют фагоциты, инфицирование которых может происходить без прямого контакта с вирусом за счёт эффероцитоза (фагоцитоза) инфицированных/апоптотических клеток [3]. Также возможно поглощение опсонизированных вирусных частиц за счёт взаимодействия с Fc-рецепторами [4]. Такой антителозависимый путь проникновения вируса зависит от уровня экспрессии CD16 (FcγRIII). CD16 макрофагов связывает Fc-фрагмент иммуноглобулина G, несущего вирусную частицу [5]. Описан также феномен трансцитоза вирусных частиц SARS-CoV-2 через эпителиальные клетки [4]. Показано, что при низком уровне антител в сыворотке или при их низкой нейтрализующей способности опсонизированные вирусные частицы лучше проникают в клетки через эпителиальный барьер кишечника. Это явление известно под названием антителозависимое усиление (англ. Antibody-dependent enhancement, ADE), при котором связывание вируса с неоптимальными антителами усиливает его проникновение в клетки хозяина [6].
После узнавания и прикрепления вируса возможны два варианта развития событий (рис. 1): непосредственное слияние вирусной и плазматической мембран или формирование эндосом с последующим захватом и интернализацией вирусной частицы.
Рис. 1. Механизм входа и выхода вируса SARS-CoV/SARS-CoV-2 в клетку. Первый этап взаимодействия включает распознавание S-белка вируса рецептором АСЕ2 (1), второй этап может различаться и пойти либо по пути слияния мембран (2 А), либо по пути формирования эндосом (2 Б). Эндосомы могут сливаться с лизосомами, содержащими катепсин L и B и другие протеазы, что обеспечивает расщепление S-белка и далее слияние мембраны эндосомы и вируса (3). Выход вирусной РНК в цитозоль ведёт к трансляции вирусной полимеразы и других вирусных белков (4), сборке и высвобождению вирионов (5). Мишенями для протеаз могут быть как шиповый белок, так и АСЕ2, когда происходит так называемый сброс (англ. «shedding») внеклеточного домена ACE2 с поверхности клетки (составлено по [7–10])
Слияние вирусной и клеточной мембраны зависит от белков слияния, дестабилизирующих мембрану и формирующих пору, по которой содержимое вириона высвобождается в цитозоль клетки. S-Белок SARS-CoV-2 принадлежит к первому классу белков слияния – для его активации необходимо протеолитическое расщепление, в результате которого происходит конформационная перестройка, формирование N-концевой суперспирали, экспонирование и встраивание вирусного белка в мембрану клетки-хозяина.
В структуре S-белка вируса имеется несколько сайтов расщепления протеазами: полиосновный сайт S1/S2 678-TNSPRRAR↓SVA-688 и одноосновный сайт S2′ 812-PSKR↓SFIEDL-821, которые являются мишенями трансмембранной сериновой протеазы 2 (англ. transmembrane serine protease 2, TMPRSS2) и фуриновых протеаз. S1/S2 также может расщепляться под действием трипсина и мембранных протеаз TMPRSS2/4/13, а сайт S2′ – трипсина и TMPRSS2/4 [11]. Кроме этого, было показано, что расщепление S-белка может идти по другим сайтам в рецептор-связывающем домене, N-терминальном домене, в области белка слияния, а также вблизи сайтов S1/S2 и S2′ [12], которые являются мишенями катепсинов K, L, B, V и S, трипсиноподобной протеазы дыхательных путей человека (англ. human airway trypsin-like protease, HAT), TMPRSS4, TMPRSS11A, TMPRSS11E и матрипазы. Показано, что полиосновный сайт расщепляется в основном фуриновой протеазой, а катепсин G и нейтрофильная эластаза действуют по альтернативным сайтам: 684AR685, 687VA688, 688AS689 [13]. Удаление полиосновного сайта del-682-RRAR-685 или точечная мутация внутри 682-PRAA-685 предотвращает расщепление фуриновыми протеазами [14]. Мутации P681H и P681R в вариантах Альфа и Дельта, напротив, усиливают узнавание и расщепление фуриновыми протеазами [15]; замена P681R также повышает слияние мембран [16].
Процесс расщепления идёт поэтапно; на первом этапе происходит процессинг S-белка в сайте S1/S2 (678-TNSPRRAR↓SVA-688) под действием фуриновых протеаз, приводящий к открытию рецептор-связывающего домена [11]. На следующем этапе расщепление по сайту S2′ (812-PSKR↓SFIEDL-821) запускает процесс реорганизации шипового белка и слияние мембран. После инфицирования клетки и запуска синтеза вирусных белков расщепление S-белка в сайте S1/S2 может происходить внутриклеточно благодаря наличию протеаз семейства TMPRSS на мембране везикул транс-области аппарата Гольджи в эпителиальных клетках дыхательных путей [17]. Таким образом, предполагается, что в формирующиеся вирионы встраиваются «праймированные», т.е. готовые к связыванию с АСЕ2 S-белки. Это может значительно ускорить инфицирование соседних клеток за счёт выброса вирионов с «праймированными» S-белками, у которых в результате расщепления повышено сродство к рецептору АСЕ2, а также открыт сайт S2′ для дальнейшего расщепления фуриновыми протеазами и/или TMPRSS2 [11, 18].
Слияние мембран может происходить не только между вирусом и клеткой, но и между клетками хозяина, которые образуют синцитий (рис. 2). Необходимым условием для его формирования является представление АСЕ2 и S-белка на поверхности соседних клеток. Непосредственное встраивание S-белка в плазматическую мембрану эукариотической клетки происходит при слиянии с вирусной мембраной (рис. 2 А) либо после инфицирования клетки и синтеза вирусных белков, когда часть зрелых S-белков перемещается по секреторному пути к плазматической мембране (рис. 2 Б). Это происходит благодаря структурной организации цитоплазматического хвоста S-белка, которая позволяет ему вклиниться в транспортные пути клетки-хозяина [19, 20]. Таким образом, встроившись в плазматическую мембрану, эти белки опосредуют слияние инфицированных и неинфицированных клеток с образованием многоядерных гигантских клеток, что может способствовать прямому распространению SARS-CoV-2 между клетками. Любопытно, что в исследованиях in vitro одиночная замена R815A предотвращала расщепление S-белка по этому сайту, также вирус терял способность к формированию синцития при инфицировании клеток HEK293T-ACE2, Vero E6-ACE2 и Caco-2 [14]. Было показано, что именно наличие биаргининового мотива в сайте расщепления фуриновыми протеазами (RRAR) обеспечивает формирование синцития, тогда как делеции этого участка лишают вирус такой способности [21].
Рис. 2. Схематическое представление формирования многоядерного синцития при инфицировании клеток SARS-CoV-2. Вход вируса в клетки запускается в результате взаимодействия между S-белком вируса и рецептора ACE2 клетки (1). Появление S-белка на плазматической мембране происходит при слиянии вириона с клеткой (2 А) либо при инфицировании по эндосомальному пути (2 Б). В этом случае благодаря низкому рН в эндосоме происходит протеолитическое расщепление S-белка (3), высвобождение генома, его репликация и синтез вирусных белков в эндоплазматическом ретикулуме (4). Часть S-белка ввиду его структурных особенностей транспортируется и встраивается в плазматическую мембрану. Таким образом, наличие на мембранах соседних клеток молекул слияния АСЕ2 и S-белка способствует их слиянию (5). Сокращения: АСЕ2 – ангиотензинпревращающий фермент 2, TMPRSS2 – трансмембранная сериновая протеаза 2
Исследования пациентов с КОВИД-19 выявили в их лёгких как гигантские многоядерные клетки, образующие псевдосинцитии, так и настоящие синцитии, которые экспрессировали маркеры пневмоцитов Surfactant-A, TTF1 и Napsin, что указывает на их эпителиальное происхождение [22]. В лёгких пациентов с КОВИД-19 также встречались CD163+-синцитии гистиоцитарного/моноцитарного происхождения. Предполагается, что в такие многоядерные образования могут интернализироваться лейкоциты и лимфоциты, поскольку в структуре синцития встречаются CD45+-клетки. Более того, выявлена обратная корреляция между количеством лимфоцитов периферической крови и количеством CD45+-клеток в синцитии [21]. Впрочем, можно предположить, что клетки любого типа, экспрессирующие на поверхности АСЕ2 и S-белок, могут слиться, образовав гетерогенный синцитий.
Важную роль в процессе слияния вирусной и клеточной мембран играют вспомогательные белки клетки-хозяина. Так, в связывании с вирусами могут участвовать рецепторы распознавания патогенных образов [23] и рецепторы иммуноглобулинов (FcR). В организацию и формирование эндосом, их перемещение и высвобождение вирионов вносят вклад тетраспанины, малые G-белки семейства Rab и другие белки [24, 25]. Участки плазматической мембраны, обогащённые тетраспанинами (англ. tetraspanin-enriched membrane, ТЕМ), участвуют в реорганизации и слиянии мембран. Тетраспанины регулируют формирование мембранных инвагинаций/искривлений и экстраклеточных везикул, а также влияют на активность мембранных металлопротеиназ ADAM17 и ADAM10, которые, в свою очередь, расщепляют белок ACE2, отщепляя его каталитическую часть. Тетраспанин CD9 участвует в формировании эндосомы и проникновении вируса, CD81 и CD63 – в высвобождении зрелых вирионов. Предполагается, что CD9-содержащие TEM могут способствовать входу вируса в клетку за счёт подавления расщепления ACE2 протеазой ADAM17 и её высвобождения [8]. При отсутствии CD81 на мембране клетки вирионы формируются, но не способны высвобождаться из клетки. Тетраспанины также могут выполнять функцию скаффолд-белков. При запуске противовирусного интерферонового ответа I типа (I type interferon response, IFN-I) возможна активация синтеза и высвобождения интерферон-индуцируемых мембранных белков (англ. interferon-induced transmembrane proteins, IFITM) – небольших альфа-спиральных белков, которые встраиваются в TEM и разобщают факторы входа вируса [9].
Таким образом, вероятность инфицирования любой клетки, прежде всего, определяется набором и количеством мембранных рецепторов АСЕ2 и других белков, способных связываться с S-белком – они обеспечивают первоначальное взаимодействие вируса и клетки. В базе данных BioGRID [26] к настоящему времени приведены данные более чем о 1000 белков человека, для которых было показано взаимодействие с S-белком SARS-CoV-2. Связывание с альтернативными мишенями может способствовать развитию системного поражения организма при коронавирусной инфекции. Список мишеней, особенности экспрессии в организме человека и взаимодействия с SARS-CoV-2 приведены в таблице П1 в Приложении. Другим важным фактором, без помощи которого невозможно слияние мембран, является наличие в клетке мембранных или секретируемых протеаз. Как правило, в клетках, которые не экспрессируют TMPRSS2, инфицирование происходит путём эндоцитоза [11]. Обобщая вышесказанное, мы можем заключить, что, во-первых, чем больше точек взаимодействия между вирусом и клеткой, т.е. чем выше плотность рецепторов на поверхности клетки, тем выше шансы на проникновение вируса в клетку, и, во-вторых, выбор способа проникновения вируса путём эндоцитоза либо посредством слияния мембран определяется уровнем экспрессии мембранных протеаз на клетке-мишени.
Таблица 1. Полиморфизмы генов человека, влияющие на инфицирование SARS-CoV-2 и тяжесть течения КОВИД-19
Ген | Эффект | Ссылка |
SLC6A20 | низкий риск заражения, бессимптомное или лёгкое течение у носителей генотипа CT (rs139940581) | [88] |
TMPRSS2 | носители генотипа AA (rs12329760) чаще болели бессимптомно или КОВИД-19 средней тяжести | [88] |
IFNAR2 | высокий риск заражения у носителей генотипа TC (rs2229207) и аллели T (rs17860118) | [88] |
ADAM17 | у носителей rs4622692 (генотип TG) и rs1048610 (генотип TC) чаще наблюдается КОВИД-19 средней тяжести | [88] |
IFNAR2 | высокие риски госпитализации (rs13050728) и интенсивной терапии (rs2236757, rs17860115) | |
SLC6A20 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs73062389) | [88] |
FOXP4 | среднее и тяжёлое течение с необходимостью госпитализации (rs1886814) | [87] |
ABO | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs912805253/rs529565) | [87] |
SFTPD | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs721917) | [87] |
ELF5 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs766826) | |
FBRSL1 | тяжёлое, критическое течение КОВИД-19 (rs12809318) | |
DPP9 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs2109069); вариант ассоциирован с идиопатическим пульмонарным фиброзом | |
DPP9 | тяжёлое течение, фатальный исход (rs2277735, генотип AG); высокий риск необходимости интенсивной терапии (rs12610495) | [88] |
TMPRSS2 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs3787946) | |
MUC5B | наличие полиморфизма rs35705950 (аллель Т) является фактором риска развития лёгочного фиброза, но вместе с тем снижает риск развития тяжёлого КОВИД-19 и госпитализации | |
TYK2 | rs2304255 (генотип CT) – тяжёлое течение, фатальный исход; высокий риск необходимости кардиоваскулярного мониторинга и интенсивной терапии (rs34536443), показана связь с развитием аутоиммунных заболеваний | |
FBRSL1 | высокий риск госпитализации и смерти вследствие КОВИД-19 (rs12809318); высокий риск необходимости кардиоваскулярного мониторинга и интенсивной терапии (rs56106917) | [87] |
ABO | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs657152) | [87] |
HLA-G | высокий риск необходимости кардиоваскулярного мониторинга и интенсивной терапии (rs9380142) | [87] |
CCHCR1 | высокий риск необходимости кардиоваскулярного мониторинга и интенсивной терапии (rs143334143) | [87] |
NOTCH4 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs3131294) | [87] |
EFNA4 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs114301457) | [87] |
BCL11A | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs1123573) | [87] |
SLC6A20 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs2271616) | [87] |
ELF5 | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs61882275) | [87] |
IL10RB | среднее и тяжёлое течение КОВИД-19 (rs8178521) | [87] |
Врождённый иммунный ответ
Основное свойство вируса – проникновение в клетку и воспроизведение собственного генома. В ответ на внедрение вируса в клетку и трансляцию вирусных белков организм запускает механизмы защиты. Иммунный ответ реализуется активацией двух звеньев иммунной системы: врождённой и адаптивной. Как упоминалось выше, первыми с SARS-CoV-2 контактируют эпителиальные клетки дыхательных путей и резидентные макрофаги. Врождённый противовирусный ответ запускает экспрессию генов, относящихся к IFN-I, в течение нескольких часов после начала заражения. Синтез IFN-α и запускаемые им нисходящие сигнальные каскады модулируют ответ клеток и перепрограммируют их на борьбу с вирусом. В результате происходит ограничение репликации вируса в инфицированных клетках, к очагу инфицирования привлекаются клетки врождённого иммунитета, и происходит стимуляция адаптивного иммунного ответа за счёт представления вирусных антигенов с помощью белков главного комплекса гистосовместимости первого типа MHC-I (англ. major histocompatibility complex). Антигенпрезентирующие иммунные клетки (АПК) способны выставлять антигены, используя оба типа комплексов, MHC-I и MHC-II. Не менее важную роль в инициации иммунного ответа играет активация паттерн-распознающих рецепторов, функция которых – находить высвобождаемые патоген-ассоциированные молекулярные паттерны, РНК вируса и связываться с ними [27]. Вирусы распознаются Toll-подобными рецепторами в эндосомах, в том числе TLR-3 и TLR-7 и цитозольными сенсорами РНК (RIG-I-подобными рецепторами, RIG-I и MDA5). Активация TLR-3/TLR-7 приводит к ядерной транслокации факторов транскрипции NF-κB и IRF3, в частности, к RIG-1/MDA5-зависимой активации IRF3. IFN-α и другие провоспалительные цитокины усиливают собственную продукцию: IFN-α активирует рецепторный комплекс IFNAR, что приводит к активации транскрипционных факторов STAT1/2, а активация рецепторов IL-1, IL-6 и TNF-α приводит к синтезу провоспалительных цитокинов через транскрипционный фактор NF-κB [28–30]. Таким образом, при активации внутриклеточных TLR-3, распознающих нуклеиновые кислоты, развиваются ответы IFN-I и IFN-III типов, происходит очистка организма от вируса; тогда как при распознавании S-белка рецептором TLR-4 происходит активация MyD88-зависимого сигнального пути, активация провоспалительного пути с вероятным развитием синдрома высвобождения цитокинов (СВЦ), так называемого «цитокинового шторма» [31].
Как же инфицирование меняет профиль активности макрофагов? Анализ транскриптома активированных и инфицированных макрофагов показал повышение уровня транскрипции гена хемокина CXCL10 и ассоциированных с ним генов, кодирующих CXCL11, CCL18, CCL8, ISG15, CD83, рецептор IL-7, активацию инфламмасом и пироптоза (NLRP3 и каспазы-1 соответственно) [32]. Наряду с этим было отмечено повышение синтеза IL-18 и рецептора IL-1β/IL-1, которое коррелировало с активностью макрофагов (рис. 3). В лёгких людей, умерших от КОВИД-19, было выявлено снижение количества резидентных альвеолярных макрофагов («феномен исчезновения») и повышение количества привлечённых макрофагов, которые можно было разделить на три кластера на основании профилей транскрипции: кластер 1 экспрессировал типичные маркеры моноцитов (например, S100A8/MRP8, FCN1 и CD14); кластер 2 имел высокий уровень экспрессии генов хемокинов (например, CCL2, CCL3, CXCL10), а кластер 3 экспрессировал иммунорегуляторные (A2M, GPR183 и CCL13) и профибротические гены (SPP1, TREM2 и TGFB1). Первые два кластера были наиболее близки к подтипу макрофагов М1, а третий – к М2 [33]. В результате этого в лёгких пациентов увеличивалось количество фибробластов и коллагена. Предполагается, что макрофаги, инфицированные SARS-CoV-2, дифференцируются в подтип М1 и затем продуцируют провоспалительный цитокин IL-6, поддерживая провоспалительный статус [34, 35]. Таким образом, поглощение апоптотических клеток, инфицированных SARS-CoV-2, усиливает продукцию провоспалительных цитокинов, подавляет экспрессию эффероцитарных рецепторов и нарушает непрерывный эффероцитоз макрофагами, что в дальнейшем ведёт к накоплению повреждений тканей.
В ответ на выброс хемокинов из активированных макрофагов или повреждённых инфицированием клеток в очаг прибывают гранулоциты из кровеносного русла. При значительной вирусной нагрузке разрушение инфицированных клеток сопровождается усиленным высвобождением множества факторов, включая провоспалительные цитокины и хемокины (рис. 3), что привлекает в очаг инфицирования ещё большее количество гранулоцитов и моноцитов. У пациентов с тяжёлым течением КОВИД-19 отмечена высокая инфильтрация лёгких гранулоцитами, особенно незрелыми [36]. Было показано повышение количества гранулоцитов низкой плотности (англ. low-density granulocytes, LDG), которое также характерно для аутоиммунных, онкологических заболеваний, микобактериальной и других инфекций. У пациентов с тяжёлым течением КОВИД-19 повышен нетоз LDG и агрегация с тромбоцитами по сравнению с LDG пациентов с лёгким течением заболевания [37]. Более того, количество циркулирующей в крови ДНК, образовавшейся из нетозных ловушек, коррелирует с тяжестью заболевания и является предиктором летальности [38].
Рис. 3. Схематическое представление взаимной активации иммунных клеток при инфицировании SARS-CoV-2. Врождённый иммунный ответ активируется в течение нескольких часов после заражения вирусом и сопровождается высвобождением ряда антивирусных молекул. АПК (макрофаги, дендритные клетки и отчасти гранулоциты) фагоцитируют патоген, фрагментируют его на мелкие пептиды, которые представляют на своей поверхности с помощью главного комплекса гистосовместимости II класса (MHC-II). Взаимодействие MHC-II и T-клеточного рецептора активирует CD4+ Т-хелперные клетки, а также В- и CD8+-клетки. Активация Т-хелперных клеток приводит к их дифференцировке в различные подтипы со специфическими функциями, опосредованными секрецией цитокинов и контактами «клетка–клетка» (cell-to-cell). В-Клетки, дифференцирующиеся в плазматические клетки, выделяют антитела, которые препятствуют проникновению вирусной частицы в здоровые клетки. Th2-Лимфоциты способствуют реализации гуморального ответа, обеспечивая второй сигнал для В-клеток, в основном, за счёт секреции IL-4 и взаимодействия CD40/CD40L. Некоторые CD4+-клетки становятся фолликулярными хелперными клетками (Tfh), которые регулируют важные взаимодействия в герминальных центрах, необходимые для созревания В-клеток памяти и долгоживущих высокоаффинных антителопродуцирующих плазматических клеток. Другой пул CD4+ Т-клеток дифференцируется в пул Т-хелперных клеток памяти (Tmem). Th1 играют важнейшую роль в формировании клеточного ответа. Они инициируют активацию MHC-I CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов (Teff), одновременно взаимодействуя с АПК. Активированные Teff вызывают апоптоз клеток, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Часть Teffдифференцируется в цитотоксические Т-клетки памяти (Tem), на которые возлагается роль быстрого восстановления клеточного иммунного ответа при вторичных контактах с антигеном. Аналогичный механизм разрушения происходит при взаимодействии NK-клеток с инфицированной вирусом клеткой. Однако чрезмерная активация иммунных клеток ведёт к снижению количества лимфоцитов за счёт клеточной гибели, более того, лимфоциты часто демонстрируют фенотип истощения с экспрессией более высоких уровней маркеров истощения PD-1, Tim-3 или NKG2A. Сокращения: Акт – активация, ПС – передача сигнала, КоС – костимуляция, Экс – экспрессия
Довольно интересный вопрос – может ли вирус реплицироваться в клетках врождённой иммунной системы? В экспериментах in vitro SARS-CoV-2 оказался способен инфицировать все культивируемые макрофаги, но размножался и вызывал противовирусный цитокиновый ответ только в макрофагах, экспрессирующих ACE2 [39]. THP-1, экспрессирующие АСЕ2, в ответ на репликацию вируса запускали противовирусные ответы, опосредованные киназой TBK-1 (TANK-binding kinase 1), что ограничивало размножение и высвобождение вирионов. Как упоминалось выше, вход SARS-CoV-2 в макрофаги может происходить независимо от ACE2, например, через лектиновые рецепторы C-типа и CD169; макрофаги, не экспрессирующие ACE2, не выделяли провоспалительные цитокины или противовирусные медиаторы при инфицировании SARS-CoV-2. Блокада цитокинов в АСЕ2-экспрессирующих макрофагах продлевала период продукции и выхода вирионов [39]. Показано, что при CD169-опосредованной/ACE2-независимой (CD169+/АСЕ2–) инфекции в макрофагах происходила репликация вирусной геномной и субгеномной РНК, что стимулировало RIG-I, MDA-5 и MAVS-зависимую экспрессию провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-1β [40]. Данных о репликации SARS-CoV-2 в гранулоцитах мы не обнаружили; по-видимому, вследствие финальной стадии дифференцировки гранулоцитов их репликационный аппарат редуцируется и недостаточен для воспроизведения вируса.
При тяжёлом течении КОВИД-19 моноциты периферической крови характеризовались гиперактивированным статусом и значительным снижением экспрессии HLA-DR, высоким уровнем экспрессии генов, характерных для фенотипа противовоспалительных и незрелых клеток, включая SELL (CD62L), CD163, MPO и PLAC8, а также повышенной экспрессией генов белков семейства S100A, например, S100A12 [41]. При КОВИД-19 средней тяжести в моноцитах наблюдался высокий уровень HLA-DR и CD11, а альвеолярные макрофаги секретировали хемокин CXCL16, который привлекал популяцию Т-лимфоцитов в лёгкие инфицированных людей. Основное различие между КОВИД-19 с тяжёлым течением и средней тяжести может быть связано с тем, что в первом случае в лёгкие привлекаются моноциты и гранулоциты, а во втором – Т-лимфоциты [41].
Адаптивный иммунный ответ
При развёртывании адаптивного иммунного ответа происходит отбор вирус-специфичных Т-клеток из пула наивных клеток и пролиферация клона до достижения уровня, необходимого для обеспечения противовирусной защиты. Этот процесс обычно занимает от 6 до 10 дней. При средней степени тяжести КОВИД-19 формирование плазматических клеток и В-клеток памяти происходит в герминальных центрах, тогда как при тяжёлом течении активация В-лимфоцитов чаще всего происходит вне фолликул [42].
Выброс хемокинов и цитокинов активированными макрофагами, моноцитами и гранулоцитами привлекает большое количество лимфоцитов в очаг воспаления, где вследствие взаимодействия Т-клеточного рецептора лимфоцитов с комплексом антиген/MHC-I/II запускается активация и пролиферация Т-лимфоцитов (рис. 3). Одновременно с активацией лимфоцитов в очаге происходит их инфицирование. В исследованиях in vitro SARS-CoV-2 предпочтительно инфицировал активированные CD4+ Т-клетки [43], в этих клетках были обнаружены вирусные геномные, субгеномные РНК, вирусные белки и вирионы. С помощью экспериментов по нокдауну АСЕ2 или блокаде S-белка авторы выяснили, что инфицирование происходило без участия S-белка/ACE2/TMPRSS2. Более того, инфицирование Т-клеток in vitro вызывало их апоптоз (возможная причина лимфопении у пациентов), который, вероятно, был связан с активацией HIF-1α-зависимых путей в митохондриях. Также авторы полагают, что входной молекулой для SARS-CoV-2 в лимфоцитах может служить белок LFA-1.
Анализ данных невакцинированных пациентов показал, что CD8+ Т-клетки, полученные после бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) пациентов с тяжёлой/критической инфекцией, были менее многочисленными, более пролиферативно активными и фенотипически гетерогенными, тогда как в БАЛ пациентов с заболеванием средней тяжести присутствовала большая доля эффекторных CD8+ Т-клеток с тканевыми свойствами и высокой степенью экспансии [33]. В то же время было обнаружено, что после вирусной инфекции в лёгких пациентов увеличивается количество CD4+ и CD8+ эффекторных и тканевых Т-клеток памяти (TRM), а также секреция провоспалительных цитокинов, таких как IFN-γ.
Особый интерес вызывает вопрос об антигенной специфичности адаптивного иммунного ответа. Предполагается, что ответ иммунной системы на SARS-CoV-2 гетерогенен. На начальных этапах инфицирования клеток представление антигена реализуется через MHC-I. Сначала презентируются фрагменты неструктурных белков, которые первыми начинают синтезироваться в инфицированной клетке. Часть вирусных белков разрушается в протеасомах и попадает в эндоплазматический ретикулум/аппарат Гольджи, где связывается с новосинтезированными комплексами MHC-I. Представление антигенов комплексом MHC-II происходит после деградации вирусных белков в фагосомах и потому может содержать более разнообразные фрагментыструктурных и неструктурных белков. В связи с этим в кровеносном русле могут циркулировать полиспецифичные Т-лимфоциты. Более того, характеристика антиген-специфичных Т-клеток SARS-CoV-2 на периферии показала, что различные эпитопы поляризуют CD4+ Т-клетки по-разному: анти-S CD4+ Т-клетки в основном демонстрируют фенотип фолликулярного хелпера Tfh, тогда как поляризация Т-клеток, специфичных к мембранному (М) и нуклеокапсидному (N) белкам коронавируса приводит к формированию фенотипа Th1/Th17 [44]. Полагают, что CD8+ Т-клетки, специфичные к М- и N-белкам, полифункциональны, и это необходимо учитывать при создании антигенных вакцин [45]. Нужно отметить, что авторы исследования не выявили истощения активированных антиген-специфичных Т-клеток во время острой инфекции и дальнейшего выздоровления. В то же время при секвенировании РНК одиночных клеток пациентов показано, что у пациентов с тяжёлым течением КОВИД-19 M198-206-специфичные CD8+ Т-клетки характеризуются истощённым фенотипом и более низкой степенью дифференцировки по сравнению с пациентами со средней тяжестью заболевания [46]. Отсутствие ответа CD4+ Т-клеток часто ассоциировано с летальным исходом, что подчёркивает решающую роль этих клеток в контроле КОВИД-19. Повышение уровня PD-1 (белок программируемой клеточной смерти 1, англ. Programmed cell death 1) было обнаружено во всех CD4+ Т-клетках, за исключением наивных Т-клеток (рис. 3).
Цитотоксические CD8+ Т-клетки необходимы для очистки организма от вируса. Они уничтожают инфицированные клетки, представляющие вирусные антигены, при помощи MHC-I. CD4+ и CD8+ Т-клетки, специфичные к SARS-CoV-2, выявляются уже в первые несколько дней после появления симптомов [47]. Более высокая частота истощённых HLA-DR+CD38+CD8+ Т-клеток и нефункциональных CD4+ наивных Т-клеток и Т-клеток памяти наблюдалась у пациентов с тяжёлым течением КОВИД-19 [48].
В работе Cheng et al. [49] встречается любопытное предположение о наличии суперантигенной последовательности в структуре S-белка. Фрагмент S-белка SARS-CoV-2 678-TNSPRRARSVASQ-690 структурно сходен с фрагментом 150-TN-KKKATVQELD-161 суперантигенного пептида SEB (staphylococcal enterotoxins B). Пептид 674-QTQTNSPRRAR-685, который содержит уникальный для SARS-CoV-2 мотив PRRA, может взаимодействовать с α- и β-цепями Т-клеточного рецептора, активируя Т-лимфоциты, минуя АПК и вызывая мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с КОВИД-19 (рис. 3 и 4).
Рис. 4. Схематическое представление развития гипервоспаления и синдрома высвобождения цитокинов при тяжёлой форме КОВИД-19. SARS-CoV-2 инфицирует эпителиальные и иммунные клетки, вызывая повреждение тканей и высвобождение воспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-12 и TNF-α. Вирусные антигены и воспалительные цитокины привлекают клетки врождённого иммунитета (моноциты, макрофаги, нейтрофилы, дендритные и NK-клетки) в очаг воспаления и активируют клетки адаптивного иммунитета (CD4+ и CD8+ T-клетки), вызывая миелопоэз и гранулопоэз, а также устойчивую продукцию избыточного количества циркулирующих цитокинов, что ещё больше усугубляет повреждение эпителия. Иммунопатологические проявления КОВИД-19 включают лимфопению, дисрегуляцию моноцитов и макрофагов, нейтрофилию, ADE, снижение или задержку IFN-I и развитие СВЦ. Периферические моноциты демонстрируют сдвиг фенотипа с CD16+ на CD14+, а количество макрофагов, выделяемых в БАЛ, увеличивается в связи с их переходом из крови в лёгкие. Снижение интенсивности или задержка IFN-I затрудняет клиренс вируса и вызывает парадоксальное гиперинтенсивноевоспаление, что приводит к ухудшению прогноза у пациентов с КОВИД-19. Избыточная продукция системных цитокинов вызывает активацию макрофагов и гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, что приводит к анемии, а также вызывает нарушение сосудистого гемостаза, приводящее к синдрому капиллярной утечки, тромбозу и синдрому внутрисосудистого свёртывания крови. В совокупности эти события приводят к острому респираторному дистресс-синдрому, мультиорганной недостаточности и смерти (составлено по [61–63]). Сокращение: ОРДС – острый респираторный дистресс синдром
Избегание иммунного ответа
Известно, что SARS-CoV-2 обходит механизмы врождённой иммунной защиты и выработки противовирусных цитокинов различными путями. Белки вируса могут нарушать распознавание патоген-ассоциированных молекулярных образов вирусной РНК путём предотвращения передачи сигналов посредством TBK-1/ингибитора субъединицы ε киназы транскрипционных факторов NF-κB (IKKε), TRAF3 и IRF3. Это предотвращает передачу сигналов рецептора интерферона через STAT1 и способствует деградации мРНК хозяина, ингибируя трансляцию белка. Подавление интерферонового ответа способствует репликации вируса, пироптозу клетки-хозяина и усилению воспалительного ответа [50].
Вирусный белок ORF8 способен снижать презентацию антигенов МНС-I, напрямую взаимодействуя с этой молекулой [51] и стимулируя её лизосомальную деградацию за счёт активации Beclin 1-опосредованной аутофагии [52]. Белки ORF7a и ORF3a снижают уровень экспрессии МНС-I на поверхности клеток, причём ORF7a связывается с тяжёлой цепью МНС-I, мимикрируя под β2-микроглобулин [53]. Белки ORF3b, ORF6, ORF7a и ORF8 SARS-CoV-2 являются мощными антагонистами интерферона [54], а ORF6 подавляет IFN-γ-опосредованную сигнализацию STAT1/IRF1/NLRC5 (или IFN-II) и, как следствие, транскрипцию и экспрессию МНС-I [55]. В результате инфицированные клетки становятся менее чувствительными к лизису цитотоксическими Т-лимфоцитами, позволяя SARS-CoV-2 избегать иммунного ответа. ORF3a взаимодействует с иммунной системой хозяина, активируя экспрессию гена про-IL-1β и секрецию IL-1β, тем самым активируя сигнальные пути NF-κB и NLRP3 инфламмасомы и способствуя разви- тию СВЦ [56].
Эндонуклеаза Nsp15 расщепляет 5′-полиуридиновую РНК (PUN RNA) – они стимулируют мощный MDA5-зависимый интерфероновый ответ, а удаление полиуридинового участка РНК гасит этот ответ [57]. Nsp15 вовлечён в уклонение от врождённого иммунитета, возможно, путём укорачивания полиуридиновых участков, которые присутствуют на 5′-конце вирусных (–)РНК. SARS-CoV-2 влияет на убиквитинирование и деградацию сенсоров РНК RIG-I и MDA5. Происходит подавление активации митохондриального антивирусного сигнального белка MAVS, который необходим для стимуляции и ядерной транслокации IRF3 в ответ на активацию сенсора цитоплазматической РНК [58]. SARS-CoV-2 эффективно ингибируют интерфероновый ответ, подавляя активацию факторов, ассоциированных с рецептором TNF-α – TRAF3 и TRAF6, тем самым ограничивая стимуляцию факторов транскрипции NF-κB, IRF3, IRF7, что приводит к снижению секреции провоспалительных эффекторных цитокинов IL-1, IL-6 и TNF-α. Кроме того, SARS-CoV-2 в ответ на активацию рецепторов IFN-α может ингибировать их сигнальный каскад через ингибирование фосфорилирования транскрипционных факторов. Ингибирование передачи сигналов IFN-α подавляет противовирусный ответ, в то время как увеличение экспрессии IL-1, IL-6 и TNF-α усиливает воспаление и выработку цитокинов посредством положительной обратной связи.
В целом, подавление механизмов врождённого иммунитета в инфицированных эпителиоцитах, моноцитах и макрофагах позволяет SARS-CoV-2 размножаться, не запуская механизмы адаптивного противовирусного ответа [30, 59]. Размножение вирусов приводит к гибели множества клеток и локальному воспалению с высвобождением провоспалительных цитокинов и хемокинов, таких как IL-6, IFN-γ, моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (MCP-1), IL-2, IL-7, IL-10, гранулоцитарно-макрофагальныйколониестимулирующий фактор (GM-CSF), IP-10, макрофагальный воспалительный белок 1α (MIP1-α) и TNF-α. Эти цитокины вызывают поляризационный ответ Т-хелперов типа 1, привлекая клетки адаптивного иммунного ответа, в частности, CD14+/CD16+ воспалительные моноциты и Т-лимфоциты. Вирусы могут обходить данные механизмы путём индукции апоптоза T-клеток [43].
Пул лимфоцитов также может быть истощён вследствие экспрессии провоспалительных цитокинов клетками врождённого иммунитета, которые проникают в лёгкие и запускают гипервоспаление и СВЦ (рис. 4). Неконтролируемая воспалительная клеточная инфильтрация может приводить к повреждению лёгких из-за высвобождения протеаз, активных форм кислорода и TNF-α, вызывая септический шок и полиорганную недостаточность [29]. СВЦ сопровождается значительными системными нарушениями и гибелью клеток вследствие ПАНоптоза. Продукция и высвобождение TNF-α и IFN-γ активирует белки CARD, ключевые белки ПАНоптосомы; блокада TNF-α- и IFN-γ-опосредованного запуска ПАНоптоза предотвращает развитие «цитокинового шторма», лимфогистиоцитоза и септического шока у мышей при инфицировании SARS-CoV-2 [60].
Влияние мутаций на вирулентность вируса
Контагиозность, трансмиссивность, вирулентность – все эти свойства определяются набором вирусных белков, закодированных в единственной молекуле геномной РНК. Варианты SARS-CoV-2 имеют разную способность к инфицированию клеток или слиянию с мембраной эукариотической клетки. Сродство к ACE2 варьирует у различных вариантов вируса SARS-CoV-2. В одной из первых работ по SARS-CoV-2 было показано, что при однократном инфицировании клеток линии HEK293T, стабильно экспрессирующих АСЕ2, наибольшей способностью к инфицированию обладает вирус с мутацией D614G по сравнению с исходным Уханьским вариантом [64, 65]. Варианты вируса с дополнительной заменой N501W/Y (Альфа, B.1.1.7) имели ещё более высокое сродство S-белка к рецептору ACE2 [66]. Во время репликации в организме человека/животного вирус приобретает новые мутации, и это чаще всего происходит при ослабленном иммунитете, поскольку в таких условиях вирус может существовать в организме достаточно длительное время. Варианты вируса, возникающие внутри одного организма, обозначают как iSNVs (англ. intrahost single nucleotide variants) [67]. Были определены нуклеотидные последовательности 1313 образцов, при анализе которых было обнаружено, что при низкой вирусной нагрузке выявляется большее количество iSNVs. Наибольшая вариабельность была показана в участках, кодирующих белки ORF (3a, 7a, и 8) и N-белок. Сравнение в динамике (6 дней разницы) показало возникновение и потерю iSNVs. За небольшим исключением образцы с высокой вирусной нагрузкой показали ограниченное разнообразие iSNVs. Как полагают авторы данного исследования, при трансмиссии вируса большинство вариантов теряется либо фиксируются в момент передачи. Другими словами, мутации возникают, но только небольшое их количество передаётся другому индивиду – правило бутылочного горлышка в эволюции. Большее количество вариантов будет возникать при низкой вирусной нагрузке и длительной персистенции вируса внутри одного организма, что подтверждается данными при инфицировании хронически больных людей или пациентов с иммунодефицитами [68–70].
Были проанализированы выявленные в различных вариантах вируса и потенциально возможные мутации S-белка (рис. 5). Показано, что замена T478I может повысить сродство S-белка к рецептору ACE2 человека и вероятность взаимодействия с рецептором ACE2 домашних животных (кур, кроликов, грызунов) [71]. Cродство шипового белка к ACE2 также повышают замены V354F, V470A [72], T478K и L452R [15] и Q498Y [73]; тройная замена (T478K, Q493K и Q498R), выявленная в варианте Омикрон, усиливает электростатическое взаимодействие между шиповым белком и рецептором ACE2 [74]. В то же время показано, что по способности к слиянию с мембраной, в целом, наиболее эффективны варианты Альфа, Гамма и Дельта, тогда как Омикрон сопоставим с исходным вариантом вируса [75]. Вирус варианта Омикрон (B.1.1.529) входит в клетки за счёт связывания с рецептором АСЕ2, но при этом независимо от мембранной протеазы TMPRSS2. Как показывают исследования на животных моделях, он в большей степени оседает в верхних отделах дыхательных путей, где происходит его репликация и наработка вирусных частиц [76]. Возможно, это отчасти объясняет его высокую трансмиссивность (практически равную трансмиссивности кори), когда вирус воспроизводится в верхних дыхательных путях, откуда затем легко выделяется.
Рис. 5. Аминокислотные замены в шиповом белке SARS-CoV-2, влияющие на трансмиссивность вируса и способность уходить от иммунного ответа. (Ссылки на данные приведены в тексте)
Замена E484K приводит к тому, что S-белок не распознаётся антителами к рецептор-связывающему (RBD) и N-терминальному (NTD) доменам. Так, B.1.351 (Бета) вариант вируса стал в 9 раз более устойчивым к нейтрализации конвалесцентной сывороткой и в 10–12 раз более устойчивым к нейтрализации сывороткой вакцинированных доноров [77]. Мутация S477N вызывает повышение сродства S-белка к рецептору АСЕ2 и приводит к повышению вирусной инфекционности [78, 79]. Мутационные изменения в NTD- и RBD-доменах S-белка вируса варианта Гамма (P.1) позволили ему уклониться от иммунного ответа, вызванного предшествующей естественной инфекцией и вакцинной защитой. Основными заменами в этом варианте являются E484K и K417T, которые могут привести к неэффективности вакцины и высокой вероятности повторного заражения.
Первые три волны эпидемии SARS-CoV-2, обусловленные вариантами Альфа, Бета и Дельта, сопровождались высокими показателями смертности. Когда появился Омикрон, несмотря на его высокую трансмиссивность и контагиозность, количество смертельных исходов пошло на убыль. По способности к инфицированию, репликации внутри клеток, способности к слиянию с клеточной мембраной Омикрон уступает варианту Дельта [80]. Как полагают многие исследователи, эволюция вируса направлена на селекцию такого варианта, который стремится к поражению наибольшего количества носителей, но при этом не вызывает их гибель. В варианте Омикрон «зафиксированы» все мутации, повышающие аффинность S-белка, произошедшие в более ранних вариантах SARS-CoV-2, и теперь эволюция вируса идёт в направлении приобретения мутаций, способствующих уходу от антител и ослаблению (буферизации) аффинности; дальнейшую эволюцию вируса могут запустить эпистатические мутации, например, замены в положениях 501, 493, 453 и 455 [81].
Благодаря заменам S371F, D405N и R408S варианты вируса Омикрон BA.2/BA.4/BA.5 приобрели способность избегать воздействия нейтрализующих антител, возникших против предыдущего варианта Омикрон ВА.1 [82]. Антитела высокочувствительны к заменам N501, N440, K417 и Е484. Garcia-Beltran et al. [83] провели исследования по оценке нейтрализующего потенциала против псевдовирусов 10 наиболее циркулирующих вариантов SARS-CoV-2 у добровольцев, получивших вакцину BNT162b2 или mRNA-1273. Как выяснилось, псевдовирусы, которые несли мутации K417N/T, E484K и N501Y, были наиболее устойчивыми к нейтрализующим антителам.
Из протестированных вариантов Омикрон (ВА.5) штаммы BQ.1.1.10, BA.4.6.3, XBB и CH.1.1 являются наиболее уклоняющимися от антител, намного превосходящими BA.5 и приближающимися к уровню SARS-CoV [84]. Штаммы варианта Омикрон BA.2.3.20, BA.2.75.2, CA.1, BR.2, BN.1, BM.1.1.1, BU.1, BQ.1.1 и XBB показывают преимущество в скорости роста по сравнению с ВА.5. Тем не менее, несмотря на их расходящиеся эволюционные пути, мутации в RBD сходятся в нескольких ключевых точках, включая аминокислоты в положениях R346, K356, K444, L452, N460K, F486, F490 и R493. Замены K444N/T и K417N/T проявляют приблизительно одинаковую способность избегать нейтрализующее действие антител, в то время как замена R493Q влияет на связывание с рецептором АСЕ2 [84]. Эти данные указывают на потенциальную возможность возникновения штамма, способного уходить от действия нейтрализующих антител при сохранении способности связывать АСЕ2. Поскольку до сих пор остаётся открытым вопрос о вероятности возникновения опасных вариантов/штаммов вируса SARS-CoV-2, то исследователи пытаются предсказать такие риски; так, предсказанные псевдовирусы предвосхитили появившиеся позднее варианты/штаммы [84].
В связи с уклонением новых подвариантов Омикрона от действия нейтрализующих антител исследователи и фармакологические компании направили свои усилия на разработку новых вакцин, в том числе двухвалентных адаптированных вакцин к ВА.4/ВА.5 подвариантам Омикрона, например, мРНК-вакцина COMIRNATY® от Pfizer-BioNTech, или к другим вариантам Омикрона. При этом остаётся несколько актуальных вопросов: нужна ли ревакцинация исходными вакцинами и как иммунная система реализует свой ответ на новые варианты/вакцины – «привлечёт новых солдат или переобучит старых»? То есть преодолеет ли иммунная система импринтинг и возникнут новые В-клетки памяти, специфичные к новым антигенам, или произойдёт модификация существующих антител. Известный феномен иммунного импринтинга заключается в том, что иммунная система «фиксируется» на первой версии антигена, с которой она сталкивается, независимо от последующих атак другими вариантами патогена. В работе Kaku et al. [85] показано, что ревакцинация или бустерная вакцинация мРНК-вакцинами вызывает минимальную активацию de novo Омикрон-специфического ответа, вместо этого запускает созревание сродства уже существующих кросс-реактивных В-клеток памяти (affinity maturation of pre-existing cross-reactive memory B cells). В то же время другими исследователями обнаружено, что вакцины против вариантов Омикрон вызывали появление моноклональных антител против S-белка вируса с новыми эпитопами, что, как полагают авторы, говорит об активации наивных В-клеток [86]. Считается, что воздействие гетерологичных вариантов SARS-CoV-2 стимулирует эволюцию В-клеток памяти и предполагает, что конвергентные реакции нейтрализующих антител продолжают формировать эволюцию вируса, т.е. идёт двусторонняя эволюция: антител и вируса. Непосредственно после инфекции идёт развитие ответа В-клеток памяти (их количества и силы ответа), тогда как гуморальный ответ продолжает развиваться даже после разрешения инфекции, приводя к повышению специфичности антител [58].
Влияние генетических факторов на течение ковид-19
Течение КОВИД-19 значительно варьирует: от бессимптомных заболеваний до летальной пневмонии. Известно, что чаще в тяжёлой форме это заболевание переносят пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и с уже имеющимися патологиями. Однако были зафиксированы редкие случаи, когда у ранее не имевших жалоб на здоровье и не пожилых людей развивался КОВИД-19 в тяжёлой форме, что позволило сделать предположение о наличии врождённых особенностей иммунной системы, влияющих на инфицирование SARS-CoV-2 и тяжесть течения заболевания. В обзоре Van der Made et al. [87] приведены данные анализа нескольких проектов по полногеномному секвенированию 50 000 пациентов, перенёсших КОВИД-19. Наиболее критичными в определении тяжести течения заболевания оказались полиморфизмы в генах IFNAR1 и IFNAR2, поскольку ранний выброс IFN-α запускает мощный противовирусный ответ (таблица).
Ответ на вопрос о причине индивидуальных особенностей течения КОВИД-19 искали также в изменении метилирования генов в клетках крови. Достоверные изменения были выявлены всего в нескольких генах: FBXO16, PSD3, RAE1, NIPAL2, SHANK2и PGM1, все они играют важную роль в развитии иммунного ответа [96].
Любопытно, что у носителей первой группы крови реже развивалось тяжёлое течение КОВИД-19 [88, 97]. Возможно, эта связь имеет под собой молекулярное обоснование, поскольку известно, что группы крови также влияют на факторы тромбообразования и адгезии [98]. Как показали исследования, носители группы крови А(II) имеют более высокий риск заражения, поскольку вирус SARS-CoV-2 преимущественно инфицировал клетки, экспрессирующие гликопротеины – антигены второй группы крови [99]. По предположению авторов, механизм заключается в том, что рецептор-связывающий домен S-белка имеет высокую гомологию с галектинами и схожий с ними профиль связывания гликанов. Вполне закономерно, что тяжело протекает КОВИД-19 у лиц, имеющих врождённые мутации в системе регуляции иммунитета, например, при нарушениях в сигнальных путях TLR3 и IRF7 (гены IRF7, IFNAR1, IFNAR2, TLR3, TICAM1, TBK1, IRF3 и UNC93B1), приводящие к потере функциональности и нарушению иммунного ответа IFN-I.
Структурные особенности ACE2 также играют роль в инфицировании вирусом SARS-CoV-2. Были обнаружены варианты рецептора ACE2, не связывающие S-белок (D355N), варианты с низкой аффинностью к S-белку (E35K, E37K, Y50F, N51S, M62V, F72V, G352V, D355N и P389H) и варианты, имеющие повышенное сродство к S-белку (S19P, I21V, E23K, K26R, N64K, T92I, Q102P, D206G, G211R, R219C, E329G, H378R, V447F, I468V, A501T, H505R, Y515C и N720D) [100–102]. Эти и другие варианты вносят вклад в индивидуальные особенности течения КОВИД-19.
Заключение
Современный уровень технического развития позволил человечеству внимательно присмотреться к возбудителю пандемии КОВИД-19, вирусу SARS-CoV-2, чтобы понять его биологию и взаимодействие с организмом-хозяином. При помощи полногеномного секвенирования, модельных исследований на изолированных клетках и животных получены огромные массивы данных, позволившие оценить вклад мутаций вирусных белков в способность вируса к инфицированию клеток. Все эти данные показали, что вирус достаточно быстро и много мутирует, однако не все его мутации закрепляются в популяции. Иммунная система человека формирует иммунитет к возбудителю, важными особенностями которого являются гетерогенность и кросс-реактивность. В то же время вирус стремится избежать действия нейтрализующих антител и «усилить» или варьировать свои способы прикрепления и проникновения в клетки. На примере вируса SARS-CoV-2 мы видим, что в вирусный геном могут встраиваться относительно большие нуклеотидные фрагменты, которые кодируют функциональные домены (например, полиосновный сайт расщепления протеазами) и придают вирусу новые свойства. Условиями возникновения таких модификаций могут быть длительная персистенция вирусов в организме, коинфекции и ослабленная иммунная система – всё это повышает риски возникновения новых рекомбинантных штаммов с повышенной вирулентностью. Остаётся надежда, что приобретённые знания о функционировании вируса SARS-CoV-2 помогут исследователям в разработке методов профилактики и лечения заболеваний, вызванных респираторными вирусами.
Финансирование. Работа выполнена за счёт средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект № FZSM-2023-0011).
Благодарность. Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства (ПРИОРИТЕТ-2030) Казанского (Приволжского) федерального университета.
Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания выполненных авторами исследований с участием людей или использованием животных в качестве объектов.
Дополнительные материалы. Приложение к статье опубликовано на сайте журнала «Биохимия» (https://biochemistrymoscow.com).
About the authors
A. G. Gabdoulkhakova
Kazan (Volga region) Federal University; Kazan State Medical Academy, Branch Campus of the Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy of Continuous Professional Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Russian Federation, 420008 Kazan; 420012 Kazan
R. N. Mingaleeva
Kazan (Volga region) Federal University
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Russian Federation, 420008 Kazan
A. M. Romozanova
Kazan (Volga region) Federal University
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Russian Federation, 420008 Kazan
A. R. Sagdeeva
Kazan (Volga region) Federal University
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Russian Federation, 420008 Kazan
Yu. V. Filina
Kazan (Volga region) Federal University
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Russian Federation, 420008 Kazan
A. A. Rizvanov
Kazan (Volga region) Federal University; Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Department of Medical and Biological Sciences
Russian Federation, 420008 Kazan; 420111 KazanR. R. Miftakhova
Kazan (Volga region) Federal University
Author for correspondence.
Email: AiGGabdulhakova@kpfu.ru
Russian Federation, 420008 Kazan
References
- Hamming, I., Timens, W., Bulthuis, M. L., Lely, A. T., Navis, G., and van Goor, H. (2004) Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis, J. Pathol., 203, 631-637, doi: 10.1002/path.1570.
- Jackson, C. B., Farzan, M., Chen, B., and Choe, H. (2022) Mechanisms of SARS-CoV-2 entry into cells, Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 23, 3-20, doi: 10.1038/s41580-021-00418-x.
- Bohan, D., Van Ert, H., Ruggio, N., Rogers, K. J., Badreddine, M., Aguilar Briseno, J. A., Elliff, J. M., Rojas Chavez, R. A., Gao, B., Stokowy, T., Christakou, E., Kursula, P., Micklem, D., Gausdal, G., Haim, H., Minna, J., Lorens, J. B., and Maury, W. (2021) Phosphatidylserine receptors enhance SARS-CoV-2 infection, PLoS Pathog., 17, e1009743, doi: 10.1371/journal.ppat.1009743.
- Knyazev, E., Nersisyan, S., and Tonevitsky, A. (2021) Endocytosis and transcytosis of SARS-CoV-2 across the intestinal epithelium and other tissue barriers, Front. Immunol., 12, 636966, doi: 10.3389/fimmu.2021.636966.
- Sefik, E., Qu, R., Junqueira, C., Kaffe, E., Mirza, H., Zhao, J., Brewer, J. R., Han, A., Steach, H. R., Israelow, B., Blackburn, H. N., Velazquez, S. E., Chen, Y. G., Halene, S., Iwasaki, A., Meffre, E., Nussenzweig, M., Lieberman, J., Wilen, C. B., Kluger, Y., et al. (2022) Inflammasome activation in infected macrophages drives COVID-19 pathology, Nature, 606, 585-593, doi: 10.1038/s41586-022-04802-1.
- Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., and DeKosky, B. J. (2020) Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies, Nat. Microbiol., 5, 1185-1191, doi: 10.1038/s41564-020-00789-5.
- Koch, J., Uckeley, Z. M., Doldan, P., Stanifer, M., Boulant, S., and Lozach, P. Y. (2021) TMPRSS2 expression dictates the entry route used by SARS-CoV-2 to infect host cells, EMBO J., 40, e107821, doi: 10.15252/embj.2021107821.
- Healy, E. F. (2022) How tetraspanin-mediated cell entry of SARS-CoV-2 can dysregulate the shedding of the ACE2 receptor by ADAM17, Biochem. Biophys. Res. Commun., 593, 52-56, doi: 10.1016/j.bbrc.2022.01.038.
- Hantak, M. P., Qing, E., Earnest, J. T., and Gallagher, T. (2019) Tetraspanins: architects of viral entry and exit platforms, J. Virol., 93, doi: 10.1128/JVI.01429-17.
- New, C., Lee, Z. Y., Tan, K. S., Wong, A. H., Wang, Y., and Tran, T. (2021) Tetraspanins: host factors in viral infections, Int. J. Mol. Sci., 22, 11609, doi: 10.3390/ijms222111609.
- Luan, B., Huynh, T., Cheng, X., Lan, G., and Wang, H. R. (2020) Targeting proteases for treating COVID-19, J. Proteome Res., 19, 4316-4326, doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00430.
- Bollavaram, K., Leeman, T. H., Lee, M. W., Kulkarni, A., Upshaw, S. G., Yang, J., Song, H., and Platt, M. O. (2021) Multiple sites on SARS-CoV-2 spike protein are susceptible to proteolysis by cathepsins B, K, L, S, and V, Protein Sci., 30, 1131-1143, doi: 10.1002/pro.4073.
- Mustafa, Z., Kalbacher, H., and Burster, T. (2022) Occurrence of a novel cleavage site for cathepsin G adjacent to the polybasic sequence within the proteolytically sensitive activation loop of the SARS-CoV-2 Omicron variant: the amino acid substitution N679K and P681H of the spike protein, PLoS One, 17, e0264723, doi: 10.1371/journal.pone.0264723.
- Yu, S., Zheng, X., Zhou, B., Li, J., Chen, M., Deng, R., Wong, G., Lavillette, D., and Meng, G. (2022) SARS-CoV-2 spike engagement of ACE2 primes S2′ site cleavage and fusion initiation, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 119, e2111199119, doi: 10.1073/pnas.2111199119.
- Cheng, M. H., Krieger, J. M., Banerjee, A., Xiang, Y., Kaynak, B., Shi, Y., Arditi, M., and Bahar, I. (2022) Impact of new variants on SARS-CoV-2 infectivity and neutralization: A molecular assessment of the alterations in the spike-host protein interactions, iScience, 25, 103939, doi: 10.1016/j.isci.2022.103939.
- Rajah, M. M., Bernier, A., Buchrieser, J., and Schwartz, O. (2022) The mechanism and consequences of SARS-CoV-2 spike-mediated fusion and syncytia formation, J. Mol. Biol., 434, 167280, doi: 10.1016/j.jmb.2021.167280.
- Bottcher-Friebertshauser, E., Klenk, H. D., and Garten, W. (2013) Activation of influenza viruses by proteases from host cells and bacteria in the human airway epithelium, Pathog. Dis., 69, 87-100, doi: 10.1111/2049-632X.12053.
- Seidah, N. G., Pasquato, A., and Andreo, U. (2021) How do enveloped viruses exploit the secretory proprotein convertases to regulate infectivity and spread? Viruses, 13, 1229, doi: 10.3390/v13071229.
- Li, Q., Liu, Y., and Zhang, L. (2022) Cytoplasmic tail determines the membrane trafficking and localization of SARS-CoV-2 spike protein, Front. Mol. Biosci., 9, 1004036, doi: 10.3389/fmolb.2022.1004036.
- Duan, L., Zheng, Q., Zhang, H., Niu, Y., Lou, Y., and Wang, H. (2020) The SARS-CoV-2 spike glycoprotein biosynthesis, structure, function, and antigenicity: implications for the design of spike-based vaccine immunogens, Front. Immunol., 11, 576622, doi: 10.3389/fimmu.2020.576622.
- Zhang, Z., Zheng, Y., Niu, Z., Zhang, B., Wang, C., Yao, X., Peng, H., Franca, D. N., Wang, Y., Zhu, Y., Su, Y., Tang, M., Jiang, X., Ren, H., He, M., Wang, Y., Gao, L., Zhao, P., Shi, H., Chen, Z., et al. (2021) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination, Cell Death Differ., 28, 2765-2777, doi: 10.1038/s41418- 021-00782-3.
- Bussani, R., Schneider, E., Zentilin, L., Collesi, C., Ali, H., Braga, L., Volpe, M. C., Colliva, A., Zanconati, F., Berlot, G., Silvestri, F., Zacchigna, S., and Giacca, M. (2020) Persistence of viral RNA, pneumocyte syncytia and thrombosis are hallmarks of advanced COVID-19 pathology, EBioMedicine, 61, 103104, doi: 10.1016/j.ebiom.2020.103104.
- Manan, A., Pirzada, R. H., Haseeb, M., and Choi, S. (2022) Toll-like receptor mediation in SARS-CoV-2: a therapeutic approach, Int. J. Mol. Sci., 23, 10716, doi: 10.3390/ijms231810716.
- Hou, W., Wang, S., Wu, H., Xue, L., Wang, B., Wang, S., and Wang, H. (2022) Small GTPase-a key role in host cell for coronavirus infection and a potential target for coronavirus vaccine adjuvant discovery, Viruses, 14, 2044, doi: 10.3390/v14092044.
- Dimitrov, D. S. (2004) Virus entry: molecular mechanisms and biomedical applications, Nat. Rev. Microbiol., 2, 109-122, doi: 10.1038/nrmicro817.
- Oughtred, R., Rust, J., Chang, C., Breitkreutz, B. J., Stark, C., Willems, A., Boucher, L., Leung, G., Kolas, N., Zhang, F., Dolma, S., Coulombe-Huntington, J., Chatr-Aryamontri, A., Dolinski, K., and Tyers, M. (2021) The BioGRID database: A comprehensive biomedical resource of curated protein, genetic, and chemical interactions, Protein Sci., 30, 187-200, doi: 10.1002/pro.3978.
- Schiuma, G., Beltrami, S., Bortolotti, D., Rizzo, S., and Rizzo, R. (2022) Innate Immune Response in SARS-CoV-2 Infection, Microorganisms, 10, 501, doi: 10.3390/microorganisms10030501.
- Zhang, S., Wang, L., and Cheng, G. (2022) The battle between host and SARS-CoV-2: Innate immunity and viral evasion strategies, Mol. Ther., 30, 1869-1884, doi: 10.1016/j.ymthe.2022.02.014.
- Farrag, M. A., Amer, H. M., Bhat, R., Hamed, M. E., Aziz, I. M., Mubarak, A., Dawoud, T. M., Almalki, S. G., Alghofaili, F., Alnemare, A. K., Al-Baradi, R. S., Alosaimi, B., and Alturaiki, W. (2021) SARS-CoV-2: an overview of virus genetics, transmission, and immunopathogenesis, Int. J. Environ Res. Public Health, 18, 6312, doi: 10.3390/ijerph18126312.
- Sette, A., and Crotty, S. (2021) Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19, Cell, 184, 861-880, doi: 10.1016/ j.cell.2021.01.007.
- Mabrey, F. L., Morrell, E. D., and Wurfel, M. M. (2021) TLRs in COVID-19: how they drive immunopathology and the rationale for modulation, Innate Immun., 27, 503-513, doi: 10.1177/17534259211051364.
- Bain, C. C., Lucas, C. D., and Rossi, A. G. (2022) Pulmonary macrophages and SARS-Cov2 infection, Int. Rev. Cell Mol. Biol., 367, 1-28, doi: 10.1016/bs.ircmb.2022.01.001.
- Liao, M., Liu, Y., Yuan, J., Wen, Y., Xu, G., Zhao, J., Cheng, L., Li, J., Wang, X., Wang, F., Liu, L., Amit, I., Zhang, S., and Zhang, Z. (2020) Single-cell landscape of bronchoalveolar immune cells in patients with COVID-19, Nat. Med., 26, 842-844, doi: 10.1038/s41591-020-0901-9.
- Wang Chau, C., and Sugimura, R. (2022) Locked in a pro-inflammatory state, Elife, 11, e80699, doi: 10.7554/eLife.80699.
- Salina, A. C. G., Dos-Santos, D., Rodrigues, T. S., Fortes-Rocha, M., Freitas-Filho, E. G., Alzamora-Terrel, D. L., Castro, I. M. S., Fraga da Silva, T. F. C., de Lima, M. H. F., Nascimento, D. C., Silva, C. M., Toller-Kawahisa, J. E., Becerra, A., Oliveira, S., Caetite, D. B., Almeida, L., Ishimoto, A. Y., Lima, T. M., Martins, R. B., Veras, F., et al. (2022) Efferocytosis of SARS-CoV-2-infected dying cells impairs macrophage anti-inflammatory functions and clearance of apoptotic cells, Elife, 11, e74443, doi: 10.7554/eLife.74443.
- Georgakopoulou, V. E., Makrodimitri, S., Triantafyllou, M., Samara, S., Voutsinas, P. M., Anastasopoulou, A., Papageorgiou, C. V., Spandidos, D. A., Gkoufa, A., Papalexis, P., Xenou, E., Chelidonis, G., Sklapani, P., Trakas, N., and Sipsas, N. V. (2022) Immature granulocytes: Innovative biomarker for SARSCoV2 infection, Mol. Med. Rep., 26, 217, doi: 10.3892/mmr.2022.12733.
- Dean, L. S., Devendra, G., Jiyarom, B., Subia, N., Tallquist, M. D., Nerurkar, V. R., Chang, S. P., Chow, D. C., Shikuma, C. M., and Park, J. (2022) Phenotypic alteration of low-density granulocytes in people with pulmonary post-acute sequalae of SARS-CoV-2 infection, Front. Immunol., 13, 1076724, doi: 10.3389/fimmu.2022.1076724.
- Воробьева, Н. В. (2020) Нейтрофильные внеклеточные ловушки: новые аспекты, Вестник Московского университета, Серия 16, Биология, 75, 16.
- Labzin, L. I., Chew, K. Y., Eschke, K., Wang, X., Esposito, T., Stocks, C. J., Rae, J., Patrick, R., Mostafavi, H., Hill, B., Yordanov, T. E., Holley, C. L., Emming, S., Fritzlar, S., Mordant, F. L., Steinfort, D. P., Subbarao, K., Nefzger, C. M., Lagendijk, A. K., Gordon, E. J., et al. (2023) Macrophage ACE2 is necessary for SARS-CoV-2 replication and subsequent cytokine responses that restrict continued virion release, Sci. Signal., 16, eabq1366, doi: 10.1126/scisignal.abq1366.
- Jalloh, S., Olejnik, J., Berrigan, J., Nisa, A., Suder, E. L., Akiyama, H., Lei, M., Ramaswamy, S., Tyagi, S., Bushkin, Y., Muhlberger, E., and Gummuluru, S. (2022) CD169-mediated restrictive SARS-CoV-2 infection of macrophages induces pro-inflammatory responses, PLoS Pathog., 18, e1010479, doi: 10.1371/journal.ppat.1010479.
- Knoll, R., Schultze, J. L., and Schulte-Schrepping, J. (2021) Monocytes and macrophages in COVID-19, Front. Immunol., 12, 720109, doi: 10.3389/fimmu.2021.720109.
- Laidlaw, B. J., and Ellebedy, A. H. (2022) The germinal centre B cell response to SARS-CoV-2, Nat. Rev. Immunol., 22, 7-18, doi: 10.1038/s41577-021-00657-1.
- Shen, X. R., Geng, R., Li, Q., Chen, Y., Li, S. F., Wang, Q., Min, J., Yang, Y., Li, B., Jiang, R. D., Wang, X., Zheng, X. S., Zhu, Y., Jia, J. K., Yang, X. L., Liu, M. Q., Gong, Q. C., Zhang, Y. L., Guan, Z. Q., Li, H. L., et al. (2022) ACE2-independent infection of T lymphocytes by SARS-CoV-2, Signal. Transduct. Target Ther., 7, 83, doi: 10.1038/s41392-022-00919-x.
- Sekine, T., Perez-Potti, A., Rivera-Ballesteros, O., Stralin, K., Gorin, J. B., Olsson, A., Llewellyn-Lacey, S., Kamal, H., Bogdanovic, G., Muschiol, S., Wullimann, D. J., Kammann, T., Emgard, J., Parrot, T., Folkesson, E., Karolinska, C.-S. G., Rooyackers, O., Eriksson, L. I., Henter, J. I., Sonnerborg, A., et al. (2020) Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19, Cell, 183, 158-168 e114, doi: 10.1016/j.cell.2020.08.017.
- Shakiba, M. H., Gemund, I., Beyer, M., and Bonaguro, L. (2023) Lung T cell response in COVID-19, Front. Immunol., 14, 1108716, doi: 10.3389/fimmu.2023.1108716.
- Ogura, H., Gohda, J., Lu, X., Yamamoto, M., Takesue, Y., Son, A., Doi, S., Matsushita, K., Isobe, F., Fukuda, Y., Huang, T. P., Ueno, T., Mambo, N., Murakami, H., Kawaguchi, Y., Inoue, J. I., Shirai, K., Yamasaki, S., Hirata, J. I., and Ishido, S. (2022) Dysfunctional Sars-CoV-2-M protein-specific cytotoxic T lymphocytes in patients recovering from severe COVID-19, Nat. Commun., 13, 7063, doi: 10.1038/s41467-022-34655-1.
- Moss, P. (2022) The T cell immune response against SARS-CoV-2, Nat. Immunol., 23, 186-193, doi: 10.1038/s41590-021-01122-w.
- Du, J., Wei, L., Li, G., Hua, M., Sun, Y., Wang, D., Han, K., Yan, Y., Song, C., Song, R., Zhang, H., Han, J., Liu, J., and Kong, Y. (2021) Persistent high percentage of HLA-DR+CD38(high) CD8+ T cells associated with immune disorder and disease severity of COVID-19, Front. Immunol., 12, 735125, doi: 10.3389/fimmu.2021.735125.
- Cheng, M. H., Zhang, S., Porritt, R. A., Noval Rivas, M., Paschold, L., Willscher, E., Binder, M., Arditi, M., and Bahar, I. (2020) Superantigenic character of an insert unique to SARS-CoV-2 spike supported by skewed TCR repertoire in patients with hyperinflammation, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 117, 25254-25262, doi: 10.1073/pnas.2010722117.
- Tay, M. Z., Poh, C. M., Renia, L., MacAry, P. A., and Ng, L. F. P. (2020) The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention, Nat. Rev. Immunol., 20, 363-374, doi: 10.1038/s41577-020-0311-8.
- Flower, T. G., Buffalo, C. Z., Hooy, R. M., Allaire, M., Ren, X., and Hurley, J. H. (2021) Structure of SARS-CoV-2 ORF8, a rapidly evolving immune evasion protein, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 118, e2021785118, doi: 10.1073/pnas.2021785118.
- Zhang, Y., Chen, Y., Li, Y., Huang, F., Luo, B., Yuan, Y., Xia, B., Ma, X., Yang, T., Yu, F., Liu, J., Liu, B., Song, Z., Chen, J., Yan, S., Wu, L., Pan, T., Zhang, X., Li, R., Huang, W., et al. (2021) The ORF8 protein of SARS-CoV-2 mediates immune evasion through down-regulating MHC-Iota, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 118, e2024202118, doi: 10.1073/pnas.2024202118.
- Arshad, N., Laurent-Rolle, M., Ahmed, W. S., Hsu, J. C., Mitchell, S. M., Pawlak, J., Sengupta, D., Biswas, K. H., and Cresswell, P. (2023) SARS-CoV-2 accessory proteins ORF7a and ORF3a use distinct mechanisms to down-regulate MHC-I surface expression, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 120, e2208525120, doi: 10.1073/pnas.2208525120.
- Redondo, N., Zaldivar-Lopez, S., Garrido, J. J., and Montoya, M. (2021) SARS-CoV-2 accessory proteins in viral pathogenesis: knowns and unknowns, Front. Immunol., 12, 708264, doi: 10.3389/fimmu.2021.708264.
- Yoo, J. S., Sasaki, M., Cho, S. X., Kasuga, Y., Zhu, B., Ouda, R., Orba, Y., de Figueiredo, P., Sawa, H., and Kobayashi, K. S. (2021) SARS-CoV-2 inhibits induction of the MHC class I pathway by targeting the STAT1-IRF1-NLRC5 axis, Nat. Commun., 12, 6602, doi: 10.1038/s41467-021-26910-8.
- Zandi, M., Shafaati, M., Kalantar-Neyestanaki, D., Pourghadamyari, H., Fani, M., Soltani, S., Kaleji, H., and Abbasi, S. (2022) The role of SARS-CoV-2 accessory proteins in immune evasion, Biomed. Pharmacother., 156, 113889, doi: 10.1016/j.biopha.2022.113889.
- Hackbart, M., Deng, X., and Baker, S. C. (2020) Coronavirus endoribonuclease targets viral polyuridine sequences to evade activating host sensors, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 117, 8094-8103, doi: 10.1073/pnas.1921485117.
- Wang, Z., Zhou, P., Muecksch, F., Cho, A., Ben Tanfous, T., Canis, M., Witte, L., Johnson, B., Raspe, R., Schmidt, F., Bednarski, E., Da Silva, J., Ramos, V., Zong, S., Turroja, M., Millard, K. G., Yao, K. H., Shimeliovich, I., Dizon, J., Kaczynska, A., et al. (2022) Memory B cell responses to Omicron subvariants after SARS-CoV-2 mRNA breakthrough infection in humans, J. Exp. Med., 219, e20221006, doi: 10.1084/jem.20221006.
- Felsenstein, S., Herbert, J. A., McNamara, P. S., and Hedrich, C. M. (2020) COVID-19: Immunology and treatment options, Clin. Immunol., 215, 108448, doi: 10.1016/j.clim.2020.108448.
- Karki, R., Sharma, B. R., Tuladhar, S., Williams, E. P., Zalduondo, L., Samir, P., Zheng, M., Sundaram, B., Banoth, B., Malireddi, R. K. S., Schreiner, P., Neale, G., Vogel, P., Webby, R., Jonsson, C. B., and Kanneganti, T. D. (2021) Synergism of TNF-alpha and IFN-gamma triggers inflammatory cell death, tissue damage, and mortality in SARS-CoV-2 infection and cytokine shock syndromes, Cell, 184, 149-168.e117, doi: 10.1016/j.cell.2020.11.025.
- Meng, Q. F., Tian, R., Long, H., Wu, X., Lai, J., Zharkova, O., Wang, J. W., Chen, X., and Rao, L. (2021) Capturing cytokines with advanced materials: a potential strategy to tackle COVID-19 cytokine storm, Adv. Mater., 33, e2100012, doi: 10.1002/adma.202100012.
- Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., Huang, B., Chen, Y., and Zhang, Y. (2020) COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics, Signal. Transduct. Target Ther., 5, 128, doi: 10.1038/s41392-020-00243-2.
- Yang, L., Xie, X., Tu, Z., Fu, J., Xu, D., and Zhou, Y. (2021) The signal pathways and treatment of cytokine storm in COVID-19, Signal. Transduct. Target Ther., 6, 255, doi: 10.1038/s41392-021-00679-0.
- Zhu, Y., Dong, X., Liu, N., Wu, T., Chong, H., Lei, X., Ren, L., Wang, J., and He, Y. (2022) SARS-CoV-2 fusion-inhibitory lipopeptides maintain high potency against divergent variants of concern including Omicron, Emerg. Microbes Infect., 11, 1819-1827, doi: 10.1080/22221751.2022.2098060.
- Peacock, T. P., Brown, J. C., Zhou, J., Thakur, N., Newman, J., Kugathasan, R., Sukhova, K., Kaforou, M., Bailey, D., and Barclay, W. S. (2022) The SARS-CoV-2 variant, Omicron, shows rapid replication in human primary nasal epithelial cultures and efficiently uses the endosomal route of entry, bioRxiv, doi: 10.1101/2021.12.31.474653.
- Chan, K. K., Tan, T. J. C., Narayanan, K. K., and Procko, E. (2021) An engineered decoy receptor for SARS-CoV-2 broadly binds protein S sequence variants, Sci. Adv., 7, doi: 10.1126/sciadv.abf1738.
- Lythgoe, K. A., Hall, M., Ferretti, L., de Cesare, M., MacIntyre-Cockett, G., Trebes, A., Andersson, M., Otecko, N., Wise, E. L., Moore, N., Lynch, J., Kidd, S., Cortes, N., Mori, M., Williams, R., Vernet, G., Justice, A., Green, A., Nicholls, S. M., Ansari, M. A., et al. (2021) SARS-CoV-2 within-host diversity and transmission, Science, 372, doi: 10.1126/science.abg0821.
- Mendes-Correa, M. C., Salomao, M. C., Ghilardi, F., Tozetto-Mendoza, T. R., Santos Villas-Boas, L., de Paula, A. V., Paiao, H. G. O., da Costa, A. C., Leal, F. E., Ferraz, A. B. C., Sales, F. C. S., Claro, I. M., Ferreira, N. E., Pereira, G. M., da Silva, A. R., Jr., Freire, W., Espinoza, E. P. S., Manuli, E. R., Romano, C. M., de Jesus, J. G., et al. (2023) SARS-CoV-2 detection and culture in different biological specimens from immunocompetent and immunosuppressed COVID-19 patients infected with two different viral strains, Viruses, 15, 1270, doi: 10.3390/v15061270.
- Markov, P. V., Ghafari, M., Beer, M., Lythgoe, K., Simmonds, P., Stilianakis, N. I., and Katzourakis, A. (2023) The evolution of SARS-CoV-2, Nat. Rev. Microbiol., 21, 361-379, doi: 10.1038/s41579-023-00878-2.
- Leitao, I. C., Calil, P. T., Galliez, R. M., Moreira, F. R. R., Mariani, D., Castineiras, A. C. P., da Silva, G. P. D., Maia, R. A., Correa, I. A., Monteiro, F. L. L., de Souza, M. R. M., Goncalves, C. C. A., Higa, L. M., de Jesus Ribeiro, L., Fonseca, V. W. P., Bastos, V. C., Voloch, C. M., Faffe, D. S., da Costa Ferreira, O., Jr., Tanuri, A., et al. (2021) Prolonged SARS-CoV-2 positivity in immunocompetent patients: virus isolation, genomic integrity, and transmission risk, Microbiol. Spectr., 9, e0085521, doi: 10.1128/Spectrum.00855-21.
- Wang, Q., Ye, S. B., Zhou, Z. J., Li, J. Y., Lv, J. Z., Hu, B., Yuan, S., Qiu, Y., and Ge, X. Y. (2023) Key mutations on spike protein altering ACE2 receptor utilization and potentially expanding host range of emerging SARS-CoV-2 variants, J. Med. Virol., 95, e28116, doi: 10.1002/jmv.28116.
- Shu, C. J., Huang, X., Tang, H. H., Mo, D. D., Zhou, J. W., and Deng, C. (2021) Mutations in spike protein and allele variations in ACE2 impact targeted therapy strategies against SARS-CoV-2, Zool. Res., 42, 170-181, doi: 10.24272/ j.issn.2095-8137.2020.301.
- Erausquin, E., Glaser, F., Fernandez-Recio, J., and Lopez-Sagaseta, J. (2022) Structural bases for the higher adherence to ACE2 conferred by the SARS-CoV-2 spike Q498Y substitution, Acta Crystallogr. D Struct. Biol., 78, 1156-1170, doi: 10.1107/S2059798322007677.
- Shah, M., and Woo, H. G. (2021) Omicron: a heavily mutated SARS-CoV-2 variant exhibits stronger binding to ACE2 and potently escapes approved COVID-19 therapeutic antibodies, Front. Immunol., 12, 830527, doi: 10.3389/ fimmu.2021.830527.
- Huang, C., Yang, Y., Yang, P., Wang, F., Li, X., Song, X., Wang, Y., Yu, C., Wang, X., and Wang, S. (2022) A robust reporting system for measurement of SARS-CoV-2 spike fusion efficiency, Signal. Transduct. Target Ther., 7, 179, doi: 10.1038/s41392-022-01037-4.
- McMahan, K., Giffin, V., Tostanoski, L. H., Chung, B., Siamatu, M., Suthar, M. S., Halfmann, P., Kawaoka, Y., Piedra-Mora, C., Jain, N., Ducat, S., Kar, S., Andersen, H., Lewis, M. G., Martinot, A. J., and Barouch, D. H. (2022) Reduced pathogenicity of the SARS-CoV-2 omicron variant in hamsters, Med, 3, 262-268.e264, doi: 10.1016/ j.medj.2022.03.004.
- Wang, P., Nair, M. S., Liu, L., Iketani, S., Luo, Y., Guo, Y., Wang, M., Yu, J., Zhang, B., Kwong, P. D., Graham, B. S., Mascola, J. R., Chang, J. Y., Yin, M. T., Sobieszczyk, M., Kyratsous, C. A., Shapiro, L., Sheng, Z., Huang, Y., and Ho, D. D. (2021) Antibody resistance of SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.7, Nature, 593, 130-135, doi: 10.1038/ s41586-021-03398-2.
- Singh, A., Steinkellner, G., Kochl, K., Gruber, K., and Gruber, C. C. (2021) Serine 477 plays a crucial role in the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with the human receptor ACE2, Sci. Rep., 11, 4320, doi: 10.1038/s41598- 021-83761-5.
- Mondeali, M., Etemadi, A., Barkhordari, K., Mobini Kesheh, M., Shavandi, S., Bahavar, A., Tabatabaie, F. H., Mahmoudi Gomari, M., and Modarressi, M. H. (2023) The role of S477N mutation in the molecular behavior of SARS-CoV-2 spike protein: an in silico perspective, J. Cell Biochem., 124, 308-319, doi: 10.1002/jcb.30367.
- Zhao, H., Lu, L., Peng, Z., Chen, L. L., Meng, X., Zhang, C., Ip, J. D., Chan, W. M., Chu, A. W., Chan, K. H., Jin, D. Y., Chen, H., Yuen, K. Y., and To, K. K. (2022) SARS-CoV-2 Omicron variant shows less efficient replication and fusion activity when compared with Delta variant in TMPRSS2-expressed cells, Emerg. Microbes Infect., 11, 277-283, doi: 10.1080/22221751.2021.2023329.
- Starr, T. N., Greaney, A. J., Stewart, C. M., Walls, A. C., Hannon, W. W., Veesler, D., and Bloom, J. D. (2022) Deep mutational scans for ACE2 binding, RBD expression, and antibody escape in the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 receptor-binding domains, PLoS Pathog., 18, e1010951, doi: 10.1371/journal.ppat.1010951.
- Cao, Y., Yisimayi, A., Jian, F., Song, W., Xiao, T., Wang, L., Du, S., Wang, J., Li, Q., Chen, X., Yu, Y., Wang, P., Zhang, Z., Liu, P., An, R., Hao, X., Wang, Y., Wang, J., Feng, R., Sun, H., et al. (2022) BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection, Nature, 608, 593-602, doi: 10.1038/s41586-022-04980-y.
- Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., Feldman, J., Pavlovic, M. N., Gregory, D. J., Poznansky, M. C., Sigal, A., Schmidt, A. G., Iafrate, A. J., Naranbhai, V., and Balazs, A. B. (2021) Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity, Cell, 184, 2372-2383.e2379, doi: 10.1016/j.cell.2021.03.013.
- Cao, Y., Jian, F., Wang, J., Yu, Y., Song, W., Yisimayi, A., Wang, J., An, R., Chen, X., Zhang, N., Wang, Y., Wang, P., Zhao, L., Sun, H., Yu, L., Yang, S., Niu, X., Xiao, T., Gu, Q., Shao, F., et al. (2023) Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution, Nature, 614, 521-529, doi: 10.1038/s41586-022-05644-7.
- Kaku, C. I., Starr, T. N., Zhou, P., Dugan, H. L., Khalife, P., Song, G., Champney, E. R., Mielcarz, D. W., Geoghegan, J. C., Burton, D. R., Raiees, A., Bloom, J. D., and Walker, L. M. (2022) Evolution of antibody immunity following Omicron BA.1 breakthrough infection, bioRxiv, doi: 10.1101/2022.09.21.508922.
- Alsoussi, W. B., Malladi, S. K., Zhou, J. Q., Liu, Z., Ying, B., Kim, W., Schmitz, A. J., Lei, T., Horvath, S. C., Sturtz, A. J., McIntire, K. M., Evavold, B., Han, F., Scheaffer, S. M., Fox, I. F., Mirza, S. F., Parra-Rodriguez, L., Nachbagauer, R., Nestorova, B., Chalkias, S., et al. (2023) SARS-CoV-2 Omicron boosting induces de novo B cell response in humans, Nature, 617, 592-598, doi: 10.1038/s41586-023-06025-4.
- Van der Made, C. I., Netea, M. G., van der Veerdonk, F. L., and Hoischen, A. (2022) Clinical implications of host genetic variation and susceptibility to severe or critical COVID-19, Genome Med., 14, 96, doi: 10.1186/s13073- 022-01100-3.
- Nhung, V. P., Ton, N. D., Ngoc, T. T. B., Thuong, M. T. H., Hai, N. T. T., Oanh, K. T. P., Hien, L. T. T., Thach, P. N., Hai, N. V., and Ha, N. H. (2022) Host genetic risk factors associated with COVID-19 susceptibility and severity in Vietnamese, Genes (Basel), 13, 1884, doi: 10.3390/genes13101884.
- Pietzner, M., Chua, R. L., Wheeler, E., Jechow, K., Willett, J. D. S., Radbruch, H., Trump, S., Heidecker, B., Zeberg, H., Heppner, F. L., Eils, R., Mall, M. A., Richards, J. B., Sander, L. E., Lehmann, I., Lukassen, S., Wareham, N. J., Conrad, C., and Langenberg, C. (2022) ELF5 is a potential respiratory epithelial cell-specific risk gene for severe COVID-19, Nat. Commun., 13, 4484, doi: 10.1038/s41467-022-31999-6.
- Smatti, M. K., Alkhatib, H. A., Al Thani, A. A., and Yassine, H. M. (2022) Will host genetics affect the response to SARS-CoV-2 vaccines? Historical precedents, Front. Med. (Lausanne), 9, 802312, doi: 10.3389/fmed.2022.802312.
- Cappadona, C., Rimoldi, V., Paraboschi, E. M., and Asselta, R. (2023) Genetic susceptibility to severe COVID-19, Infect. Genet. Evol., 110, 105426, doi: 10.1016/j.meegid.2023.105426.
- Delanghe, J. R., and Speeckaert, M. M. (2022) Host polymorphisms and COVID-19 infection, Adv Clin Chem, 107, 41-77, doi: 10.1016/bs.acc.2021.07.002.
- Andolfo, I., Russo, R., Lasorsa, V. A., Cantalupo, S., Rosato, B. E., Bonfiglio, F., Frisso, G., Abete, P., Cassese, G. M., Servillo, G., Esposito, G., Gentile, I., Piscopo, C., Villani, R., Fiorentino, G., Cerino, P., Buonerba, C., Pierri, B., Zollo, M., Iolascon, A., et al. (2021) Common variants at 21q22.3 locus influence MX1 and TMPRSS2 gene expression and susceptibility to severe COVID-19, iScience, 24, 102322, doi: 10.1016/j.isci.2021.102322.
- Zguro, K., Fallerini, C., Fava, F., Furini, S., and Renieri, A. (2022) Host genetic basis of COVID-19: from methodologies to genes, Eur. J. Hum. Genet., 30, 899-907, doi: 10.1038/s41431-022-01121-x.
- Verma, A., Minnier, J., Wan, E. S., Huffman, J. E., Gao, L., Joseph, J., Ho, Y. L., Wu, W. C., Cho, K., Gorman, B. R., Rajeevan, N., Pyarajan, S., Garcon, H., Meigs, J. B., Sun, Y. V., Reaven, P. D., McGeary, J. E., Suzuki, A., Gelernter, J., Lynch, J. A., et al. (2022) A MUC5B gene polymorphism, rs35705950-T, confers protective effects against COVID-19 hospitalization but not severe disease or mortality, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 206, 1220-1229, doi: 10.1164/ rccm.202109-2166OC.
- Arnold, C. G., Konigsberg, I., Adams, J. Y., Sharma, S., Aggarwal, N., Hopkinson, A., Vest, A., Campbell, M., Boorgula, M., Yang, I., Gignoux, C., Barnes, K. C., and Monte, A. A. (2022) Epigenetics may characterize asymptomatic COVID-19 infection, Hum. Genomics, 16, 27, doi: 10.1186/s40246-022-00401-3.
- Zietz, M., Zucker, J., and Tatonetti, N. P. (2020) Associations between blood type and COVID-19 infection, intubation, and death, Nat. Commun., 11, 5761, doi: 10.1038/s41467-020-19623-x.
- Franchini, M., Capra, F., Targher, G., Montagnana, M., and Lippi, G. (2007) Relationship between ABO blood group and von Willebrand factor levels: from biology to clinical implications, Thromb. J., 5, 14, doi: 10.1186/ 1477-9560-5-14.
- Wu, S. C., Arthur, C. M., Jan, H. M., Garcia-Beltran, W. F., Patel, K. R., Rathgeber, M. F., Verkerke, H. P., Cheedarla, N., Jajosky, R. P., Paul, A., Neish, A. S., Roback, J. D., Josephson, C. D., Wesemann, D. R., Kalman, D., Rakoff-Nahoum, S., Cummings, R. D., and Stowell, S. R. (2023) Blood group A enhances SARS-CoV-2 infection, Blood, 142, 742-747, doi: 10.1182/blood.2022018903.
- MacGowan, S. A., Barton, M. I., Kutuzov, M., Dushek, O., van der Merwe, P. A., and Barton, G. J. (2022) Missense variants in human ACE2 strongly affect binding to SARS-CoV-2 Spike providing a mechanism for ACE2 mediated genetic risk in Covid-19: A case study in affinity predictions of interface variants, PLoS Comput. Biol., 18, e1009922, doi: 10.1371/journal.pcbi.1009922.
- Chen, F., Zhang, Y., Li, X., Li, W., Liu, X., and Xue, X. (2021) The impact of ACE2 polymorphisms on COVID-19 disease: susceptibility, severity, and therapy, Front. Cell. Infect. Microbiol., 11, 753721, doi: 10.3389/fcimb.2021.753721.
- Hattori, T., Saito, T., Okuya, K., Takahashi, Y., Miyamoto, H., Kajihara, M., Igarashi, M., and Takada, A. (2022) Human ACE2 genetic polymorphism affecting SARS-CoV and SARS-CoV-2 entry into cells, Microbiol. Spectr., 10, e0087022, doi: 10.1128/spectrum.00870-22.
Supplementary files