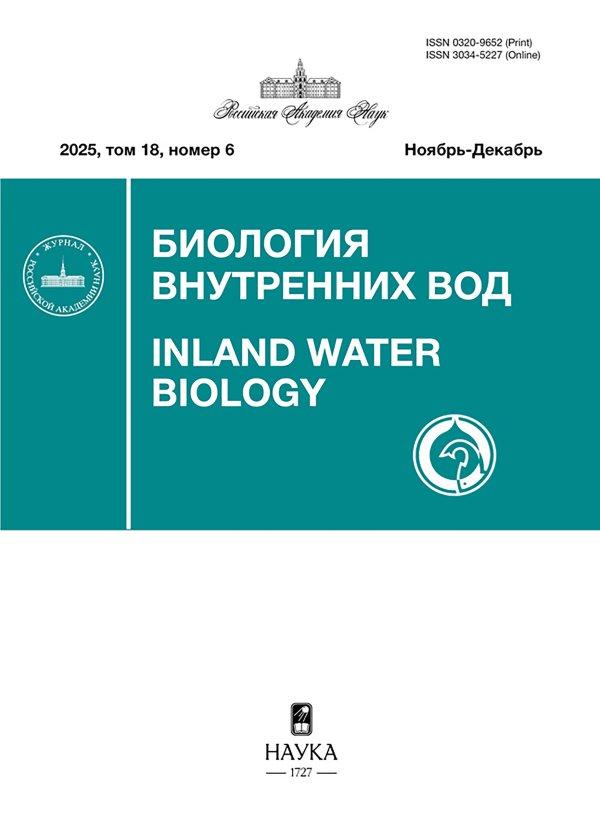Genetic Features of the Bream Abramis brama from the Lake System of the Sebezhsky National Park
- Authors: Lobyrev F.S.1, Semenova A.V.1,2, Melnikova M.N.1, Pivovarov E.A.1, Pavlov S.D.1, Khokhryakov V.R.3, Kislitsa E.A.1
-
Affiliations:
- Moscow State University
- Institute of General Genetisc of the Russian Academy of Sciences named after N.I. Vavilov
- Sebezhsky National Park
- Issue: Vol 17, No 4 (2024)
- Pages: 604-613
- Section: ИХТИОЛОГИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0320-9652/article/view/269871
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320965224040087
- EDN: https://elibrary.ru/YJTHBQ
- ID: 269871
Cite item
Full Text
Abstract
For the first time, the analysis of the genetic variability of microsatellite DNA for five loci in the bream Abramis brama (L.) from lakes Sebezhskoye and Necheritsa of the Sebezhsky National Park, Sebezhsky district of the Pskov region, included in the lake system, was carried out. The results obtained demonstrate the uniformity of estimates of the genetic variability of bream in the lake system. Estimates of the allelic diversity of microsatellite loci and the expected heterozygosity of local bream groups did not differ significantly. The total genetic differentiation of bream was θ = 0.004. 95% CI (-0.01; 0.01) and was significantly insignificant. The population-genetic structure based on the studied multilocus genotypes has not been revealed by the Bayesian analysis method. The result indicate a high level of gene flow between local bream groupings and make it possible to assume the presence of a genetically unified panmixed population in the Sebezh lakes system.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ1
Концепция озера как обособленной единицы на протяжении более чем столетия была фундаментальным принципом лимнологии при исследовании пресноводных экосистем (Forbes, 1925; Magnuson et al., 1998). Неявно допускалось, что даже при наличии связи озера с другими водоемами, озерная биота остается функционально обособленной, а сами организмы ведут оседлый образ жизни (Gerking, 1959). Убеждение в неделимости озерного сообщества до определенного момента оставалось весьма привлекательной точкой зрения, поскольку в этом случае существенно упрощалась интерпретация исследовательских данных (Fausch, Young, 1995; Gowan, Fausch, 1995; Magnuson, Kratz, 2000). Однако по мере накопления эмпирического материала взгляд на проблему менялся, сформировав текущее представление о популяции вида в пределах нескольких связанных между собой озер как о единой динамической системе (Turbek et al., 2018; Whitlock et al., 2018).
Одним из важнейших направлений популяционной ихтиологии становится изучение пространственно-временной структуры популяции гидробионтов, неразрывно связанной с движением. Конкретные условия формируют поведенческие экотипы, характеризующиеся спектром различных типов передвижения, позволяющие виду распределяться по водоему и эффективно использовать ресурсы (Grabowski et al., 2011; Turbek et al., 2018; Whitlock et al., 2018; Novoselov et al., 2023). Миграционные стратегии одного и того же вида могут варьировать в широких пределах в зависимости от генетически детерминированных особенностей поведения и общей экологической обстановки (Brodersen et al., 2011; Hodge et al., 2016; Debes et al., 2020); сама же поведенческая изменчивость проявляется в продолжительности миграционных циклов и в “выборе” районов миграции с характерными параметрами среды, что формирует уникальную пространственно-временную структуру популяции вида (Brodersen et al., 2014).
К основным методам изучения пространственно-временного распределения рыб относятся методы гидроакустической телеметрии (Cooke et al., 2004; Базаров, 2011), телеметрии с использованием трекеров (Huuskonen et al., 2012; Brodersen et al., 2019), мечения и повторного облова (Риккер, 1979; Goethel et al., 2011) и методы генетического анализа (Гордеева, 2014; Evans et al., 2017; Семенова и др., 2021). Каждый из подходов обладает своими достоинствами и недостатками, баланс которых определяет выбор того или иного метода для решения конкретной задачи. Важная роль в современных исследованиях отводится изучению внутривидовой изменчивости с использованием молекулярно–генетических маркеров. Данный методический подход является важнейшим для оценки степени генетической дивергенции и репродуктивной изоляции природных популяций (Алтухов, 2003), позволяя с высокой долей уверенности идентифицировать дискретные единицы разнообразия и устанавливать критерии различия внутривидовых группировок (Животовский, 2013).
Один из традиционных объектов популяционных исследований – лещ Abramis brama (L.) – ценный промысловый вид с высокой степенью неоднородности внутривидовой структуры на всем ареале, где лещ из различных популяций демонстрирует многообразие особенностей миграционного поведения (Backiel, Zawisza, 1968; Lyons, Lucas, 2002; Skov et al., 2011). Пространственно-временная структура популяций леща в различных водоемах помимо естественных факторов среды формируется под комплексным воздействием промысла и загрязнения, что особенно актуально в индустриально развитых регионах (Баранов, 1971; Лапирова, Заботкина, 2010). В этой связи изучение леща в водоемах, находящихся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), минимально подверженных антропогенному воздействию, может дать ценную информацию о естественных, не измененных негативным воздействием поведенческих особенностей этого вида, а также составить более детальное представление о его природных генофондах. Информация о генетической изменчивости популяций леща в российской части ареала немногочисленна, исследования популяционной структуры вида с использованием микросателлитных локусов проведены в основном для нескольких группировок леща Каспийского бассейна (Ghasemi et al., 2007; Zeinab et al., 2014; Hosseinnia et al., 2015).
Национальный парк “Себежский” – природоохранное и научно-исследовательское учреждение, где в полной мере совмещаются как культурно-просветительская и рекреационная активность, так и интересы академической и прикладной науки (Лобырев и др., 2023). В 115 озерах парка, расположенных на площади ~50 020 га, обитают ~30 видов рыб и один вид круглоротых (Александров, Курьянович, 2001). Лещ населяет все крупные озера парка и является важным компонентом ихтиоценоза и привлекательным объектом любительского рыболовства. Особый интерес представляет изучение леща из крупнейшей системы себежских озер Себежское – Орано – Глыбочно – Белое – Озерявки – Нечерица с привлечением методов генетического анализа, позволяющих выявить степень генетической дифференциации и репродуктивных взаимоотношений отдельных группировок вида на исследуемой территории.
Цель настоящего исследования – оценить уровень генетической изменчивости леща в себежской озерной системе на основе двух выборок, взятых из наиболее удаленных друг от друга озер Себежское и Нечерица.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве модельных выбраны две группировки леща из озер Себежское (39 экз.) и Нечерица (54 экз.) – крупнейших озер НП “Себежский”, входящих в единую озерную систему. Максимальные длина и ширина оз. Себежское 7.6 и 3.4 км соответственно, площадь 15.8 км2, протяженность береговой линии ~26 км; озеро состоит из двух неравных частей площадью 4.3 и 11.5 км2. На берегу оз. Себежское расположен г. Себеж, береговая линия урбанизирована. Длина оз. Нечерица 8.6 км, максимальная ширина 3.2 км; озеро состоит из трех частей с площадью 2.3 км2, 2.1 км2 и 7.7 км2 соответственно, протяженность береговой линии ~25 км. Озеро соединяется через реки Свольна и Дрисса с р. Северной Двиной. Озеро почти полностью окружено лесом.
Материал собирали в период 22 сентября – 2 октября 2022 г. на озерах Себежское и Нечерица из двух локальностей, удаленных друг от друга на расстояние по прямой ~12 км (рис. 1). Лов проводили жаберными сетями ячеи 35, 40, 45, 50, 60, 70 и 80 мм. Средняя глубина лова 3.5–4 м, продолжительность лова в среднем 10 ч. Для биологического анализа использовали стандартную методику (Правдин, 1966). Первичный анализ материала включал измерение массы и длины по Смитту (FL) каждой особи, определение пола и оценку возраста по чешуе. Для генетического анализа у рыб непосредственно после вылова брали кусочек грудного плавника, фиксировали и хранили в 96%-ном этиловом спирте.
Рис. 1. Карта-схема района исследования (Псковская обл., Себежский р-н). 1 – район взятия выборки леща в оз. Себежское, 2 – в оз. Нечерица.
Для выделения тотальной ДНК использовали набор реактивов QIAGEN DNeasyTM (QIAGEN, Германия) согласно протоколу производителя. Для исследования генетической изменчивости тестировали семь микросателлитных локусов: Rser10, IС654, MFW7, MFW26, Bl2-114, Bl1-153, M4, описание которых дано в работах (Hoseinnia et al., 2014, 2015). При ПЦР – амплификации использовали 5 мкл готовых смесей 5X ScreenMix-HS (Евроген, Россия) с добавлением 10 мкл воды, 5 мкл смеси праймеров (0.5 мкМ) и 5 мкл ДНК. Амплификацию проводили при следующем режиме: 2 мин при 94°С, 35 циклов: 30 с – 94°С, 30 с – 72°С, 1 мин – 72°С; 10 мин при 72°С. Температура отжига для индивидуальной пары праймеров (X) была: Rser10 – 55°С, IС654 – 52°С, MFW7 – 51°С, M4, MFW26, Bl2-114 – 49°С, Bl1-153 – 53°С. ПЦР продукт для локусов M4 и MFW26 получить не удалось.
В программе Micro-Checker 2.2.3 данные исследовали на возможные ошибки генотипирования, а также присутствие нуль–аллелей (Van Oosterhout et al., 2004). Программу GDA 1.0 (Lewis, Zaykin, 2001) использовали для оценки частот аллелей, аллельного разнообразия (A), ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности (HE, HO) степени дифференциации популяций θ (аналог FST) (Вейр, 1995). Отклонения от равновесия Харди–Вайнберга тестировали с использованием коэффициента инбридинга FIS в программе GENEPOP v. 3.4 (Raymond, Rousset, 1995), достоверность оценивали с применением точных тестов Фишера. Оценки аллельного разнообразия, скорректированные по минимальному размеру выборки (AR), получены в программе FSTAT v. 2.9.3 (Goudet, 2001). Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) проводили в программе Excel для оценки различий AR и HE между выборками. Уровень статистической значимости для множественных тестов корректировали с использованием процедуры Бонферрони (Rice, 1989).
Для оценки возможного влияния демографических изменений (снижения эффективной численности, так называемое “горлышко бутылки”) на генетическое разнообразие в популяциях леща использовали программу BOTTLENECK со стандартными параметрами. Проводили тестирование гипотезы об избытке гетерозиготности, поскольку в процессе уменьшения размера популяции потеря числа аллелей происходит быстрее, чем уменьшение гетерозиготности (Piry et al., 1999).
Поток генов оценивали по показателю эффективного числа мигрантов Nm (Slatkin, 1985) в программе GENEPOP v. 3.4, а также как число действительных иммигрантов на поколение Nem на основании формулы FST = 1/4Nem + 1 (Wright, 1951; Weir, Hill, 2002).
Для определения возможной генетической структуры леща на основании мультилокусных генотипов была использована программа STRUCTURE v. 2.3.4 (Pritchard, 2000). Использовали модель, допускающую генетическое смешение и корреляцию аллельных частот среди кластеров, с 105 первоначальными (впоследствии отброшенными) и 106 MCMC (Метод Монте-Карло для марковских цепей) итерациями, для К от 1 до 4, по 10 повторов для каждой величины К.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Размерно-возрастной состав леща в выборках из оз. Себежское и оз. Нечерица имеет значительные различия, несмотря на одинаковое промысловое усилие. Средняя выборочная длина леща Lsm оз. Себежское (n = 39) была 31.0 ± 4 см, средняя выборочная масса 356 ± 79 г. Средний возраст особей 6 лет, диапазон возрастных групп 4–8 лет, доля самцов и самок 0.51 и 0.49 соответственно. Средняя выборочная длина леща Lsm оз. Нечерица (n = 54) достигала 39.0 ± 10 см, средняя выборочная масса – 712 ± 511 г. Средний возраст особей в выборке 10 лет, диапазон возрастных групп 5–16 лет, доля самцов и самок 0.44 и 0.56 соответственно. Существенное различие размерно-возрастных характеристик выборочных совокупностей из двух озер объясняется случайными причинами на фоне небольших объемов выборок, тем не менее, достаточных для достоверных оценок генетической изменчивости изучаемых группировок.
Все исследованные микросателлитные локусы были полиморфны, за исключением локуса Bl1-153, число аллелей в остальных локусах варьировало от двух (Rser10) до 15 (IС654), всего обнаружено 36 различных аллелей. Распределение частот аллелей полиморфных локусов в выборках представлено на рис. 2. Наибольшую изменчивость в выборках наблюдали по локусам IС654 (А = 16, HE = 0.887) и Bl2-114 (A = 13, HE = 0.781). Возможных ошибок генотипирования и нуль-аллелей не обнаружено. Тесты на соответствие наблюдаемых генотипических распределений теоретическому распределению Харди–Вайнберга достоверно значимых отклонений после применения коррекции Бонферрони не выявили. Основные характеристики генетической изменчивости в выборках леща представлены в табл. 1.
Таблица 1. Генетическая изменчивость в выборках леща озер Нечерица и Себежское
Выборки/локусы | Bl1-153 | MFW7 | IС654 | Rser10 | Bl2-114 | Среднее в выборках |
оз. Нечерица | ||||||
n A/AR HE HO | 48 1/1 0.000 0.000 | 48 4/3.75 0.227 0.250 | 46 15/14.7 0.900 0.996 | 48 2/2 0.503 0.437 | 48 11/10.2 0.771 0.890 | 47.6 6.6/6.3 0.480 0.516 |
оз. Себежское | ||||||
n A/AR HE HO | 40 1/1 0.000 0.000 | 38 3/3 0.214 0.236 | 40 12/11.9 0.865 0.990 | 40 2/2 0.506 0.575 | 40 8/7.9 0.780 0.910 | 39.6 5.2/5.2 0.516 0.547 |
Среднее в локусах | ||||||
A/AR HE HO | 1/1 0.000 0.000 | 4/3.38 0.220 0.244 | 16/14.6 0.887 0.994 | 2/2 0.501 0.500 | 13/10.1 0.781 0.905 | – – – |
Примечание. n – число исследованных особей, А – число аллелей, AR – число аллелей, скорректированное на объем выборки, HE – ожидаемая гетерозиготность, HO – наблюдаемая гетерозиготность.
Рис. 2. Гистограммы распределения частот аллелей полиморфных локусов в выборках леща оз. Нечерица (1) и оз. Себежское (2).
Тестирование выборок леща на сокращение численности популяции в недавнем прошлом не показало достоверного избытка гетерозиготности (0.156 < р < 0.937) и, соответственно, свидетельств о прохождении “горлышка бутылки”. Средние значения аллельного разнообразия и ожидаемой гетерозиготности в выборках леща из оз. Нечерица и оз. Себежское достоверно не различались (AR: F = 0.122, р = 0.735; HE: F = 0.0009, р = 0.976). Оценка общей генетической дифференциации в величинах θ была низкой и достоверно незначимой: θ = 0.004 с 95%-ным доверительным бутстреп–интервалом, CI (–0.01; 0.01). Поток генов (Nem) между группировками леща исследуемых озер, исходя из оценки генетической дифференциации θ (FST), составляет 62.3 экз., эффективное число мигрантов (Nm) по алгоритму Слаткина (Slatkin, 1985) равно 15.0 экз. Тест на определение генетической структуры внутри выборок в программе STRUCTURE не подтвердил ее наличие.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изученные генетические особенности выборок леща из разных локальностей демонстрируют средний уровень генетической изменчивости по микросателлитным локусам, которые в целом, соответствуют оценкам генетической дифференциации, полученным для пресноводных рыб (H0 = 0.54 ± 0.25, Na = 9.1 ± 6.1; Dewoody, Avise, 2000). Показатели изменчивости микросателлитных локусов были сходны в изученных выборках и достоверно не различались, однако у леща оз. Себежского аллельное разнообразие (AR) в численном выражении несколько ниже, чем у рыб из оз. Нечерица (табл. 1). Оценки наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности у леща в исследуемых локальностях при этом были весьма близки. Возможно, наблюдаемое небольшое снижение аллельного разнообразия является следствием варьирования вклада в воспроизводство отдельных поколений леща, и некоторых флуктуаций генетической структуры в связи с этим. Кроме того, число аллелей в большей степени зависит от эффективного размера популяции, чем показатели гетерозиготности (Nei et al., 1975), что может быть следствием снижения репродуктивной численности группировки оз. Себежское в определенный период времени. При этом тест BOTTLENECK на снижение эффективной численности в прошлом не показал вероятности этого события. Следует отметить, что микросателлиты менее “чувствительны” к событиям редукции численности, поскольку популяции теряют значительно больше генетической изменчивости по митохондриальным генам по сравнению с ядерными (Avise, 1994). Не исключено, однако, что наблюдаемое явление случайно и отражает ошибки выборочности.
Результаты анализа изменчивости микросателлитных локусов показали низкий недостоверный уровень генетической дифференциации группировок леща оз. Себежского и оз. Нечерица, что с высокой долей уверенности позволяет говорить о значительном обмене генами и принадлежности локальных группировок к одной панмиксной популяции. Это подтверждается и высокими расчетными оценками потока генов (Nem, Nm) косвенно указывающими на отсутствие тенденции к дивергенции исследуемых группировок (Holsinger, Weir, 2009). Справедливым будет допустить, что если генетическая однородность показана для групп леща, существенно различающихся по среднему размеру и возрасту, то тем более следует ожидать генетической однородности для рыб из одновозрастных или одноразмерных группировок. Кроме того, если генетическая однородность группировок наблюдается в двух максимально удаленных друг от друга точках озерной системы, то с высокой вероятностью она будет иметь место в любых других точках, находящихся между ними.
Генетическое сходство леща из озер, удаленных друг от друга на расстоянии ~12 км, свидетельствует о миграции вида по всей системе себежских озер, что согласуется с поведенческими особенностями данного вида в озерных системах (Grift et al., 2001; Lammens et al., 2002; Brodersen et al., 2019; Winter et al., 2021a, 2021b). Индивидуальные перемещения гидробионтов между отдельными водоемами – так называемый номадизм, или “кочевничество” (Myers, 1949; Brodersen et al., 2019) – являются краеугольным камнем теории метапопуляции и затрагивают все уровни организации водной биоты (Schmutz, Jungwirth, 1999; Richard, Armstrong, 2010; Салменкова, 2018). Данным типом перемещения характеризуются преимущественно потамодромные миграции, совершаемые некоторыми видами рыб, в частности лещом, в пределах одной пресноводной системы (Lyons, Lucas, 2002; Brodersen et al., 2019; Данилов и др., 2020).
Межозерные перемещения леща – явление многогранное, инициируемое комплексом факторов среды, степень влияния каждого из которых остается вопросом дискуссионным. Однако имеется ряд общих моментов, характерных для большинства озерных популяций. Мигрирующие особи – почти всегда крупные производители, способные перемещаться на значительные расстояния и при наличии подходящих условий вступать в нерест в том из озер, где по ряду причин они оказалась (Brodersen et al., 2019; Winter et al., 2021а, 2021b). Одним из ключевых стимулов, инициирующих межозерные миграции, оказывается трофический фактор. Показано, что номадизм часто ассоциируется с доступностью кормового ресурса (Schulz, Berg, 1987), когда при уменьшении биомассы корма возрастает активность поискового поведения леща и увеличивается вероятность перехода из одного озера в другое (Brodersen и др., 2019; Winter и др., 2021а, 2021b). Важным фактором является температура воды; отмечено, что значительная доля межозерных перемещений приходится на весну и осень, в периоды значительных колебаний температуры, хотя в той или иной мере номадизм имеет место в течение всего года (Brodersen et al., 2019; Winter et al., 2021а, 2021b). Межозерные перемещения могут стимулироваться наличием течения в протоках между озерами, что связано с переносом кормовых организмов и локальным изменением кислородного режима (Lyons, Lucas, 2002). Это, в частности, актуально для системы себежских озер, где уклон рельефа создает течение в протоках порядка ~0.2 м/с.
Согласно отчету Псковского отделения ГОСНИИ озерного и речного рыбного хозяйства “Биологическое обоснование любительского и спортивного рыболовства на водоемах государственного национального природного парка “Себежский”2 лещ в достаточном количестве обитает во всех озерах системы, что свидетельствует о наличии в каждом из озер локальной популяции с характерными плотностными параметрами: оз. Себежское – 107 кг/га, оз. Орано – 108 кг/га, оз. Глыбочно – 100 кг/га, оз. Белое – 39 кг/га, оз. Озерявки – 93 кг/га, оз. Нечерица – 141 кг/га (данные на 1990 г). Таким образом, каждое из озер имеет свою емкость среды, определяемую совокупностью конкретных величин абиотических и биотических факторов (Заика, 1981), способную “вместить” определенное количество леща в составе других видов и имеющую определенную “упругость” по отношению к количеству мигрантов из смежных озер. С учетом фактора номадизма численность леща в любом из озер к концу данного момента времени, например, года, складывается из количества (i) родившихся особей, (ii) элиминированных, (iii) зашедших в озеро и (vi) вышедших из него. Отсюда, в любой промежуток времени совокупность леща в любом озере системы можно представить как сумму статичной (“оседлой”) и динамической (мигрирующей) групп, доли которых находятся в равновесии, а особи в этих группах взаимозаменяемы. Динамическая доля популяции леща существенно меньше доли статичной – в противном случае лещ периодически накапливался бы в одних озерах и исчезал в других, а также в больших количествах скапливался бы в узких протоках, чего не было отмечено биологами парка в ходе многолетних наблюдений (источник: Хохряков В.Р.). Тем не менее, оценки генетической дифференциации θ (FST) = 63.2 экз. и эффективного числа мигрантов Nm = 15.0 экз. показывают, что обмен особями между озерами весьма значительный. Вектор направления миграции леща здесь обусловлен вытянутой формой озерной системы, хотя в пределах каждого озера лещ перемещается случайным образом (чем характеризуется номадизм), причем средняя продолжительность жизни леща себежских озер такова (>16 лет), что любая мигрирующая особь теоретически способна вступить в нерест в любом из озер системы.
Факт перемещения леща по озерной системе, с одной стороны, и стабильность плотностных параметров в каждом из озер, с другой стороны, дают основание рассматривать метапопуляцию леща в экосистеме себежских озер как своего рода буферную систему, способную поддерживать на определенном уровне численность собственного вида в любом из смежных озер. Регуляторные свойства такой системы будут проявляться особо, например, при точечном негативном воздействии, приводящем к локальному падению численности вида; в этом случае переход леща в места с вынужденно низкой плотностью можно расценивать как миграцию собственного вида со смежных территорий, не затронутых или в меньшей степени затронутых воздействием. Наименее подвергающееся внешнему воздействию озеро в системе озер, таким образом, может служить резерватом размерно-возрастного разнообразия леща и иметь потенциал для выравнивания количественных показателей испытавшей негативное воздействие локальной популяции в любом из озер системы. В этом случае пострадавшая экосистема будет восстанавливать численность популяции вида не только за счет своих собственных резервов, но и благодаря естественному притоку особей из смежных озер, что повышает в целом устойчивость всей системы ко внешнему воздействию.
По данным биологов парка (источник: Хохряков В.Р.), популяция леща оз. Себежское испытывает определенную промысловую нагрузку вследствие браконьерства и частично подвержена влиянию органического загрязнения, чему в немалой степени способствует урбанизация береговых территорий. Наоборот, оз. Нечерица, удаленное от оз. Себежское на ~12 км, почти полностью окружено лесом, а на восточном берегу расположена единственная и малонаселенная (~8–10 домов) д. Волоцня. Соответственно, локальную популяцию леща оз. Нечерица, в минимальной степени затронутую негативным воздействием, можно рассматривать как “донорскую” по отношению к группировкам леща в других озерах Себежской системы, в большей степени испытывающих антропогенную нагрузку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты демонстрируют однородность генетической структуры популяции леща в Себежской озерной системе, свидетельствуют о высоком уровне потока генов между локальными популяциями и дают основание предполагать наличие генетически единой популяции леща в системе Себежских озер. Поток генов (Nem) между группировками леща исследуемых озер, исходя из оценки генетической дифференциации θ (FST), равен 62.3 экз., эффективное число мигрантов (Nm) – 15.0 экз.; тест на определение генетической структуры внутри выборок не подтвердил ее наличие. Локальные озерные популяции можно рассматривать как динамические компоненты, тесно взаимодействующие друг с другом и вносящие свой вклад в целостность единой метапопуляции, в совокупности определяя ее характерные свойства. Комплексный анализ популяционных параметров, генетической структуры вида и факторов среды необходим для выявления особенностей функционирования метапопуляции, что дает возможность эффективно управлять биоресурсами как в стабильных условиях среды, так и меняющихся под действием антропогенных нагрузок. Особого внимания требует анализ уровня генетического разнообразия как одного из критериев оценки состояния популяций совместно с другими критериями, такими как численность, плотность, возрастной спектр. Совокупность данных характеристик позволяет объективно оценивать состояние популяций, определять перспективы их развития и рекомендовать меры охраны.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают глубокую благодарность Н.Н. Подоплекиной за всестороннюю поддержку исследований, а также всем инспекторам и сотрудникам Национального парка “Себежский”, участвовавшим в полевых работах.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Себежский". Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
1 Сокращения: НП – Национальный парк.
2 Feodor1974/Sebezhsky-fish-biomass-1990year
About the authors
F. S. Lobyrev
Moscow State University
Author for correspondence.
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Moscow
A. V. Semenova
Moscow State University; Institute of General Genetisc of the Russian Academy of Sciences named after N.I. Vavilov
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
M. N. Melnikova
Moscow State University
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Moscow
E. A. Pivovarov
Moscow State University
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Moscow
S. D. Pavlov
Moscow State University
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Moscow
V. R. Khokhryakov
Sebezhsky National Park
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Pskov Region, Sebezhsky District
E. A. Kislitsa
Moscow State University
Email: lobyrev@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Александров Ю.В., Курьянович В.И. 2001. Миноги (Petromyzonidae, Cyclostomata) и рыбы (Pisces) // Тр. Санкт-Петербург. общества естеств. Т. 4. С. 199.
- Алтухов Ю.П. 2003. Генетические процессы в популяциях. М.: ИКЦ “Академкнига”.
- Базаров М.И. 2011. Суточные вертикальные миграции леща Abramis brama // Вопр. ихтиологии. Т. 51. № 6. С 828. https://doi.org/10.1134/S0032945211050031
- Баранов Ф.И. 1971. Избранные труты. Теория рыболовства. Т. 3. М.: Пищ. пром-ть.
- Вейр Б. 1995. Анализ генетических данных. М.: Мир.
- Гордеева Н.В. 2014. Филогеография, генетическая изоляция и миграция у глубоководных рыб южной Атлантики // Вопр. ихтиологии. Т. 54. № 6. С. 654. https://doi.org/10.7868/S004287521406006X
- Данилов М.Б., Криксунов Е.А., Бобырев А.Е. и др. 2020. Динамика популяции леща Abramis brama Псковско-Чудского озера // Вопр. ихтиологии. Т. 60. № 4. С. 426. https://doi.org/10.31857/S0042875220040050
- Животовский Л.А. 2013. О методологии исследования популяционной организации вида по генетическим маркeрам (на примере горбуши Oncorhynchus gorbuscha) // Вопр. ихтиологии. Т. 53. № 3. С. 371. https://doi.org/10.7868/S0042875213030144
- Заика В.Е. 1981. Емкость среды – содержание понятия и его применение в экологии // Экология моря. Т. 7. С. 3.
- Лапирова Т.Б., Заботкина Е.А. 2010. Сравнительный анализ показателей иммунофизиологического состояния леща Abramis brama (L.) из различных по степени загрязнения участков Рыбинского водохранилища // Биология внутр. вод. № 2. С. 86. https://doi.org/10.1134/S1995082910020136
- Лобырев Ф.С., Пивоваров Е.А., Хохряков В.Р., Павлов С.Д. 2023. Популяционные характеристики плотвы, густеры и окуня в оз. Озерявки (национальный парк “Себежский”) // Тр. ВНИРО. Т. 191. С. 37. https://doi.org/10.36038/2307-3497-2023-191-37-52
- Риккер У.Е. 1979. Методы оценки и интерпретация биологических показателей популяций рыб. М.: Пищ. пром-сть.
- Салменкова Е. А. 2018. Популяционные системы, метапопуляции, биокомплексность // Успехи соврем. биол. Т. 138. № 1. С. 3. https://doi.org/10.7868/S0042132418010015
- Семенова А.В., Строганов А.Н., Рубцова Г.А., Рыбаков М.О. 2021. Генетическая структура тихоокеанской сельди Clupea pallasii Valenciennes, 1847 на микрогеографической шкале // Генетика. Т. 57. № 6. С. 682. https://doi.org/10.31857/S0016675821060096
- Avise J.C. 1994. Molecular markers, natural history and evolution. N.Y.: Chapman and Hall.
- Backiel T., Zawisza J. 1968. Synopsis of biological data on the bream Abramis brama (L.) // FAO Fisheries Synopsis. V. 36. P. 1.
- Brodersen J., Chapman B.B., Nilsson P.A. et al. 2014. Fixed and flexible: coexistence of obligate and facultative migratory strategies in a freshwater fish // PLoS ONE. 9:e90294. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090294
- Brodersen J., Hansen J.H., Skov C. 2019. Partial nomadism in large-bodied bream Abramis brama // Ecol. Freshwater Fish. V. 28(4). P. 650. https://doi.org/10.1111/eff.12483
- Brodersen J., Nicolle A., Nilsson P.A. et al. 2011. Interplay between temperature, fish partial migration and trophic dynamics // Oikos. V. 120. P. 1838. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19433.x
- Cooke S.J., Finch S.G., Wikelski M. et al. 2004. Biotelemetry: A mechanistic approach to ecology // Trends Ecol. Evol. V. 19(6). P. 334. https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.04.003
- Debes P.V., Pyavchenko N., Erkinaro J., Primmer C.R. 2020. Genetic growth potential, rather than phenotypic size, predicts migration phenotype in Atlantic salmon // Proc. R. Soc. B. V. 287. 20200867. https://doi.org/10.1098/rspb.2020.0867
- DeWoody J.A., Avise J.C. 2000. Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals // J. Fish Biol. V. 56(3). P. 461. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2000.tb00748.x
- Evans N.T., Shirey P.D., Wieringa J.G. 2017. Comparative cost and effort of fish distribution detection via environmental DNA analysis and electrofishing // Fisheries. V. 42(2). P. 90. https://doi.org/10.1080/03632415.2017.1276329
- Fausch K.D., Young M.K. 1995. Evolutionary significant units and movement of resident stream fishes: A cautionary tale // Am. Fish. Soc. Symp. V. 17. P. 360.
- Forbes S.A. 1925. The lake as a microcosm // INHS Bull. V. 15. P. 537.
- Gerking S.D. 1959. The restricted movement of fish populations // Biol. Rev. V. 34. P. 221. https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.1959.tb01289.x
- Ghasemi A., Keyvanshokooh S., Shahriari-Moghadam M. et al. 2007. Genetic comparison of Iranian and Azeri populations of the oriental bream Abramis brama orientalis (Berg) using microsatellites // Aqua. Res. V. 38(16). P. 1742. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2007.01848.x
- Goethel D.R., Quinn T.J., Cadrin S.X. 2011. Incorporating spatial structure in stock assessment: movement modeling in marine fish population dynamics // Rev. Fish Sci. V. 19(2). P. 119. https://doi.org/10.1080/10641262.2011.557451
- Goudet J. 2001. FSTAT, a program to estimate and test gene diversities and fixation indices (version 2.9.3). Available from http://www2.unil.ch/popgen/softwares/fstat.htm.
- Gowan C., Fausch K.D. 1995. Mobile Brook Trout in two high-elevation Colorado streams: Re-evaluating the concept of restricted movement // Can. J. Fish Aquat. Sci. V. 53. P. 1370. https://doi.org/10.1139/f96-05
- Grabowski T.B., Thorsteinsson V., McAdam B.J., Marteinsdóttir G. 2011. Evidence of segregated spawning in a single marine fish stock: sympatric divergence of ecotypes in Icelandic cod? // PLoS ONE. V. 6(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017528
- Grift R.E., Buijse A.D., Klein J.G. et al. 2001. Migration of bream between the main channel and floodplain lakes along the lower River Rhine during the connection phase // J. Fish Biol. V. 59. P. 1033. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2001.tb00170.x
- Hodge B.W., Wilzbach M.A., Duffy W.G. et al. 2016. Life history diversity in Klamath River steelhead // Trans. Amer. Fish Soc. V. 145. P. 227. https://doi.org/10.1080/00028487.2015.1111257
- Holsinger K.E., Weir B.S. 2009. Genetics in geographically structured populations: defining, estimating and interpreting FST // Nat. Rev. Genet. V. 10. P. 639. https://doi.org/10.1038/nrg2611
- Hosseinnia Z., Shabani A., Kolangi Miandare H. 2015. Warning of reducing genetic diversity of Abramis brama (Berg, 1905) in Gilan Coast using SSR markers // JCMR. V. 7(2). P. 108.
- Huuskonen H., Haakana H., Leskelä A., Piironen J. 2012. Seasonal movements and habitat use of river whitefish (Coregonus lavaretus) in the Koitajoki River (Finland), as determined by Carlin tagging and acoustic telemetry // Aquat. Ecol. V. 46(3). P. 325. https://doi.org/10.1007/s10452-012-9403-2
- Lammens E., Van Nes E.H., Mooij W.M. 2002. Differences in the exploitation of bream in three shallow lake systems and their relation to water quality // Freshwater Biol. V. 47(12). P. 2435. https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.2002.01008.x
- Lewis P.O., Zaykin D. 2001. Genetic Data Analysis: Computer program for the analysis of allelic data. Version 1.0 (d 16c). Free program distributed by the authors over the internet from https://lewis.eeb.unconn.edu/lewishome/software.html
- Lyons J., Lucas M.C. 2002. The combined use of acoustic tracking and echo sounding to investigate the movement and distribution of common bream (Abramis brama) in the River Trent, England // Hydrobiologia. V. 483. № 1–3. P. 265. https://doi.org/10.1023/a:1021364504129
- Magnuson J.J., Kratz T.K. 2000. Lakes in the landscape: Approaches to regional limnology // Verhandlungen Internationale Vereinigung für Limnologie. V. 27. P. 74.
- Magnuson J.J., Tonn W.M., Banerjee A. et al. 1998. Isolation vs. extinction in the assembly of fishes in small northern lakes // Ecology. V. 79. P. 2941. https://doi.org/10.1890/0012-9658(1998)079[2941:IVEITA]2.0.CO;2
- Myers G.S. 1949. Usage of Anadromous, Catadromous and Allied Terms for Migratory Fishes // Copeia. V. 1949(2). P. 89. https://doi.org/10.2307/1438482
- Nei M. 1975. Molecular population genetics and evolution. Front Cover. Masatoshi Nei. North-Holland Publishing Company.
- Novoselov A.P., Lukina V.A., Matveev N.Yu., Matveeva A.D. 2023. Spatial and Age-Related Changes in the Food Spectrum of the Common Bream Abramis brama in the Middle and Lower Course of the Northern Dvina River (Russia) // Inland Water Biol. V. 16. P. 97. https://doi.org/10.1134/S199508292301011X
- Piry S., Luikart G., Cornuet J.M. 1999. Computer note. BOTTLENECK: a computer program for detecting recent reductions in the effective size using allele frequency data // J. Heredity. V. 90. P. 502.
- Pritchard J.K., Stephens M., Donnelly P. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data // Genetics. V. 155. P. 945.
- Raymond M., Rousset F. 1995. GENEPOP (version 1.2): Population genetics software for exact tests and ecumenicism // J. of Heredity. V. 8. P. 248.
- Rice W.R. 1989. Analyzing tables of statistical tests // Evolution. V. 43. P. 223.
- Richard Y., Armstrong D.P. 2010. The importance of integrating landscape ecology in habitat models: isolation-driven occurrence of north island robins in a fragmented landscape // Landsc. Ecol. V. 25. P. 1363. https://doi.org/10.1007/s10980-010-9488-8
- Schulz U., Berg R. 1987. The migration of ultrasonic-tagged bream, Abramis brama (L), in Lake Constance (Bodensee-Untersee) // J. Fish Biol. V. 31. P. 409. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1987.tb05245.x
- Schmutz S., Jungwirth M. 1999. Fish as indicators of large river connectivity: the Danube and its tributaries // Arch. Hydrobiol. Supply. V. 115. P. 329.
- Skov C., Baktoft H., Brodersen J. et al. 2011. Sizing up your enemy: individual predation vulnerability predicts migratory probability // Proc. Royal Soc. B. Biol. Sci. V. 278. P. 1414. https://doi.org/10.1098/rspb.2010.2035
- Slatkin M. 1985. Rare alleles as indicators of gene flow // Evolution. V. 39(1). P. 53.
- Turbek S.P., Scordato E.S., Safran R.J. 2018. The role of seasonal migration in population divergence and reproductive isolation // Trends Ecol. Evol. V. 33. P. 164. https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.11.008
- Van Oosterhout C., Hutchinson W.F., Wills D.P.M., Shipley P. 2004. MICRO-CHECKER: software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data // Mol. Ecol. Notes. V. 4. P. 535. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2004.00684.x
- Weir B.S., Hill W.G. 2002. Estimating F-statistics // Annu. Rev. Genet. V. 36. P. 721.
- Whitlock S.L., Campbell M.R., Quist M.C., Dux A.M. 2018. Using genetic and phenotypic comparisons to evaluate apparent segregation among kokanee spawning groups // Trans. Amer. Fish Soc. V. 147. P. 43. https://doi.org/10.1002/tafs.10017
- Winter E.R., Hindes A.M., Lane S., Britton J.R. 2021a. Acoustic telemetry reveals strong spatial preferences and mixing during successive spawning periods in a partially migratory common bream population // Aquat. Sci. V. 83. № 52. https://doi.org/10.1007/s00027-021-00804-9
- Winter E.R., Hindes A.M., Lane S.J., Britton R. 2021b. Movements of common bream Abramis brama in a highly connected, lowland wetland reveal sub-populations with diverse migration strategies // Freshwater Biol. V. 66. P. 1410. https://doi.org/10.1111/fwb.13726
- Wright S. 1951. The genetical structure of populations // Ann. Eugenics. V. 15. P. 323.
- Zeinab Z., Shabany A., Kolangi-Miandare H. 2014. Comparison of genetic variation of wild and farmed Bream (Abramis brama orientalis; Berg, 1905) using microsatellite markers // Mol. Biol. Res. Commun. V. 3(3). P. 187.
Supplementary files