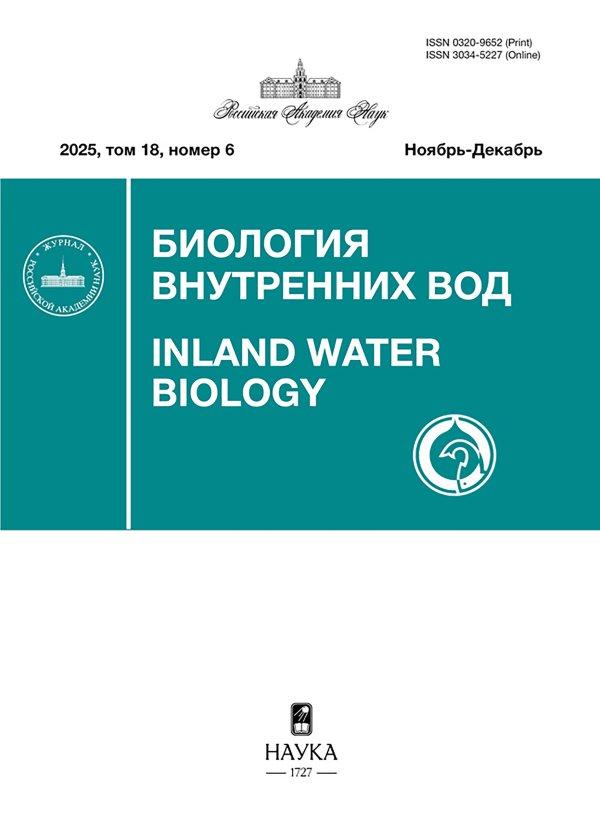Presence of total microcystins in the littoral of the western coast of the Curonian Lagoon of the Baltic Sea in 2011–2018 by the data of immunochromatographic analysis
- Authors: Smirnova M.M.1, Ezhova E.E.1
-
Affiliations:
- Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 17, No 1 (2024)
- Pages: 142-149
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0320-9652/article/view/261536
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320965224010123
- EDN: https://elibrary.ru/yzqkfq
- ID: 261536
Cite item
Full Text
Abstract
Using immunochromatographic express analysis, it was shown that hepatotoxic metabolites of cyanobacteria, microcystins, were present in the littoral of the western coast of the Curonian Lagoon in 2011–2018 regularly during the summer and autumn months. More than half of all samples contained microcystins. The proportion of samples containing toxins is higher near large settlements. A high content of microcystins is more often recorded in the southern part of the coast. Water toxicity caused by the presence of microcystins is a characteristic feature of the Curonian Lagoon.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В Балтийском море с 1990‑х гг. цветения фитопланктона с доминированием цианобактерий стали регулярными и приобрели масштабный характер. По мнению многих авторов, это связано с антропогенным эвтрофированием, продолжительными периодами высоких температур, сопровождающимися снижением ветрового перемешивания, и переловом некоторых видов рыб, относящихся к верхним трофическим звеньям (Balode, Purina, 1996; Lehtimäki, 2000; Moffitt, 2001; Karlsson et al., 2005; Halinen et al., 2007).
Куршский залив — крупнейшая лагуна Балтийского моря (площадь 1610 км2), полузакрытая, мелководная, преимущественно пресноводная, с начала 2000‑х гг. классифицируется как гиперэвтрофная (Александров, 2003). Гидрологический режим залива определяется, в основном, речным стоком, превышающим приток морских вод более чем в четыре раза (23.1 км3 и 5.1 км3 соответственно), что обеспечивает пресноводность центральной и южной частей залива (соленость 0.03–0.09‰). Морские воды оказывают влияние только на северную часть залива — соленость во время нагонных явлений может достигать 7.8‰, но в среднем колеблется в пределах 0.12–4.06‰ (Юревичюс, 1959; Гидрометеорологические…, 1985). Южная часть залива принадлежит Российской Федерации, северная — Литовской Республике. На Куршской косе протяженностью 98 км, образующей западное побережье залива, расположены российский и литовский национальные парки, включенные в список объектов ЮНЕСКО[1] курортные поселки, базы отдыха.
Залив отнесен к высшей рыбохозяйственной категории, здесь ведется товарное рыболовство, в зарослях макрофитов нерестится и развивается молодь рыб, у западного побережья осуществляется выпуск молоди Coregonus lavaretus (L., 1758) – ценного вида рыб.
В то же время, для залива характерно массовое развитие цианобактерий, в период с 1986 по 2006 годы отмечено 11 лет, когда биомасса цианобактерий летом достигала уровня гиперцветения (> 100 г/м3) (Александров, Горбунова, 2012). С конца 2000‑х годов развитие фитопланктона до уровня гиперцветения с доминированием потенциально-токсичных видов цианобактерий из родов Microcystis, Aphanizomenon, Woronichinia, Planktothrix, Dolichospermum наблюдают почти ежегодно (Ланге, 2013; Ezhova et al., 2014). Солоноватоводные виды цианобактерий и, в частности, Nodularia spumigena Mertens ex Bornet & Flahault, 1888, продуцирующую гепатотоксичный метаболит нодулярин, в северной части залива изредка регистрируют с нагоном осолоненных вод через морской пролив (Paldavičiene et al., 2009; Pilkatite et al., 2022), в южной части они не встречаются (Дмитриева, 2017). Куршский залив имеет высокую внутреннюю биогенную нагрузку, в том числе за счет аккумуляции соединений фосфора и азота в донных отложениях, а содержание фосфатов в воде значительно превышает уровень, лимитирующий цветения фитопланктона (Александров, 2003; Александров, Горбунова, 2012; Aleksandrov et al., 2018). Повышенное содержание минеральных форм азота и фосфора (нитритный, нитратный и аммонийный азот, фосфор фосфатов) стимулирует рост цианобактерий, и, способствуя увеличению содержания токсинов и одорирующих веществ в окружающей среде, приводит к ухудшению качества вод (Зайцева, Медведева, 2022). Известно, что представители родов Microcystis, Planktothrix, Dolichospermum способны продуцировать микроцистины. Выявлено, что Microcystis spp. в Куршском заливе содержит гены синтеза микроцистина (Белых и др., 2013). В 2010–2011 гг. впервые для южной (российской) акватории обнаружены и количественно определены различные варианты микроцистинов (Ежова и др., 2012). Присутствие микроцистинов регистрировали неоднократно, с 2010 г. в пробах воды определено 13 форм микроцистинов, три формы анабенопептинов и аэрогеноза, нодулярин ни разу не отмечали (Ежова и др., 2012, 2015; Ezhova et al., 2014; Šulčius et al., 2015; Смирнова, 2019). Суммарное содержание микроцистинов в южной части Куршского залива достигает 4719 мкг/г лиофилизированной фитомассы и 290 мкг/л — в воде (Ezhova et al., 2014). В северной части залива микроцистины регистрируют с 2006 г. (Paldavičiene et al., 2009), но в меньших концентрациях, что связано с природными особенностями водоема (Šulčius et al., 2015). Всего выявлено 20 вариантов микроцистинов (Overlinge et al., 2021). В 2006 г. был также обнаружен нодулярин, попавший в залив с интрузией морских вод, однако вид–продуцент нодулярина Nodularia spumigena не отмечали дальше 15 км от морского пролива (Paldavičiene et al., 2009), поскольку данный вид нетолерантен к пресной воде.
Микроцистины — высокопотентные гепатотоксины, они поражают клетки печени, в высоких дозах могут привести к смерти, хроническое воздействие приводит к повышению частоты первичного рака печени (Chorus, Bartram, 1999). Содержание микроцистинов в питьевой воде не должно превышать 1 мкг/л при многократном потреблении и 12 мкг/л — при однократном, для рекреационных вод допускается содержание ≤24 мкг/л (в расчете на ребенка) (WHO, 2020).[2]
Присутствие микроцистинов в заметных концентрациях в водах Куршского залива не только способно приводить к массовой гибели беспозвоночных, рыб и околоводных птиц (Ежова и др., 2012), ухудшению условий обитания объектов коммерческого рыболовства (Чукалова, 2008; Семенова, 2009; Aleksandrov et al., 2018), но и несет в себе существенные риски для здоровья населения. В литературе почтиотсутствуют сведения о пространственных и временных аспектах содержания цианотоксинов в российской части акватории, хотя они крайне актуальны для информирования отдыхающих и регулирования коммерческого рыболовства. Необходимость мониторинга токсической ситуации в водоеме рыбохозяйственного и рекреационного использования очевидна.
Аналитические методы детектирования цианотоксинов (ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография, тандемная масс-спектрометрия) в режиме мониторинга малодоступны. Более технически простой и менее затратный, но при этом высокочувствительный (1 нг/мл) иммунохроматографический анализ является экспресс-методом для полевого скрининга и может быть использован для регулярного отслеживания цианобактериальной токсичности вод. При этом положительные пробы должны подвергнуться дальнейшему аналитическому определению для уточнения состава цианотоксинов и содержания отдельных соединений.
Цель работы — анализ частоты встречаемости цианотоксинов из группы микроцистинов в литорали западного побережья Куршского залива в границах национального парка “Куршская коса” в 2011–2018 гг.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пробы воды для определения содержания цианотоксинов отбирали в литорали западного побережья Куршского залива, из поверхностного горизонта 0–50 см, на четырех постоянных мониторинговых станциях, расположенных в центральной и южной частях Куршской косы и различающихся по гидрологическим, седиментологическим и биотопическим признакам (рис. 1). Станции 407 и 439 расположены в прибрежной зоне средней части Куршской косы, вблизи населенных пунктов, в центральном гидрологическом районе залива, находящемся под влиянием речного стока р. Неман. Станция 439, расположенная в бух. Черногорская, пос. Рыбачий, кроме природных гидрологических факторов, может испытывать воздействие антропогенного биогенного загрязнения. Станции 404 и 440 расположены в южной, кутовой части залива. Станция 440 находится вблизи пос. Лесной, ст. 404 – в небольшой бухте с развитым поясом высшей водной растительности, способствующим замедленному водообмену.
Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб.
Пробы воды для определения токсичности в 2011–2015 гг. отбирали в течение вегетационного периода на всех четырех станциях, преимущественно в случае выраженных цветений фитопланктона или массовой гибели рыб и беспозвоночных. В 2017–2018 гг. пробы отбирали дважды в месяц на трех станциях (404, 439, 407). Всего в весенний период проведено 8 измерений, в летний — 53, в осенний — 40.
Присутствие микроцистинов в пробах воды определяли с помощью иммунохроматографического экспресс-теста (Microcystin Strip Test, Abraxis Ltd) для рекреационных вод согласно инструкции производителя. Этот тест предназначен для качественного и полуколичественного определения суммарных микроцистинов (растворенных, свободных, клеточно-связанных) в диапазоне 0– 10 мкг/л и ≥10 мкг/л. Действие теста основано на распознавании молекулы токсина и ее производных с помощью специфических антител. Проявление реакции основано на связывании микроцистинов из пробы и антител, входящих в тестовый набор.
Данные, полученные с помощью экспресс-теста, не дают полного представления о количественном и качественном содержании микроцистинов в исследуемой среде. Верхний предел чувствительности использовавшегося тест-набора — 10 мкг/л, что в любом случае детектирует присутствие микроцистинов, но не выявляет, насколько содержание исследуемого вещества превышает граничное значение. Тест нечувствителен к конформационным отличиям молекул различных микроцистинов и показывает только суммарное содержание всех имеющихся в среде химических вариантов микроцистинов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За период наблюдений 2011–2018 гг. присутствие микроцистинов на уровнях 1–≥10 мкг/л было зарегистрировано в разные месяцы года с мая до конца ноября (табл. 1) в 57.4% проб. Наиболее часто микроцистины присутствовали в воде Куршского залива в летний и осенний периоды года на станциях 439 и 404. Весной микроцистины обнаружены лишь в 1% всех измерений, в р-не пос. Морское (центральная часть Куршской косы) (рис. 2).
Таблица 1. Присутствие микроцистинов в пробах воды в литорали западного побережья Куршского залива в 2011–2018 гг.
Год | Месяц | ||||||
V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
2011 | – | – | – | + | + | – | + |
2012 | + | + | – | + | – | + | + |
2013 | 0 | 0 | + | – | + | + | – |
2014 | – | – | – | + | – | + | – |
2015 | – | – | – | + | – | – | – |
2017 | 0 | + | + | + | + | + | + |
2018 | 0 | + | + | + | – | – | – |
Примечание. “+” – положительный результат, присутствие микроцистинов в количестве 1–≥10 мкг/л, “0” – микроцистины в пробе отсутствовали; “–” – измерения не проводили.
Рис. 2. Частота встречаемости проб, положительных на микроцистины, на станциях наблюдения в разные сезоны 2011–2018 гг.
Содержание микроцистинов на уровне ≥10 мкг/л наиболее часто отмечено в кутовой части залива на ст. 440 (35% измерений на станции), реже всего — на ст. 407 (14%), расположенной в литорали средней части косы, в центральном гидрологическом районе (рис. 3). Наиболее часто (~50%), микроцистины отсутствовали на станциях 404 и 407. На станциях 440 и 439 только 1/3 проб была нетоксичной.
Рис. 3. Присутствие микроцистинов в воде Куршского залива на станциях наблюдения в 2011–2018 гг.
На станциях, расположенных в центральной части Куршской косы, микроцистины наиболее часто отмечены в летний сезон, осенью — реже. На станциях в кутовой части залива микроцистины, наоборот, чаще отмечены в осенний сезон, реже — летом. Весной микроцистины обнаружены только однажды, на станции, распложенной в центральной части косы (рис. 4).
Рис. 4. Присутствие микроцистинов в воде Куршского залива на станциях наблюдения в разные сезоны 2011–2018 гг.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В южной части Куршского залива в 2010‒2013 гг., количественное содержание микроцистинов варьировало в разные сезоны и разные годы. Минимальные для литорали значения (0.04–0.34 мг/л) были отмечены в 2010 г., максимальные — в 2011 г. (Ezhova et al., 2014). В 2011 г. цветение фитопланктона охватывало всю акваторию залива и длилось на протяжении трехлетних месяцев. Биомасса фитопланктона в отдельных участках достигала 200–400 г/м3, снижалась в сентябре–октябре и снова достигала максимальных значений в ноябре.
Гидрологические особенности залива в значительной степени определяют распределение микроцистинов вдоль косы. В южной части залива система преобладающих течений сориентирована против часовой стрелки вдоль берегов, в кутовой части скорость течений уменьшается (Червинскас, 1959). Западное побережье залива находится в ветровой тени по отношению к преобладающим ветрам западного направления. В периоды преобладающих южных и юго-восточных ветров фитопланктон скапливается в зарослях макрофитов в литорали западного побережья залива (Aleksandrov et al., 2018). Биомасса фитопланктона в защищенных участках прибрежной зоны может достигать 2000 г/м3 (Olenina, 1998). В 2011 г. биомасса только одного Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault, 1886 у побережья центральной части Куршской косы достигала 3900 г/м3 (Ланге и др., 2017).
В 2014 г. была проведена совместная работа российских, литовских и польских ученых по определению содержания цианотоксинов в воде и фитомассе Куршского залива во время осеннего цианобактериального цветения. На трех станциях наблюдения было определено девять вариантов микроцистинов. Наибольшее разнообразие форм и максимальное содержание цианотоксинов (153.6 мкг/л), отмечено в российской части залива, в южной части западного побережья. В течение месяца количество микроцистинов уменьшилось (Šulčius et al., 2015).
В 2017 г., по данным иммунохроматографического анализа, впервые показано присутствие микроцистинов вдоль всего побережья южной части Куршского залива в течение летне-осеннего периода. У западного побережья микроцистины обнаруживали чаще и в бóльших количествах, чем у восточного и южного побережий (Смирнова, 2019). Аналогичные результаты получены в 2018 г. для северной части залива, где у западного побережья микроцистины присутствовали чаще и в больших количествах, чем у восточного побережья (Overlinge et al., 2020). Также отмечена неоднородность распределения микроцистинов вдоль Куршской косы, где их количество увеличивалось в направлении с севера на юг с 20 до 186 мкг/л (Paldavičiene et al., 2009).
Микроцистины способны долго сохранятся в окружающей среде, количественное содержание в воде залива весьма варьирует в зависимости от времени и расположения станции наблюдения. В 2006 г. во время цианобактериального “цветения” с помощью ВЭЖХ в фитопланктоне северной части Куршского залива было обнаружено четыре варианта микроцистинов (MC-LR, MC-RR, MC-LY, MC-YR). Наиболее часто встречаемый MC-LR определен в количествах 0.1–134.2 мг/л. В 2007 г. “цветения” не были зарегистрированы и токсины детектированы только в четырех процентах проб (Paldavičiene et al., 2009). Также микроцистины были обнаружены в образцах донных отложений в 2007–2008 гг., несмотря на отсутствие токсинов в фитопланктоне (Paldavičiene et al., 2015).
Впервые присутствие суммарных микроцистинов в воде литорали южной части Куршского залива в течение пяти месяцев выявлено по данным 2011 г. с помощью иммуноферментного метода. Микроцистины обнаруживали в пробах воды с июля по ноябрь (5–10 мкг/л), в некоторых случаях – >20 мкг/л (Ежова и др., 2012). В 2017 году микроцистины регистрировали с июня по ноябрь — на протяжении шести месяцев (Смирнова, 2019). На данных 2011–2018 гг. показано, что микроцистины присутствуют в воде залива во все годы, т.е. выявлено регулярное присутствие микроцистинов в течение нескольких месяцев вегетационного сезона.
Регулярные исследования по определению токсичности вод Куршского залива проводят в северной (литовской) части акватории, отличающейся по гидрологическим и гидрохимическим условиям, что делает невозможным сравнение большинства полученных результатов с нашими данными.
По нашим наблюдениям, микроцистины в мае были обнаружены только в 2012 г., в 2013, 2017, 2018 гг. микроцистины отсутствовали, что согласуется с данными, полученными в центральной (литовской) части залива в 2018 г., где показано присутствие микроцистинов в литорали западного побережья Куршского залива с июня по сентябрь и их отсутствие в мае (Overlinge et al., 2020). Там же, в центральной части, с 2013 по 2017 гг. микроцистины были детектированы во всех пробах. В 2016 г. микроцистины присутствовали в воде залива в течение всего года — с января по декабрь, т.е. даже вне вегетационного периода (Pilkaityte et al., 2021). Для российской части залива нет данных о присутствии микроцистинов вне вегетационного периода, хотя еще в 2010 г. было установлено широкое распространение и даже доминирование возможного продуцента микроцистинов Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988 в зимний период (Lange, 2011). Остаточные концентрации микроцистинов в январе-марте 2016 г. не превышали 0.11 мкг/л (Pilkaityte et al., 2021), что ниже уровня обнаружения для скрининговых методов. Поскольку в российской части акватории содержание микроцистинов, как правило, превышает таковое в литовской, можно сделать предположение о токсичности вод южной части Куршского залива вне вегетационного периода (Šulčius et al., 2015).
В 2011–2018 гг. микроцистины присутствовали в воде южной части Куршского залива преимущественно летом и осенью. Аналогичная картина отмечена и в северной части залива, где наибольшее количественное и качественное содержание микроцистинов отмечено в августе и сентябре (Paldavičiene et al., 2009; Overlinge et al., 2020; 2021).
В 2011–2018 гг. в южной части Куршского залива при использовании иммунохроматографического анализа в 34–50% проб микроцистины не обнаружены, однако в северной (литовской) части залива с использованием аналитических методов, позволяющих регистрировать токсины с 0.1 мкг/л, микроцистины обнаруживали в 80–100% проб (Paldavičiene et al., 2009; Overlinge et al., 2020; 2021; Pilkaityte et al., 2021). При этом за период исследований 2013–2017 гг. количество проб с содержанием микроцистинов <1 мкг/л составило 46% общего числа проб, а в 2018 г. в 44% проб содержание микроцистинов не превышало 0.19 мкг/л (Overlinge et al., 2020; Pilkaityte et al., 2021).
Микроцистины после окончания гиперцветения фитопланктона с доминированием Microcystis spp. сохраняются в воде Куршского залива более одного месяца (Ежова и др., 2014; Ezhova et al., 2014). В пробах, отобранных в литорали западного побережья южной части залива 3–22 октября 2014 г. при гиперцветении с доминированием Aphаnizomenon flosaquae, наблюдали присутствие нескольких видов цианотоксинов в клетках фитопланктона и в воде. Суммарное содержание микроцистинов в воде варьировало от 0.1–2.8 мкг/л до 53.3–169.4 мкг/л, в биомассе фитопланктона — от 0.47 мкг/г до 0.87–1.32 мкг/г в начале и конце месяца соответственно (Ежова и др., 2015). Таким образом, максимальные отмеченные концентрации микроцистинов в воде южной части Куршского залива многократно превышали допустимые значения по рекомендациям ВОЗ (WHO, 2020).2
В гидробиологических работах по Куршскому заливу авторы отмечают вред регулярных цветений фитопланктона для экосистемы водоема, но, как правило, обосновывают его изменением гидрохимических параметров, вторичным загрязнением растворенной и взвешенной органикой и дефицитом кислорода, приводящим к заморам и гибели рыб и гидробионтов (Александров, 2003; Семенова, 2009; Aleksandrov et al., 2018).
Описаны изменения в биоте Куршского залива, предположительно связанные с цианобактериальными цветениями. Так, у леща отмечено увеличение заболеваемости в летний период, морфопатологические и гистологические изменения, сходные с симптомами воздействия токсинов водорослей (Чукалова, 2008). В зоопланктоне отмечены повышенное содержание мертвых особей и различные патологии на организменном уровне в период цветений, что интерпретируется как последствия массового развития фитопланктона, среди которого велика доля потенциально-токсичных видов (Семенова, 2009).
Во время экстремального цветения в июле 2011 г. были отмечены массовые заморы рыбы, гибель моллюсков и других беспозвоночных, рыбоядных птиц. По поведению погибающих животных сделано предположение о причине массовой гибели — присутствии цианотоксинов в воде Куршского залива (Ежова и др., 2012). Экспериментальным путем нами было показано токсическое действие природной воды Куршского залива, отобранной во время осенних цианобактериальных гиперцветений и содержащей микроцистины (их присутствие позднее детектировано аналитическими методами), на различные группы животных организмов: планктонного рачка Daphnia magna (Straus, 1820) (Crustacea, Cladocera), эмбрионов легочного брюхоногого моллюска Lymnaea stagnalis (L., 1758) (Mollusca, Gastropoda) и модельный вид рыб Poecilia reticulata (Peters, 1859) (Pisces, Cyprinodontiformes). Выживание экспериментальных гидробионтов (только рыб), отмечено лишь при десятикратном разведении фильтрата природной воды (Ежова и др., 2014; Ежова, Смирнова 2016; Ежова и др., 2017).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В литорали западного побережья Куршского залива, крупнейшей гиперэвтрофной лагуны Балтийского моря, в период 2011–2018 гг. выявлено ежегодное регулярное присутствие микроцистинов в течение нескольких месяцев вегетационного сезона. Такое долгосрочное исследование в южной части залива проведено впервые и доказывает, что токсичность вод залива в летний и осенний сезоны вследствие присутствия микроцистинов — характерное явление для данного водоема в современный период. Число проб, содержащих микроцистины, на каждой станции наблюдения составило ≥50%. Более половины всех проб, отобранных за 2011–2018 гг., содержали микроцистины. Присутствие микроцистинов в воде Куршского залива характерно для летнего и осеннего сезонов, и крайне редко в весенний сезон. На всех станциях наблюдения вероятность присутствия микроцистинов в воде была одинакова летом и осенью. Наиболее часто токсины отмечали на станциях, расположенных вблизи поселков Рыбачий и Лесной. Доли проб, содержащих токсины, также были максимальны вблизи пос. Рыбачий (66%) и пос. Лесной (65%). Высокое содержание микроцистинов (35% проб) наиболее характерно для самого южного участка побережья, более низкое (14%) отмечено на самом северном участке литорали района исследования. Продукция микроцистинов и их распределение в крупном высокотрофном водоеме — процессы, зависящие от большого комплекса факторов, в числе которых могут быть влияние водных масс р. Неман и точечных источников биогенного загрязнения, орография берегов и система течений. Изучение этих аспектов остается актуальной задачей.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы признательны сотрудникам Национального парка И.П. Жуковской и О.В. Рылькову и многочисленным волонтерам, под руководством авторов, принимавших участие в общественном мониторинге цианобактериальной токсичности вод Куршского залива, а также ООО “Институт Балтийского моря”, предоставившей результаты скрининга микроцистинов за 2017–2018 гг.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Анализ данных выполнен в рамках госбюджетной темы Института океанологии РАН FMWE-2024-0021, данные собраны при поддержке гранта Коалиции Чистая Балтика “Водная программа Беларуси и России”.
[1] https://whc.unesco.org/ru/list
[2] WHO. 2020. Cyanobacterial Toxins: Microcystins Background Document for Development of WHO Guidelines for Drinking-Water Quality and Guidelines for Safe Recreational Water Environments; World Health Organization: Geneva, Switzerland, Available online: https://apps.who.int/iris/handle/10665/338066
About the authors
M. M. Smirnova
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: smirnova-mm@mail.ru
Russian Federation, Moscow
E. E. Ezhova
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences
Email: smirnova-mm@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Александров С.В. 2003. Первичная продукция планктона в Вислинском и Куршском заливах Балтийского моря и ее связь с рыбопродуктивностью: Автрореф. дис. … канд. биол. наук. СПб.
- Александров С.В., Горбунова Ю.А. 2012. Продукция фитопланктона и содержание хлорофилла в эстуариях различного типа // Вестн. Балтийск. фед. ун-та им. И. Канта. № 1. С. 90.
- Белых О.И., Дмитриева О.А., Гладких А.С., Сороковикова Е.Г. 2013. Идентификация токсикогенных цианобактерий рода Microcystis в Куршском заливе Балтийского моря // Океанология. Т. 53. № 1. С. 78. https://doi.org/10.7868/S0030157413010024.
- Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР. Балтийское море. 1985. Вып. 3. Т. 1. Л.: Гидрометеоиздат. С. 72.
- Дмитриева О.А. 2017. Исследование закономерностей пространственно-временных изменений структурных и количественных показателей фитопланктона в различных районах Балтийского моря: Дис. … канд. биол. наук. Калининград. 309 с.
- Ежова Е.Е., Ланге Е.К., Русских Я.В. и др. 2012. Вредоносные цветения микроводорослей в Куршском заливе Балтийского моря в 2008–2011 гг. // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка “Куршская коса”: Cб. науч. статей. Вып. 8. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. С. 81.
- Ежова Е.Е., Молчанова Н.С., Полунина Ю.Ю. 2014. О токсичности прибрежных вод Куршского залива в период осеннего “гиперцветения” 2013 года для Daphnia magna Straus (Crustacea, Cladocera) // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка “Куршская коса”: Cб. науч. статей. Вып. 10. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. С. 127.
- Ежова Е.Е., Русских Я.В., Мазур-Маржец Х. и др. 2015. Осенние цветения цианобактерий в Куршском заливе Балтийского моря: особенности, причины и экологические последствия // ΙΙ Междунар. конф. “Актуальные проблемы планктонологии”: Тез. докл. Калининград: Изд-во КГТУ. С. 112.
- Ежова Е.Е., Смирнова М.М. 2016. Токсичность природных вод Куршского залива в период массового развития цианобактерий для Daphnia magna Straus (Crustacea, Cladocera) и эмбрионов Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (Mollusca, Gastropoda) // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка “Куршская коса”: Cб. науч. статей. Вып. 12. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. С. 118.
- Ежова Е.Е., Смирнова М.М., Романь Н.М. 2017. Токсичность природных вод Куршского залива в период цианобактериальных “цветений” для беспозвоночных и позвоночных организмов // Проблемы природопользования, сохранения биоразнообразия и культурного наследия на особо охраняемых природных территориях России: Сб. матер. Всерос. науч.-практ. юбилейной конф., посвященной 30-летию национального парка “Куршская коса”, Лесной, 02–04 ноября 2017 года. Лесной: Изд-во БФУ им. И. Канта. С. 48.
- Зайцева Т.Б., Медведева Н.Г. 2022. Влияние биогенных элементов на рост нитчатых цианобактерий — возбудителей “цветения” воды — и синтез ими метаболитов // Биология внутр. вод. № 3. С. 290. https://doi.org/10.31857/S0320965222030196.
- Ланге Е.К. 2013. Фитопланктонный комплекс российской части Куршского залива (2001–2007 гг.) // Изв. КГТУ. Калининград: КГТУ. № 28. С. 87.
- Ланге Е.К., Герб М.А., Володина А.А. и др. 2017. Характеристика состояния западной прибрежной зоны Куршского залива по гидробиологическим показателям в 2016 году // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка “Куршская коса”: Cб. науч. статей. Вып. 13. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. С. 86.
- Семенова А.С. 2009. Изменение показателей зоопланктона Куршского залива в период “гиперцветения” сине-зеленых водорослей // Вода: химия и экология. № 9. С. 2.
- Смирнова М.М. 2019. Микроцистины в литорали Куршского залива в 2017 г. по данным иммунохроматографического анализа // Морской биол. журн. Т. 4. № 1. С. 109. https://doi.org/10.21072/mbj.2019.04.1.10
- Червинскас Э. 1959. Основные черты гидрологического режима // Куршю Марес. Вильнюс: Изд-во АН ЛитССР. С. 47.
- Чукалова Н.Н. 2008. Экологические факторы, обуславливающие эпизоотическое состояние леща (Abramis brama L.) в Куршском заливе Балтийского моря: Дис. … канд. биол. наук. Калининград. 142 с.
- Юревичюс Р. 1959. Гидрохимическая характеристика залива Куршю марес // Куршю Марес. Вильнюс: Изд-во АН ЛитССР. С. 69.
- Aleksandrov S., Krek A., Bubnova E. et al. 2018. Eutrophication and effects of algal bloom in the south-western part of the Curonian Lagoon alongside the Curonian spit // Baltica. V. 31. № 1. P. 1. https://doi.org/10.5200/baltica.2018.31.01
- Balode M., Purina I. 1996. Harmful phytoplankton in the Gulf of Riga (the Baltic Sea) // Harmful and Toxic Algal Blooms // Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. P. 69.
- Chorus I., Bartram J. 1999. Toxic Cyanobacteria in water: a guide to public health significance, monitoring and management // World Health Organization. L.: Für WHO durch E & FN Spon / Chapman & Hall.
- Ezhova E., Lange E., Russkikh Y. et al. 2014. Dynamics of toxic HABs in the Curonian Lagoon, Baltic Sea during 2010–2013. ICES Annual Science Conference (ASC) 15–19 September 2014. H26 [элект. носитель].
- Halinen K., Jokela J., Fewer D.P. et al. 2007. Direct evidence for production of microcystins by Anabaena strains from the Baltic Sea // AEM. V. 73. P. 6543. https://doi.org/10.1128/AEM.01377-07
- Karlsson K.M., Kankaanpaa H., Huttunen M., Meriluoto J. 2005. First observation of microcystin-LR in pelagic cyanobacterial blooms in the northern Baltic Sea // Harmful Algae. V. 4. I. 1. Р. 163. https://doi.org/10.1016/j.hal.2004.02.002
- Lange E.К. 2011. Structure and spatial distribution of winter phytoplankton of the Curonian Lagoon (Baltic Sea) // Ekologija. V. 57. № 3. P. 121. https://doi.org/10.6001/ekologija.v57i3.1917
- Lehtimäki J. 2000. Characterisation of cyanobacterial strains originating from the Baltic Sea with emphasis on Nodularia and its toxin, nodularin. Helsinki: University of Helsinki.
- Moffitt M.C., Blackburn S.I., Neilan B.A. 2001. rRNA sequences reflect the ecophysiology and define the toxic cyanobacteria of the genus Nodularia // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. V. 51. P. 505. https://doi.org/10.1099/00207713-51-2-505
- Оlenina I. 1998. Long-term changes in the Kursiu Marios lagoon: Eutrophication and phytoplankton response // Ecologija. № 1. P. 56.
- Overlinge D., Katarzyte M., Vaičiūtė D. et al. 2020. Are there concerns regarding cHAB in coastal bathing waters affected by freshwater-brackish continuum? // Mar. Pollut. Bull. V. 159. P. 264. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111500
- Overlinge D., Torunska-Sitarz A., Katarzyte M. et al. 2021. Characterization and Diversity of Microcystins Produced by Cyanobacteria from the Curonian Lagoon (SE Baltic Sea) // Toxins. V. 13. P. 838. https://doi.org/10.3390/toxins13120838
- Paldavičiene A., Mazur-Marzec H., Razinkovas-Baziukas A. 2009. Toxic cyanobacteria blooms in the Lithuanian part of the Curonian Lagoon // Oceanologia. № 51. P. 203. https://doi.org/10.5697/OC.51-2.203
- Paldavičiene A., Zaiko A., Mazur-Marzec H., Razinkovas-Baziukas A. 2015. Bioaccumulation of microcystis in invasive bivalves: A case study from the boreal lagoon ecosystem // Oceanologia. № 57. P. 93. https://doi.org/10.1002/etc.548
- Pilkaityte R., Overlinge D., Gasiunaite Z.R., Mazur-Marzec H. 2021. Spatial and Temporal Diversity of Cyanometabolites in the Eutrophic Curonian Lagoon (SE Baltic Sea). Water. V. 13. P. 1760. https://doi.org/10.3390/w13131760
- Sulcius S., Pilkaitytė R., Mazur-Marzec H. et al. 2015. Increased risk of exposure to microcystins in the scum of the filamentous cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquae accumulated on the western shoreline of the Curonian Lagoon // Mar. Pollut. Bull. V. 99. Is. 1–2. P. 264. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.07.057
Supplementary files