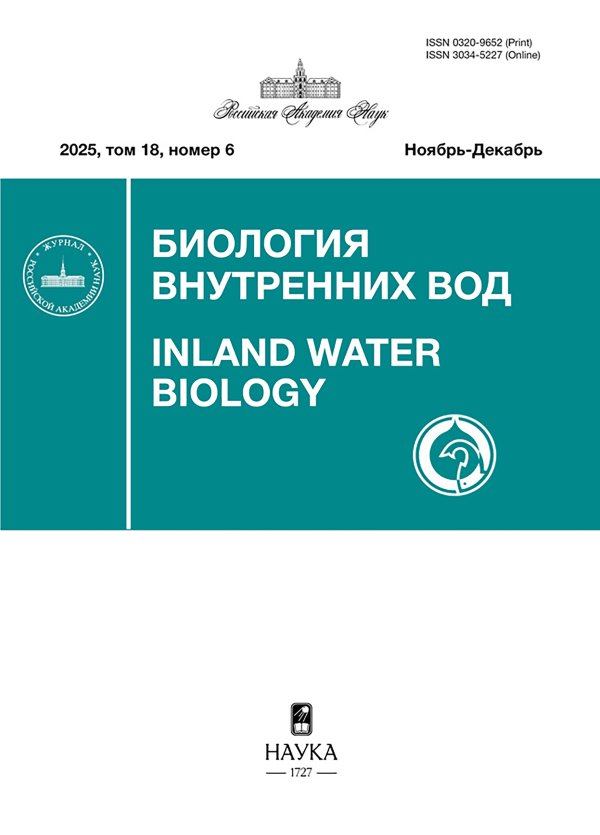Структура и функционирование планктонных сообществ Рыбинского водохранилища в условиях климатических изменений
- Авторы: Минеева Н.М.1, Лазарева В.И.1, Поддубный С.А.1, Законнова А.В.1, Копылов А.И.1, Косолапов Д.Б.1, Корнева Л.Г.1, Соколова Е.А.1, Пырина И.Л.1, Митропольская И.В.1
-
Учреждения:
- Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
- Выпуск: Том 17, № 1 (2024)
- Страницы: 3-21
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0320-9652/article/view/261515
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320965224010018
- EDN: https://elibrary.ru/zamolm
- ID: 261515
Цитировать
Полный текст
Аннотация
По данным комплексных экологических исследований, которые регулярно проводят на шести стандартных станциях Рыбинского водохранилища с середины ХХ в., проанализирована направленность изменений элементов экосистемы водохранилища, связанных с глобальными климатическими событиями. За период потепления климата, начавшийся в 1977 г. и продолжающийся в XXI в., температура воздуха в теплый сезон увеличилась на 0.9°С, температура воды ‒ на 1.4°С, среднегодовой приток — на 7.5%, продолжительность безледного периода — на две недели. Отмечено увеличение электропроводности и цветности воды, снижение прозрачности. При значительных межгодовых вариациях биологических характеристик в XXI в. численность бактериопланктона выросла в 1.7 раза, бактериальной продукции — вдвое. Содержание хлорофилла увеличилось в 1.4 раза, чаще стали отмечаться величины >15 мкг/л, отражающие эвтрофное состояние водохранилища. В биомассе фитопланктона выросла доля мелкоклеточных форм. Общая численность фитопланктона увеличилась за счет развития цианобактерий, формирующих продолжительный летний максимум в сезонной динамике сообщества. Рост минерализации воды способствовал прогрессивному распространению чужеродных солоновато-водных видов водорослей. Биомасса зоопланктона выросла в 2.5 раза. Рост численности ракообразных (кладоцер — в 1.6 раза, копепод — в 1.9 раза) вызвал изменение структуры зоопланктона и формирование мощного позднелетнего пика биомассы. Интенсификация гидробиологических процессов отчетливо проявилась после аномально жаркого 2010 г., условия которого не только стимулировали развитие планктонных сообществ, но и способствовали формированию дефицита кислорода в придонных слоях. Потепление существенно трансформировало экосистему Рыбинского водохранилища, интенсифицировало процессы эвтрофирования и ухудшило качество воды. Изменение гидрометеорологических характеристик вышло за пределы мягкого сценария потепления климата.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
В эпоху антропогенного стресса и глобальных климатических изменений перед человечеством остро стоит проблема пресной воды, источником которой служат континентальные водоемы. Для анализа экологического состояния рек, озер, водохранилищ и прогноза происходящих в них процессов необходимы многолетние наблюдения. Рыбинское водохранилище — крупный искусственный водоем, на котором с начала его существования и до настоящего времени проводятся регулярные комплексные экологические исследования. Полученные результаты, опубликованные в оригинальных статьях и обобщенные в монографиях (Рыбинское…, 1972; Романенко, 1985; Ривьер, 1986; Современное..., 1993; Экология…, 1999; Экологические…, 2001; Минеева, 2004, 2009; Копылов, Косолапов, 2008; Лазарева, 2010; Корнева, 2015; Структура…, 2018; Копылов и др., 2019), служат основой для анализа состояния и сукцессионных изменений экосистемы водохранилища.
Глобальное потепление XX–XXI веков, вызванное либо естественными колебаниями климатической системы, либо антропогенным воздействием, связанным с повышением концентрации в атмосфере парниковых газов вследствие техногенных выбросов ‒ факт, инструментально подтвержденный данными метеорологических наблюдений (Gerten, Adrian, 2000; Евстигнеев и др., 2010). Влияние потепления климата на внутриводоемные процессы стало серьезной экологической проблемой. Основные последствия современной динамики климата в водоемах Европейской части РФ проявляются в повышении температуры воды и увеличении количества осадков на водосборах водоемов. Увеличение приземной температуры воздуха над территорией РФ в современный период достигает 0.51°C за десятилетие (Третий…, 2022). Температура считается универсальным и неустранимым ключевым фактором среды, с которым связано развитие гидробионтов, формирование первичной продукции водоемов, географическое распространение видов, их временная и пространственная динамика (Harris, 1986; Butterwick et al., 2005). Изменение термического режима приводит к изменению экологического состояния водных экосистем, гидрологических и гидробиологических характеристик водной среды, структуры и динамики биологических сообществ. К изменению температуры чувствительны все биологические процессы. Ее увеличение может способствовать увеличению потребления кислорода, что повышает риск снижения его содержания в воде; изменению продолжительности жизни водных организмов, фенологии сообществ и трофических взаимодействий между видами; увеличению уровня “цветения” воды цианобактериями, их обилия и продолжительности вегетации (Jeppesen et al., 2005, 2011; Mooij et al., 2005; Winder, Hunter, 2008; Paerl, Huisman, 2009). Повышение температуры вызывает изменение доступности питательных веществ, способствует формированию в водоемах летнего дефицита растворенного кислорода, увеличению внутренней фосфорной нагрузки. С этими процессами связано эвтрофирование, которое интенсивно идет в неглубоких ди- или полимиктических водоемах умеренного пояса. Увеличение прогрева вод вкупе с эвтрофированием радикально меняют среду обитания гидробионтов, влияют на структуру, динамику и продуктивность водных сообществ (Wilhelm, Adrian, 2008; Adrian et al., 2009; Лазарева, 2010, 2014; Williamson et al., 2014; Bertani et al. 2016; Özkan et al., 2016). Одно из прогнозируемых последствий глобального потепления — аридизация территории волжского бассейна (Коломыц, 2003), которая ведет к изменению почвенно-растительного покрова и сдвигу зональных природных комплексов. Поэтому помимо увеличения температуры воды к серьезным последствиям изменения климата относят изменение ионного состава вод, стимулирующее внедрение в пресноводные водоемы эвригалинных и галофильных видов.
Организмы планктона служат индикаторами состояния водных экосистем. Гетеротрофные бактерии — многочисленный, активный и разнообразный компонент планктонных трофических сетей водоемов, выполняющий многообразные функции, осуществляющий минерализацию органических веществ, участвующий в круговоротах биогенных элементов, формировании продуктивности и качества воды. Фитопланктон создает в процессе фотосинтеза основной фонд органического вещества в крупных озерах и водохранилищах, составляющий энергетическую основу для всех последующих этапов продукционного процесса в водоеме. Универсальным эколого-физиологическим показателем развития и фотосинтетической активности водорослей, а также экологического состояния водных объектов считается основной пигмент зеленых растений Хл а. Хлорофилл эффективно реагирует на изменения внешней среды и служит полезным инструментом для исследования длительных трендов в развитии фитопланктона и оценки состояния пресных, морских и океанических вод (Минеева, 2004; Kraemer et al., 2022). Содержание хлорофилла положено в основу шкал, разработанных для оценки трофического статуса и качества воды (Eutrophication…, 1982). Зоопланктон потребляет водоросли, бактерии, детрит, а также мелких планктонных животных и играет важную роль в передаче энергии от продуцентов к верхним уровням трофической сети (Иванова, 1985; Лазарева, 2010, 2022; Гладышев и др., 2011; Carter et al., 2017). Структура, фенология и жизненные циклы видов этого планктонного зооценоза чувствительны к вариациям состояния водоемов, в том числе связанным с динамикой климата (Wagner, Adrian, 2009; Vadadi-Fülöp et al., 2012; Лазарева, Соколова, 2013; Carter et al., 2017).
Настоящая работа посвящена анализу материалов многолетних исследований планктона Рыбинского водохранилища на фоне изменений, которые носят глобальный характер. Цель работы — выявить закономерности изменения в структуре и обилии планктона в период потепления на фоне квазипериодических колебаний характеристик сообщества и смен фаз гидрологического цикла водоема.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На Рыбинском вдхр. в течение длительного периода проводят комплексные гидроэкологические исследования планктонных сообществ: бактериопланктона, фитопланктона и продукционно-деструкционных процессов с 1954 г., зоопланктона — с 1956 г., фотосинтетических пигментов — с 1969 г. Ряды гидрологических данных охватывают период с 1947 г. Материал собирают в течение вегетационного сезона (май–октябрь) с периодичностью 1–2 раза в месяц на шести постоянных станциях основной акватории водохранилища (рис. 1).
Рис. 1. Карта-схема Рыбинского водохранилища. 1 – станции многолетних наблюдений, 2 – границы плесов.
Гидрологические характеристики получены с помощью принятых в Институте биологии внутренних вод РАН методов (Методика…, 1975). В работе использованы многолетние среднемесячные данные по температуре воздуха, объему притока, уровню водохранилища, температуре поверхностного слоя воды, температуре водной массы, электропроводности, прозрачности и цветности воды из архива лаборатории гидрологии и гидрохимии Института биологии внутренних вод РАН. Фазы водности в многолетних колебаниях притока определяли по модульному коэффициенту, рассчитанному как отношение объемов годового и среднего многолетнего притока (Научно-прикладной…, 2021). К многоводным, маловодным и средним по водности относили годы с коэффициентом >1.05, <0.95 и 0.95–1.05 соответственно.
Индексы Северо-Атлантического колебания (NAO) заимствованы на сайте Центра прогноза климата службы погоды США (National Weather Service, Climate Prediction Center, USA) http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml.
Материал для исследования планктонных сообществ собирали из всей водной толщи от поверхности до дна. Пробы бактериопланктона отбирали батометром Руттнера через каждый метр водного столба. Для учета фитопланктона и анализа пигментов отбор проб проводили четырехлитровым батометром Элгморка длиной 1 м. Зоопланктон отбирали 10-литровым планктобатометром системы Дьяченко-Кожевникова послойно с интервалом 2 м. Для получения интегральной пробы во всех случаях смешивали равные объемы воды с каждой глубины.
Пробы для микроскопического анализа бактериопланктона сразу после отбора фиксировали 40%-ным формалином до конечной концентрации 2% и хранили в темноте при температуре 4°С не более месяца. В 1954–1987 гг. общую численность бактерий определяли методом световой микроскопии с окраской эритрозином (Романенко, Кузнецов, 1974). С 1988 г. использовали метод эпифлуоресцентной микроскопии с окрашиванием клеток акридиновым оранжевым и 4,6-диамидино-2-фенилиндолом (Hobbie et al., 1977; Porter, Feig, 1980). Для сравнения данных двух методов использовали полученный экспериментальным путем пересчетный коэффициент 1.5. Сырую биомассу бактерий получали умножением их численности на средний объем клеток. Для перевода биомассы в единицы углерода рассчитывали его содержание в бактериальных клетках по аллометрическому уравнению (Norland, 1993). Продукцию бактериопланктона определяли по темновой ассимиляции СО2 (Романенко, Кузнецов, 1974). Темновую ассимиляцию СО2, а также интенсивность фотосинтеза фитопланктона измеряли радиоуглеродным методом соответственно в столбе воды от поверхности до дна и в фотическом слое воды, ограниченном глубины утроенной прозрачности по диску Секки (Романенко, Кузнецов, 1974; Кузнецов, Дубинина, 1989). Интегральную (под 1 м2) первичную продукцию рассчитывали по уравнению, связывающему скорость фотосинтеза в фотическом слое и прозрачность воды (Романенко, 1985). При расчете интегральной первичной продукции учитывали, что в Рыбинском вдхр. прижизненные выделения растворенного органического вещества фитопланктоном (внеклеточная продукция) достигают в среднем 20% его клеточной продукции (Копылов и др., 2018).
Для определения биомассы и численности фитопланктона водоросли концентрировали прямой последовательной фильтрацией через мембранные фильтры с диаметром пор 3–5 и 1.2–1.5 мкм. Пробы консервировали раствором Люголя с добавлением формалина и ледяной уксусной кислоты. Численность клеток учитывали под световым микроскопами МБР-3, МББ-1а и МБИ-11 в счетной камере “Учинская-2” объемом 0.01 или 0.02 мл. Линейные размеры получали измерением клеток каждого встреченного организма. Биомассу определяли счетно-объемным стереометрическим методом (Методика…, 1975; Корнева, 1993, 2015).
Хлорофилл определяли стандартным спектрофотометрическим методом в смешанном 90%-ном ацетоновом экстракте (SCOR-UNESCO, 1966): в 1969–2003 гг. на спектрофотометрах фирмы ЛОМО, с 2004 г. — PerkinElmer. Водоросли осаждали на мембранные фильтры с диаметром пор 3–5 мкм, которые высушивали в темноте при комнатной температуре и до анализа хранили в холодильнике. Концентрацию хлорофилла рассчитывали по уравнению из работы (Jeffrey, Humphrey, 1975).
Пробы зоопланктона концентрировали через сито с ячеей 70–74 мкм, фиксировали 4%-ным формалином и просматривали в камере Богорова под микроскопами МБС-10 и StereoDiscovery-V12. Схема камеральной обработки принята по (Лазарева, 2010). Малочисленные виды с длиной тела >0.4 мм просчитывали в трети, половине или целой пробе. Биомассу животных определяли по формулам связи массы с длиной тела (Балушкина, Винберг, 1979; Ruttner-Kolisko, 1977). Определяли численность и биомассу каждого вида, сумму этих показателей по крупным таксонам (Cladocera, Copepoda, Rotifera) и общие значения для всего зоопланктонного сообщества.
При статистической обработке данных для расчета средних показателей, их погрешностей, корреляционного и регрессионного анализа, построения графиков использовали стандартные программные пакеты для персонального компьютера STATISTICA v. 12.5 (StatSoft Russia), MS Excel 2010. Наиболее важные для планктона факторы среды выделяли методом пошаговой регрессии. При анализе малых выборок (n <30) рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Все статистические характеристики, приведенные в тексте, значимы при p < 0.05.
Рыбинское вдхр., третья ступень волжского каскада, — крупный относительно мелководный водоем замедленного водообмена (средний коэффициент условного водообмена 1.9 год-1), расположенный в подзоне южной тайги (58°00’–59°05’ с.ш., 37°28’–39°00’ в.д.). Климат бассейна Верхней Волги, в пределах которого находится водохранилище, умеренно-континентальный, формируется под воздействием морских и континентальных воздушных масс. Бассейн Верхней Волги пересекают полярные оси антициклонов, проходящие через Скандинавию, Исландию и Карское море, здесь же находится центр пересечения траектории циклонов из северной Атлантики и Средиземного моря (Бикбулатов и др., 2003).
Площадь водного зеркала водохранилища 4500 км2, средняя глубина — 5.6 м, а их отношение (показатель открытости (Китаев, 2007)) характеризуется высоким значением 812. Акваторию водохранилища подразделяют на четыре разнородных участка (плеса), занятых водными массами со специфическими гидрофизическими и гидрохимическими характеристиками. Три плеса расположены по затопленным руслам основных притоков — рек Волга, Молога и Шексна. Речные воды постепенно трансформируются в водную массу собственно водохранилища, которая заполняет озеровидную центральную часть — Главный плес, занимающий ~70% общей площади (Рыбинское…, 1972). Стандартные станции охватывают основную часть акватории Рыбинского вдхр. (рис. 1) и отражают переход речных вод в водную массу водохранилища (Структура…, 2018).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гидрометеорологический режим Рыбинского водохранилища во многом определятся климатическими условиями. Потепление климата в северной Евразии согласуется с динамикой NAO (Нестеров, 2013). NAO — одна из важнейших глобальных характеристик крупномасштабной циркуляции атмосферы в северном полушарии (Дроздов, Смирнов, 2011), определяющая условия погоды над европейской частью России. Чередование положительных и отрицательных фаз NAO оказывает влияние на прогрев воды и интенсивность ее конвективного перемешивания, ледовый режим водоемов и термическую структуру в летний период. Положительные отклонения NAO указывают на усиление зональной циркуляции воздушных масс, тогда как в отрицательной фазе NAO происходит усиление меридионального типа циркуляции (Нестеров, 2013). Тенденции в изменении климата тесно связаны с динамикой зимнего индекса NAO.
До заметного потепления климата индекс NAO в течение вегетационного периода характеризовался положительными значениями (рис. 2), что свидетельствовало о преобладающем широтном переносе воздушных масс. В положительной фазе NAO преобладает западный перенос — теплые зимы, большое количество осадков. Пик этой фазы пришелся на начало 1990‑х годов. В 2008–2012 гг. на фоне близкой к норме динамики индекса наблюдались значительные отрицательные аномалии, указывающие на начало следующей (отрицательной) фазы его колебаний. В последнее десятилетие (2010−2018 гг.) выявлено преобладание меридионального переноса воздушных масс над широтным. Зональная циркуляция явно усиливалась в середине весны и осенью, в конце весны и летом (май‒август) погодные условия определялись меридиональными потоками воздуха (Поддубный и др., 2020).
Рис. 2. Многолетняя динамика гидрометеорологических характеристик Рыбинского водохранилища: а — годовой индекс NAO; б — средняя за вегетационный сезон температура воздуха (1) и воды (2); в — объем поверхностного притока (3) и осадков на зеркало водохранилища (4); г — уровень воды в водохранилище.
Межгодовая и внутригодовая изменчивость главных характеристик гидрологического режима Рыбинского вдхр. — составляющих водного баланса, проточности, уровня и температуры воды — определяется режимом притока речных вод и регулированием стока воды через гидротехнические сооружения ГЭС (Эдельштейн, 1988). Непосредственное влияние на термический режим водоемов оказывает температура воздуха. В относительно стационарный по климатическим условиям период до 1976 г. средняя температура воздуха на побережье Рыбинского водохранилища была 12.5°С. С началом периода потепления (1977–1999 гг.) температура почти не изменилась (12.7°С), однако, после 2000 г. стала на 0.8‒1.0°С выше (табл. 1). Наиболее существенное повышение температуры воздуха за годы потепления на 2.0–2.5°С отмечено в зимние месяцы, что способствовало более раннему очищению ото льда акватории водохранилища весной и более позднему появлению ледовых явлений осенью. По сравнению с соответствующими средними многолетними датами 3 мая и 17 ноября эти сроки сдвинулись на 26 апреля и 22 ноября, а средняя продолжительность безледного периода увеличилась с 198 сут (1947–1976 гг.) до 211 сут (2001–2014 гг.).
Таблица 1. Средние за вегетационный период (май‒октябрь) гидрометеорологические и гидрологические характеристики Рыбинского водохранилища до начала потепления (1947–1976 г.) и в период климатических изменений после 1977 г.
Показатель | Годы | |||
1947–1976 | 1977–1999 | 2000–2019 | 2010–2019 | |
Температура воздуха, °C | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 13.8 |
Температура воды, °C | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 15.7 |
Объем притока, км3 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.1 |
Уровень, м БС | 100.86 | 100.80 | 101.09 | 100.90 |
Электропроводность, мкСм/см | 187* | 176** | 206 | 206 |
Прозрачность, см | 155* | 128** | 126 | 114 |
Цветность, град | 42* | 53** | 57 | 60 |
*1960–1976 гг.,
** 1986–1998 гг.
С повышением температуры воздуха связано повышение температуры воды (r = 0.83), средние значения которой увеличились c 13.7 до 15.2‒15.7°С (табл. 1). Для всего периода потепления 1977–2019 гг. выявлена тенденция к повышению средней за май–октябрь температуры воды водохранилища (рис. 2). Скорость этого повышения достигает 0.72°С/10 лет (Законнова, 2021). Температура воды достаточно тесно положительно связана с изменчивостью NAO (r = 0.55).
При сравнении многолетних рядов притока, осадков и уровня водохранилища (рис. 2) в период с мая по октябрь выявлены их достаточно тесные корреляционные зависимости (r = 0.60). Достоверной связи гидрологических параметров с NAO не обнаружено.
Водный режим водохранилища определяется циклами общей увлажненности, в которых выделяют многоводные и маловодные фазы. Многоводные периоды, в отличие от маловодных, характеризуются преобладанием циклонального типа погоды, повышенными показателями поверхностного притока, уровня воды, ветровой активности, но более низкой температурой. За весь цикл многолетних наблюдений на основе интегральной кривой притока в водохранилище выделено три маловодные (1963‒1976, 1996‒2003, 2014‒2016 гг.) и четыре многоводные (1951‒1962, 1977‒1995, 2004‒2013, 2017‒2020 гг.) фазы, к которым в соответствии с модульными коэффициентами притока относятся 29 маловодных, 25 многоводных и 16 средних по водности лет. Температура воздуха, а также прогрев воды в маловодные и многоводные периоды характеризуется близкими показателями. Объем поверхностного притока, который достигал 16.20 км3 в 1972 г. и 53.39 км3 в 1990 г. при средней величине 31.57 км3, в многоводные фазы в среднем увеличивается на 1 км3 (табл. 2).
Таблица 2. Средние за вегетационный период (май‒октябрь) гидрометеорологические и гидрологические характеристики Рыбинского водохранилища в разные фазы водности
Показатель | Маловодные годы | Многоводные годы | |||||
1963‒1976 | 1996‒2003 | 2014‒2016 | 1951–1962 | 1977‒1995 | 2004‒2013 | 2017‒2019 | |
Температура воздуха, °C | 12.6 | 13.0 | 13.7 | 12.5 | 12.6 | 13.8 | 13.2 |
Температура воды, °C | 13.7 | 14.2 | 15.6 | 13.5 | 13.7 | 15.4 | 15.3 |
Объем притока, км3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 |
Уровень, м БС | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 101.1 | 100.9 | 101.1 | 101.3 |
Электропроводность, мкСм/см | 193 | 191 | 252 | 178 | 175 | 195 | 201 |
Прозрачность, см | 159 | 135 | 113 | 148 | 128 | 128 | 118 |
Цветность, град | 43 | 53 | 50 | 40 | 54 | 55 | 65 |
Все фазы водности включают годы с экстремальными или нетипичными для данного периода условиями. В экстремальные по водности годы существенно меняется структура притока. В многоводном 1990 г. максимальный объем притока отмечен в марте–мае вследствие раннего половодья, а также и во время летне-осенних дождевых паводков (39.5 и 36% годового поступления соответственно). В маловодном 1972 г. доля весеннего притока выросла до 58.7%, роль атмосферных осадков в водном балансе была незначительной. Маловодный 1972 г. характеризовался высокой летней температурой воды, которая в среднем за май–октябрь была на 1.9°С выше, чем в 1990 г. Самая высокая за время существования водохранилища температура водной массы в июле–августе (>25°С) наблюдалась в 2010 г., а самая низкая (всего 16.5–18.5°С) – в многоводном 2017 г. при температуре воздуха на 1–2°С ниже нормы.
С началом потепления изменился кислородный режим водохранилища. До начала 1970‑х годов дефицит кислорода у дна в летнее время регистрировали в единичных случаях (Рыбинское…, 1972), заметного ухудшения кислородного режима в период открытой воды до 2010 г. не отмечали. Впервые его выявили в аномально жаркое лето 2010 г., когда вода прогрелась до 29°С у поверхности и до 26°С у дна, вызвав интенсивное выделение газов из донных отложений и дефицит растворенного кислорода в слое воды глубже 5 м. В 2011–2016 гг. низкое содержание растворенного кислорода у дна обнаруживали во всех четырех плесах (Структура…, 2018).
В рассматриваемые периоды произошли изменения гидрофизических и химических характеристик водохранилища. Электропроводность воды, отражающая сумму минеральных солей, увеличилась и в целом зависела от объема притока в водоем. Прозрачность воды, зависящая от интенсивности ветрового волнения и массового развития фитопланктона, уменьшилась в связи с повышением температуры воды и выросшей продукцией фитопланктона. Цветность воды, указывающая на присутствие аллохтонного органического вещества, несколько увеличилась (табл. 1). В последнем случае на величину цветности могло повлиять как уменьшение объема притока, так и его внутригодовое перераспределение (увеличение в осенние и зимние месяцы) в современный период.
В Рыбинском вдхр. выявлены значительные межгодовые вариации характеристик планктона. Период колебаний концентрации хлорофилла, бактериопланктона и биомассы зоопланктона ~10 лет, биомассы зоопланктона – ~20 лет (Романенко, 1985; Пырина, 2000; Лазарева и др., 2001; Копылов, Косолапов, 2008; Лазарева, 2010).
Бактериопланктон. Оптимальная для развития бактериопланктона температура воды в вегетационный период выше естественной (Романенко, 1985). Поэтому в годы с более высоким прогревом воды в большинстве случаев регистрируют и более высокие средние за вегетационный период значения численности, биомассы и продукции бактериопланктона. Подтверждением служат высокие коэффициенты корреляции между этими структурно-функциональными показателями бактериопланктона и температурой воды (rS = 0.73, 0.57 и 0.64 соответственно). Получены так же высокие положительные коэффициенты корреляции численности, биомассы и продукции бактериопланктона с концентрацией Хл а (rS = 0.62–0.80) и с первичной продукцией планктона (rS = 0.61–0.86) – ключевого источника органического углерода для гетеротрофного бактериопланктона.
За период наблюдений с 1954 по 2020 гг. в водохранилище поступательно увеличивалась NBac (рис. 3). Средняя за вегетационный период NBac начала расти еще до начала потепления и в 1965–1976 гг. в 1.2 раза превышала таковую в 1954–1964 гг. В 1977–1995 гг. NBac стала в среднем в 1.4 раза выше, чем до начала потепления. В XXI в. средняя NBac возросла по сравнению с 1977–1995 гг. в 1.7 раза (табл. 3).
Рис. 3. Многолетняя динамика средних за вегетационный сезон микробиологических показателей в Рыбинском водохранилище: а — численность бактериопланктона (NBac); б — продукция бактериопланктона (PBac); в — интенсивность фотосинтеза фитопланктона (PPh); г — соотношение бактериальной продукции и первичной (в сумме с внеклеточной продукцией водорослей) продукции в толще воды под 1 м2 (∑PBac/∑PPh). Пунктирные линии — линии тренда.
Таблица 3. Средние за вегетационный период (май–октябрь) значения микробиологических параметров в толще воды Рыбинского водохранилища до начала потепления (1965–1976 гг.) и в период климатических изменений после 1977 г.
Показатель | Годы | ||
1965–1976 | 1977–1995 | 2005–2020 | |
Численность бактериопланктона, 106 кл./мл | 2.52 ± 0.16 | 3.34 ± 0.18 | 5.55 ± 0.14 |
Биомасса бактериопланктона, мг C/м3 (ВВac) | – | 87 ± 2 | 116 ± 5 |
Бактериальная продукция, мг С/(м3 · сут) | 33.8 ± 3.68 | 33.5 ± 2.4 | 66.8 ± 8.0 |
РВac, мг С/(м2 · сут) | 339 ± 37 | 314 ± 23 | 692 ± 80 |
Первичная продукция, мг С/(м3 · сут) (РРh) | 165 ± 21 | 195 ± 22 | 274 ± 32 |
ΣРРh, мг С/(м2 · сут) | 569 ± 88 | 482 ± 59 | 634 ± 53 |
РВac/ВВac | – | 0.40 ± 0.01 | 0.45 ± 0.05 |
ΣРВac/ΣРРh* | 0.58 ± 0.10 | 0.71 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 |
Примечание. Приведены средние величины со стандартной ошибкой, “–” – данные отсутствуют. * – суммарная клеточная и внеклеточная продукция фитопланктона.
Продукция бактериопланктона оставалась неизменной до конца XX в., но увеличилась вдвое в XXI в. При этом средние суточные Р/В-коэффициенты в конце XX в. и начале ХХI в. были близкими (табл. 3). Эффективность бактериального роста до и после повышения температуры воды в водохранилище была примерно одинаковой и в среднем достигала 0.3 (Романенко, 1985; Косолапов и др., 2014). Также в два раза увеличилась интенсивность дыхания бактерий, за счет чего выросло образование СО2 и его эмиссия в атмосферу.
Средняя за период вегетации интенсивность фотосинтеза в XXI в. была в 1.4 раза выше, чем в 1977–1995 гг., и в 1.7 раза выше, чем в 1965–1976 гг. В конце XX в. одновременно с уменьшением прозрачности воды произошло уменьшение интегральной первичной продукции планктона. В итоге ее среднее значение в 2005–2020 гг. было выше, чем в 1965–1976 гг. только в 1.1 раза. В 1965–1976 гг. между интегральной первичной продукцией и прозрачностью воды отмечена тесная положительная связь (rS = 0.55), в 1977–1995 гг. она была более слабой (rS = 0.34), а в 2005–2020 гг. отсутствовала.
В водохранилищах р. Волги деструкционные процессы преобладают над продукционными (Романенко, 1985; Минеева, 2009). Основная причина этого — значительное поступление в водоемы аллохтонного органического вещества. В Рыбинском вдхр. получены высокие значения отношения продукции гетеротрофного бактериопланктона к первичной продукции планктона (табл. 3). Они свидетельствуют, что в метаболизм микробных планктонных сообществ включается органическое вещество, не только вновь синтезированное автотрофами, но и поступающее с водосбора. В последнее десятилетие наблюдается постоянное превышение интегральных (под 1 м2) средних за вегетационный период значений бактериальной продукции над первичной продукцией планктона (до 2.38 в 2016 г.). По-видимому, роль продукции фитопланктона в обеспечении потребностей бактериопланктона органическим углеродом снижается, а роль аллохтонного органического вещества и, возможно, органического вещества, образуемого высшей водной растительностью, возрастает.
Содержание Хл а в воде Рыбинского вдхр. за весь период наблюдений с 1969 г. изменялось от 1–3 до 150 мкг/л. Верхний предел до начала потепления не превышал 50 мкг/л, впоследствии стал существенно выше. Экстремальные величины, как правило, отмечались в разгар лета при массовом развитии цианобактерий (синезеленых водорослей), интенсивность и продолжительность вегетации которых увеличились в последние годы (Корнева, 2015; Минеева, 2016).
Средние за вегетационный сезон концентрации Хл а варьировали от 5 до 22 мкг/л (рис. 4). При устойчивом росте температуры воды в водохранилище отмечена достоверная тенденция к увеличению содержания Хл а, которое выросло в 1.4 раза за весь период потепления (1977–2021) и в 1.9 раза после 2010 г. (табл. 4). Годовой прирост Хл а, составивший 0.40 ± 0.03 мкг/л (R2 = 0.75) за 50 лет наблюдений, менялся от 1.2 ± 0.1 мкг/л в 1969–1984 гг. до 2.2 ± 0.3 мкг/л в 1987–1996 гг. и до 2.4 ± 0.4 мкг/л в 2010–2019 гг. (Mineeva, 2022). Таким образом, потепление в целом интенсифицировало развитие фитопланктона в водохранилище. Однако коэффициент корреляции между среднесезонным содержанием Хл а и температурой воды за весь период исследований (r = 0.33) свидетельствует об ее слабом влиянии на развитие фитопланктона.
Рис. 4. Многолетняя динамика средних за вегетационный сезон показателей развития фитопланктона Рыбинского водохранилища: а — содержание Хл а (пунктир — линия тренда), б — биомасса фитопланктона (ВPh), в — численность фитопланктона (NPh), г — отклонение биомассы от среднего показателя.
Таблица 4. Содержание хлорофилла и биомасса фитопланктона в пелагиали Рыбинского водохранилища до начала потепления (1969–1976 гг.) и в период климатических изменений после 1977 г.
Показатель | Годы | |||
1969–1976 | 1977–1999 | 2000–2020 | 2010–2020 | |
Хл а, мкг/л | 9.0 ± 0.4 | 12.4 ± 0.3 | 13.9 ± 0.5 | 17.2 ± 0.7 |
ВРh, мг/л | 1.76 ± 0.14* | 2.18 ± 0.25 | 1.56 ± 0.18 | 1.66 ± 0.18 |
Примечание. Представлены средние величины со стандартной ошибкой.
*Данные 1954–1976 гг.
Многолетняя динамика Хл a представляет собой ломаную линию с чередованием подъемов и спадов (рис. 4). Формирование пиков и спадов Хл a характеризуется периодичностью, которая близка к 11-летнему циклу солнечной активности, оцениваемой по числам Вольфа (Структура…, 2018). Аналогичные связи выявлены для многолетней динамики продуктивности фитопланктона водохранилища во второй половине ХХ в. (Пырина, 2000; Литвинов и др., 2005; Пырина др., 2006). Фитопланктон водохранилища не испытывает дефицита биогенных веществ (Корнева, 1993, 2015; Минеева и др., 2021), сезонные изменения которых происходят в пределах естественных колебаний и свидетельствуют о стабилизации их режима в последние 40 лет (Степанова и др., 2013).
Четких изменений Хл а при смене фаз водности не прослеживается (табл. 5). В каждую последующую фазу содержание Хл а может или увеличиваться, или уменьшаться по сравнению с предыдущей. Более высокие величины, которые в двух случаях отмечены с наступлением многоводного периода, обусловлены, вероятно, дополнительным поступлением в толщу воды питательных веществ. Оно происходит за счет их смыва с водосборной территории обильными атмосферными осадками, а также при взмучивании донных отложений в результате ветрового воздействия, которому часто подвергается акватория крупного мелководного водоема с высоким коэффициентом открытости. Средние концентрации Хл а, рассчитанные для всех маловодных и многоводных лет в период потепления (13.3 ± 0.3 и 12.8 ± 0.8 мкг/л соответственно), значимо не различаются (t = 0.70), хотя первый показатель незначительно выше второго.
Таблица 5. Содержание хлорофилла и биомасса фитопланктона в пелагиали Рыбинского водохранилища в разные фазы водности
Показатель | Маловодные периоды, годы | Многоводные периоды, годы | |||||
1969‒1976 | 1996‒2003 | 2014‒2016 | 1951–1962 | 1977‒1995 | 2004‒2013 | 2017‒2020 | |
Хл а, мкг/л | 9.0 ± 0.4 | 10.8 ± 1.0 | 15.9 ± 1.3 | – | 12.6 ± 0.3 | 15.1 ± 0.7 | 10.8 ± 0.6 |
ВРh, мг/л | 1.83 ± 0.20 | 2.00 ± 0.30 | 1.60 ± 0.26 | 1.64 ± 0.18 | 2.26 ± 0.27 | 1.21 ± 0.25 | 2.18 ± 0.14 |
Примечание. Даны средние величины со стандартной ошибкой.
Максимальное развитие водорослей, сопровождаемое всплеском Хл а и его высокими средними концентрациями, отмечается в годы с преобладанием антициклонального типа погоды, небольшим количеством осадков, низким уровнем водохранилища, повышенным прогревом водной толщи и преобладанием штилей (Пырина, 2000; Минеева 2004; Пырина и др., 2006). Для региона водохранилища такие условия были отмечены в 1972, 1973, 1981, 1984, 1994, 1995, 2000, 2001, 2011–2013 годах, одни из которых относятся к маловодной, другие к многоводной фазе. Условия этих лет давали толчок для интенсивного развития фитопланктона, которое постепенно снижалось после подъема, но оставалось в целом на более высоком уровне, чем в предыдущий период, отражая повышение трофии водоема. Среди этих лет выделялся летний сезон 2010 г., условия которого послужили мощным триггером для последующего интенсивной вегетации фитопланктона в 2011–2013 гг. (рис. 4).
Развитие фитопланктона водохранилища в значительной степени контролируется совокупностью рассмотренных выше климатических и гидрологических характеристик. Об этом свидетельствует высокий коэффициент детерминации между ними и средним за сезон содержанием Хл а (R2 = 0.93). К наиболее значимым факторам, выделенным с помощью пошаговой регрессии, относятся объем поверхностного притока, количество осадков, электропроводность (минерализация) и прозрачность воды.
При определенной цикличности многолетней динамики Хл а, близкой к 11-летнему циклу солнечной активности, теснота и направленность его связи с факторами среды меняется. В первые годы исследований до начала потепления содержание Хл а было достоверно связано с уровнем воды в водохранилище и зимним индексом NAO (rS = –0.62 и 0.76). В конце ХХ в. (1977–1999 гг.) выявлена умеренная положительная связь Хл a с температурой воды, зимним индексом NAO и отрицательная — с уровнем воды (rS = 0.44, 0.48, –0.43 соответственно). В период 2000–2019 гг. в список факторов вошли температура воды и числа Вольфа (rS = 0.66 и 0.48), прозрачность и уровень воды (rS = –0.69 и –0.38). За весь период потепления умеренная отрицательная связь Хл а обнаружена с прозрачностью и уровнем воды (rS = –0.30). В последние годы (2009–2020) динамика Хл а тесно связана с водным режимом водохранилища. Для средних за сезон концентраций Хл а получены отрицательные коэффициенты корреляции с параметрами водности (rS = –0.65 с объемом притока и количеством осадков, –0.85 с уровнем воды), усилилась зависимость от температуры и чисел Вольфа (rS = 0.71 и 0.81) (Mineeva, 2022).
Интегральным показателем экологического состояния водоема служат средние за вегетационный сезон концентрации Хл а. Из 51 года наблюдения в 18 случаях водохранилище характеризовалось как мезотрофное (Хл а <10 мкг/л), в 18 – как умеренно эвтрофное (10–15 мкг/л) и в 15 – как эвтрофное (15–22 мкг/л). Самые высокие концентрации Хл а, отражающие эвтрофное состояние водохранилища, чаще отмечаются в период потепления.
Фитопланктон. В отличие от содержания Хл а, положительный тренд в межгодовой динамике BPh намного слабее (r = 0.31). Однако средняя BPh, постепенно увеличивавшаяся после 1970 г., в 1971–2001 гг. достигла 2.24 ± 0.18 мг/л и стала достоверно выше, чем в 1954–1970 гг. (1.56 ± 0.13 мг/л) (табл. 4). Отставание прироста BPh от содержания Хл а связано с изменением размерного состава фитопланктона — постепенным многолетним увеличением доли мелкоклеточных видов r-стратегов, обладающих более высокой скоростью роста (Корнева, 2015; Структура…, 2018). В многолетней (1954–2016 гг.) динамике средневегетационной BPh можно выделить три периода. В 1958–1970 гг. частота и величина отрицательных отклонений от средней многолетней величины была выше положительных отклонений; положительные отклонения преобладали в 1971–2001 гг., а после 2001 г. ситуация первых 15 лет наблюдений повторилась (рис. 4) (Структура..., 2018). В многоводные годы средняя BPh была выше, чем в маловодные (табл. 5).
Начиная с 1981 г., в сезонной динамике BPh выделяется летний пик, обусловленный развитием цианобактерий, который стал превалировать над весенним максимумом диатомей. В отличие от BPh, средневегетационная численность фитопланктона, начиная с 1981 г., возросла вдвое (рис. 4). При этом почти втрое увеличилась средняя биомасса цианобактерий и вдвое снизилась биомасса диатомовых водорослей (Корнева, 2015; Структура..., 2018).
Средневегетационная BPh Рыбинского вдхр. достоверно положительно связана с температурой воды и индексом NAO (r = 0.43 и 0.51), но отрицательно с уровнем воды и скоростью ветра (r = –0.48 и –0.44). С возрастанием количества атмосферных осадков, с которыми хорошо скоррелирован уровень воды водохранилища, происходит увеличение удельного водосбора и притока гумифицированных вод с поверхностным стоком, что характерно для всех водоемов, расположенных в гумидной зоне. Это подтверждает прямая линейная связь между количеством осадков и цветностью воды (Корнева, 2015). Увеличение количества осадков, с которым отрицательно связана прозрачность воды, способствует уменьшению глубины проникновения солнечной радиации и ухудшению световых условий в водоеме. Это может сдерживать развитие фитопланктона.
При преобладании погоды антициклонального типа и усилении поступления солнечной радиации наблюдается снижение скорости ветра и скорости ветровых течений, которые преобладают в Рыбинском вдхр. (Литвинов, 2000). Это способствует увеличению BPh, о чем свидетельствует ее обратная связь со скоростью ветра.
Гидростроительство на р. Волге и изменение климата, повлекшие за собой трансформацию гидрологического и гидрохимического режима реки, стали причиной распространения чужеродных видов планктонных водорослей (Korneva, 2007, 2014, 2015). Постепенное увеличение минерализации воды в Рыбинском водохранилище (Законнова, Литвинов, 2005) способствовало прогрессивному распространению солоновато-водных видов. К настоящему времени в водохранилище выделяют семь видов-вселенцев, из них шесть диатомовых — Skeletonema subsalsum (Cleve-Euler) Bethge, S. potamos (Weber) Hasle, Actinocyclus normanii (W. Gregory ex Greville) Hust., Thalassiosira lacustris (Grun.) Hasle (Syn. Coscinodiscus lacustris Grun., T. bramaputrae (Ehr.) Håk. et Locker), Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal, Conticribra weissflogii (Grunow) Stachura-Suchoples et Williams (Syn. Thalassiosira weissflogii (Grun.) G. Fryxell & Hasle) и один вид динофитовых водорослей Peridiniopsis kevei Grigor. et Vasas (Syn. P. rhomboides Krachmalny) (Korneva, 2007, 2014; Korneva et al., 2015). Только два вида Skeletonema subsalsum и Actinocyclus normanii, выдерживающие высокий уровень содержания органического вещества, достигают существенного развития в планктонных альгоценозах водохранилища. Получена достоверная положительная связь между максимальной численностью Skeletonema subsalsum и средней по водоему температурой воды в 1987–2007 гг. (r = 0.39). Непрерывный рост температуры воды водоема с середины 1970‑х годов способствовал также увеличению числа сезонных популяционных пиков этого вида (Корнева, 2015). Дальнейшей экспансии солоновато-водных видов водорослей может способствовать увеличение минерализации пресных вод, ожидаемое на фоне глобального потепления (Гопченко, Лобода, 2000; Korneva, 2007, 2014).
Зоопланктон. По данным многолетних исследований (1956–2018 гг.), средняя за май–октябрь общая BZoo изменялась почти на порядок (от 0.25 до 2.1 г/м3) (рис. 5), а NZoo — более чем в шесть раз (от 30 до190 тыс. экз./м3). В многолетнем аспекте выявлены значительные межгодовые вариации характеристик зоопланктона. Период колебаний NZoo достигает ~10 лет, BZoo – ~20 лет (Лазарева и др., 2001). В период потепления (1976–2018 гг.) BZoo выросла в среднем в 2.5 раза (табл. 6).
Рис. 5. Многолетняя (а) и сезонная (б) динамика биомассы зоопланктона Рыбинского водохранилища. 1 – средняя за вегетационный период (май–октябрь), 2 – средняя летняя (июль–август), 3 – в многоводную фазу гидрологического цикла до потепления (1951–1962 гг.), 4 – в многоводную фазу гидрологического цикла в период потепления (2004–2013 гг.), 5 – в 2010 г.
Таблица 6. Обилие зоопланктона и его основных групп в пелагиали Рыбинского водохранилища до начала потепления (1956–1976 гг.) и в период климатических изменений после 1977 г.
Показатель | Годы | |||
1956–1976 | 1977–1995 | 2004–2018 | Cреднее за 1977–2018 | |
ВZоо, г/м3 | 0.51 ± 0.02 | 1.31 ± 0.05 | 1.03 ± 0.04 | 1.27 ± 0.09 |
NZоо, тыс. экз./м3: |
|
|
|
|
общая | 83.4 ± 4.1 | 87.9 ± 4.6 | 107.3 ± 4.7 | 96.9 ± 6.6 |
Cladocera | 9.1 ± 0.5 | 15.0 ± 0.6 | 14.9 ± 1.1 | 15.0 ± 1.0 |
Copepoda | 16.7 ± 0.7 | 28.7 ± 1.1 | 35.5 ± 1.3 | 31.7 ± 2.1 |
Crustacea | 25.8 ± 1.0 | 43.7 ± 1.5 | 50.3 ± 1.9 | 46.7 ± 2.7 |
Rotifera | 57.6 ± 3.8 | 44.2 ± 3.6 | 57.0 ± 3.7 | 50.2 ± 4.4 |
Примечание. Даны средние величины со стандартной ошибкой.
Наибольшие средние за вегетационный период (май–октябрь) значения BZoo (>1.3 г/м3) отмечены в 1980–1995 гг. (рис. 5). Резкое увеличение BZoo в 1980‑х годах связывали с антропогенным эвтрофированием и биостоком из Шекснинского водохранилища, заполненного в 1963 г. (Ривьер, 1988). Позже установлено, что рост BZoo определялся увеличением численности ракообразных (роды Daphnia, Bosmina, Mesocyclops и Eudiaptomus), которые были обильны и в 2000‑х годах (Лазарева и др., 2001; Лазарева, 2010; Структура…, 2018). Доля ракообразных в NZoo в течение всего периода наблюдений выросла с 30 до 50%. Численность Cladocera увеличилась в 1.6 раза, Copepoda — в 1.9 раза. При этом обилие коловраток и NZoo варьировали без какой-либо тенденции. Различия состава доминантных видов и их соотношения в теплые и холодные годы наблюдали и до начала потепления в 1950–1970‑х годах (Рыбинское…, 1972; Ривьер и др., 1982).
В 1960–1970‑х годах до начала потепления средняя суточная продукция зоопланктона (0.21 ккал/м2) соответствовала таковой в олиготрофных и мезотрофных водоемах (Владимирова, 1974). В начале XXI в. (2004–2010 гг.) она выросла до 0.34–0.52 ккал/м2 и стала характерной для эвтрофных водоемов (Лазарева, Соколова, 2015).
Обилие зоопланктона различалось в разные фазы гидрологического цикла. В маловодные периоды NZoo и, особенно, BZoo были существенно ниже, чем в многоводные, что наиболее заметно в период потепления (табл. 7). Средняя BZoo в маловодные фазы достигала 0.58 ± 0.04 г/м3, Nzoo — 74 ± 5 тыс. экз./м3, в многоводные — 1.1 ± 0.1 г/м3 и 98 ± 6 тыс. экз./м3 соответственно. Высокое обилие зоопланктона в многоводную фазу, вероятно, определялось увеличением биостока из сопредельных Угличского и Шекснинского водохранилищ. Особенно сильное влияние биосток может оказывать на обилие копепод, зимующие стадии которых поднимаются в планктон ранней весной и с паводковыми водами в большом количестве поступают и аккумулируются в обширном озеровидном Рыбинском вдхр.
Таблица 7. Обилие зоопланктона и его основных групп в пелагиали Рыбинского водохранилища в маловодные и многоводные фазы водности
Показатель | Маловодные годы | Многоводные годы | ||||
1963‒1976 | 2014‒2016 | 1951‒1962 | 1977‒1995 | 2004‒2013 | 2017‒2020 | |
ВZоо, г/м3 | 0.54 ± 0.02 | 0.82 ± 0.04 | 0.46 ± 0.04 | 1.31 ± 0.05 | 1.02 ± 0.10 | 1.04 ± 0.10 |
NZоо, тыс. экз./м3: общая |
70.5 ± 4.3 |
97.1 ± 9.7 |
109.5 ± 7.7 |
87.9 ± 4.6 |
104.6 ± 13.5 |
111.9 ± 15.0 |
Cladocera | 8.1 ± 0.6 | 18.5 ± 8.7 | 11.2 ± 0.9 | 15.0 ± 0.6 | 14.2 ± 2.2 | 17.4 ± 3.9 |
Copepoda | 15.3 ± 0.7 | 28.9 ± 4.2 | 19.4 ± 1.3 | 28.7 ± 1.1 | 35.0 ± 4.5 | 29.6 ± 3.1 |
Crustacea | 23.4 ± 1.1 | 47.3 ± 4.5 | 30.6 ± 1.9 | 43.7 ± 1.5 | 49.1 ± 6.4 | 47.0 ± 5.0 |
Rotifera | 47.1 ± 3.8 | 49.8 ± 5.2 | 78.9 ± 7.5 | 44.2 ± 3.6 | 55.5 ± 8.1 | 64.9 ± 12.6 |
Примечание. Даны средние величины со стандартной ошибкой.
В период потепления NZoo и BZoo увеличились как в маловодную фазу (в 1.4–1.5 раза), так и в многоводную фазу (в 1.3–2.5 раза). Максимальный рост зарегистрирован для BZoo. Количество ракообразных было наибольшим (>70 тыс. экз./м3) в аномально жарком 2010 г. и последующие теплые 2011 и 2013 гг. Обилие меропланктона, представленного личинками моллюсков рода Dreissena, снизилось в три раза (до <6 тыс. экз./м3) после длительного периода (~2 мес) летнего дефицита кислорода в июле–августе 2010 г. и до сих пор не восстановилось.
Потепление климата изменило сезонный ход развития сообщества. Во второй половине лета (июль–август) стал отчетливо формироваться второй максимум BZoo в августе (рис. 5), удлинился период массового развития летнего зоопланктона. Изменение сезонного цикла зоопланктона стало одним из наиболее заметных откликов сообщества на потепление. Августовский максимум BZoo, удлинение периода массового развития летнего зоопланктона более чем на две недели, превалирование августовского пика BZoo над июльским были особенно хорошо выражены летом аномально жаркого 2010 г. В начале 1950‑х годов сезонное развитие зоопланктона характеризовалось двумя пиками NZoo и BZoo, наблюдавшимися в июне и сентябре–октябре, в середине лета часто отмечали продолжительный минимум BZoo (Мордухай-Болтовская, 1956; Рыбинское…, 1972). За весь период наблюдений максимальная Bzoo выросла с <1 г/м3 до 1.9–2.2 г/м3 и в настоящее время стала вдвое выше, чем до потепления. Кроме того, стал заметным небольшой подъем биомассы осенью в октябре.
К изменению сезонной динамики зоопланктона привело увеличение количества дафний (Daphnia galeata Sars, 1863), а также циклопоидных копепод (Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) и Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)), высокая численность которых наблюдается во второй половине лета. В XXI веке в водохранилище выявлена тенденция к смещению сроков фенологических событий сезонного цикла ракообразных, для некоторых видов (Daphnia galeata) установлен достоверный сдвиг сроков на 1–2 нед. относительно 1960–1970‑х годов (Лазарева, Соколова, 2013). Увеличение температуры воды и продолжительности вегетационного периода, сопровождающие рост обилия зоопланктона, особенно кладоцер рода Daphnia и циклопоидных копепод, отмечают также в озерах Европы (Adrian et al., 2006; Wagner, Adrian, 2009; Vadadi-Fülöp et al., 2012; Carter et al., 2017).
В течение всего периода наблюдений обилие зоопланктона и отдельных его групп тесно положительно коррелировало с температурой воды, отражающей скорость биотических процессов, и концентрацией хлорофилла, характеризующей обеспеченность пищей фильтраторов и всеядных видов. Кроме того, численность кладоцер и копепод, а также Вzoo положительно коррелировали с зимним индексом NAO. Выявлена обратная корреляция Bzoo и численности копепод с прозрачностью воды, которая определялась снижением прозрачности летом при высокой концентрации планктона. Наиболее важными факторами для динамики обилия зоопланктона были концентрация водорослей (по Хл а), годовой приток вод в водохранилище и средняя за вегетационный период температура воды. До 1989 г. основным фактором увеличения BZoo служило количество фитопланктона (R2 = 0.59), заметный вклад вносили также прогрев воды (R2 = 0.14) и динамика притока (R2 = 0.10). В последующие годы степень воздействия гидрофизических факторов на зоопланктон снизилась, в 1990–2018 гг. их влияние оказалось не достоверно. Наиболее важной осталась пищевая обеспеченность зоопланктона — содержание Хл а (R2 = 0.27). Вероятно, увеличение обилия зоопланктона привело к росту конкуренции за пищу между составляющими его видами, тогда как прочие факторы отошли на второй план.
Заключение
Многолетними наблюдениями установлено, что изменение гидрометеорологических характеристик в экосистеме Рыбинского водохранилища, определяющееся климатическими условиями, вышло за пределы самого мягкого сценария потепления климата. Температура воздуха береговой зоны в теплый сезон увеличилась в среднем на 0.9°С, температура воды ‒ на 1.4°С, среднегодовой приток — на 7.5%. Повышение температуры воздуха в зимние месяцы на 2.0–2.5°С способствовало увеличению продолжительности безледного периода с 198 до 211 сут. За годы потепления (1977–2019 гг.) выявлено увеличение средней за май–октябрь температуры воды со скоростью 0.72°С/10 лет, увеличение электропроводности и цветности воды, снижение прозрачности.
В водохранилище зарегистрированы значительные межгодовые вариации характеристик планктона. В межгодовой динамике гетеротрофного бактериопланктона высокие средние за вегетационный период величины численности, биомассы и продукции регистрируются в годы с повышенным прогревом воды. Интенсификацию микробиологических процессов вызвал интенсивный рост температуры воды после 2000 г. Численность бактериопланктона, которая поступательно увеличивалась в течение всего периода наблюдений с 1954 г., в XXI в. выросла в 1.7 раза, продукция и интенсивность дыхания бактерий увеличились вдвое, за счет чего выросло бактериальное образование СО2 и его эмиссия в атмосферу. В последнее десятилетие наблюдается значительное превышение бактериальной продукции в толще воды над первичной продукцией, свидетельствующее, что в метаболизме микробных сообществ увеличилась доля аллохтонного органического вещества, поступающего с водосбора.
Развитие фитопланктона водохранилища определяется совокупность климатических и гидрологических характеристик, объясняющих высокую долю вариации Хл а (R2 = 0.93). К наиболее значимым факторам, влияющим на содержание Хл а, отнесены объем поверхностного притока, количество осадков, электропроводность (минерализация) и прозрачность воды. При устойчивом росте температуры воды отмечено увеличение содержания Хл а в 1.4 раза в 1977–2021 гг. и в 1.9 раза после 2010 г. Климатические условия и водный режим определяют вариации трофического статуса водохранилища, который за весь период исследований менялся от мезотрофного до эвтрофного. Концентрации Хл а >15 мкг/л, отражающие эвтрофное состояние водохранилища, чаще отмечают в период потепления.
В межгодовой динамике биомассы фитопланктона отмечен достоверный, но более слабый, чем для хлорофилла, положительный тренд. Отставание прироста биомассы от хлорофилла связано с изменением баланса крупноклеточных и мелкоклеточных форм водорослей в сторону постепенного увеличения мелкоклеточных видов (r-стратегов), обладающих более высокой скоростью роста. Современные климатические изменения привели к увеличению общей численности фитопланктона за счет цианобактерий, интенсивное развитие которых обусловило формирование продолжительного летнего максимума в сезонной динамике. Рост минерализации воды способствовал появлению, увеличению обилия и разнообразия, а также прогрессивному распространению чужеродных солоновато-водных видов водорослей, адаптированных к высокому содержанию органического вещества.
В период потепления произошло существенное изменение структуры зоопланктона, вызванное ростом численности ракообразных. Количество кладоцер увеличилось в 1.6 раза, копепод — в 1.9 раза, а их общий вклад в общую биомассу сообщества — с 30 до 50%. Средняя суммарная биомасса зоопланктона выросла в 2.5 раза, ее максимум отмечен в 1980–1995 гг. В условиях увеличившегося на две недели периода открытой воды изменилась сезонная динамика сообщества за счет высокой численности рачков. Сформировался мощный позднелетний (июль–август) пик биомассы. Основными факторами, стимулирующими развитие зоопланктона, послужили рост температуры воды, удлинение вегетационного периода и увеличение количества доступной пищи, в первую очередь водорослей и детрита.
Интенсификация гидробиологических процессов особенно отчетливо проявилась после аномально жаркого 2010 г., когда в водохранилище стал формироваться дефицит растворенного кислорода в слое воды глубже 5 м. Условия этого года послужили мощным триггером для последующей интенсивной вегетации фитопланктона с высокими концентрациями хлорофилла в 2011–2013 гг. Позднелетний пик биомассы зоопланктона в 2010 г. оказался выше раннелетнего, а численность ракообразных превысила 70 тыс. экз./м3. При этом после длительного летнего дефицита кислорода в три раза снизилось обилие личинок моллюсков рода Dreissena, которое до сих пор не восстановилось.
За весь цикл многолетних наблюдений на основе интегральной кривой притока в водохранилище выделено три маловодные и четыре многоводные фазы. При смене фаз водности четких изменений Хл а не прослеживается. Для всех маловодных и многоводных лет в период потепления получены близкие средние концентрации Хл а (13.3 ± 0.3 и 12.8 ± 0.8 мкг/л соответственно). В разные фазы гидрологического цикла меняется обилие зоопланктона. В многоводные периоды биомасса зоопланктона в среднем вдвое выше, чем в маловодные, за счет биостока из сопредельных Шекснинского и Угличского водохранилищ.
На фоне квазипериодических колебаний характеристик планктона Рыбинского водохранилища, в период потепления выявлено направленное увеличение обилия и продуктивности, изменение структуры и сезонной динамики всех групп планктона, также отмечено вселение чужеродных солоновато-водных видов водорослей. Таким образом, потепление существенно трансформировало экосистему водохранилища, интенсифицировало процессы эвтрофирования и ухудшило качество воды.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена в рамках государственных заданий № 121051100099-5, 121051100104-6, 121051100102-2, 121051100109-1.
Сокращения: BPh, BZoo — биомасса фито- и зоопланктона, NZoo, NBac — численность зоо- и бактериопланктона, Хл а — хлорофилл а, NAO — индекс Северо-Атлантического колебания (North Atlantic Oscillation), r — коэффициент корреляции Пирсона, rS – коэффициент корреляции Спирмена, R2 – коэффициент детерминации, p — уровень значимости.
Об авторах
Н. М. Минеева
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
В. И. Лазарева
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
С. А. Поддубный
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
А. В. Законнова
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
А. И. Копылов
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
Д. Б. Косолапов
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
Л. Г. Корнева
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
Е. А. Соколова
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
И. Л. Пырина
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
И. В. Митропольская
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук
Email: mineeva@ibiw.ru
Россия, Ярославская обл, Некоузский р-н, пос. Борок
Список литературы
- Балушкина Е.В., Винберг Г.Г. 1979. Зависимость между длиной и массой тела планктонных ракообразных // Экспериментальные и полевые исследования биологических основ продуктивности озер. Л.: Зоол. ин-т АН СССР. С. 58.
- Бикбулатов Э.С., Бикбулатова Е.М., Литвинов А.С., Поддубный С.А. 2003. Гидрология и гидрохимия озера Неро. Рыбинск: Изд-во ОАО Рыбинский Дом печати.
- Владимирова Т.М. 1974. Продукция зоопланктона Рыбинского водохранилища // Биология и продуктивность пресноводных беспозвоночных. Л.: Наука. С. 37.
- Гладышев М.И., Семенченко В.П., Дубовская О.П. и др. 2011. Влияние температуры воды на содержание незаменимых полиненасыщенных жирных кислот в пресноводном зоопланктоне // Докл. Академии наук РАН. Т. 437. № 1. С. 117.
- Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. 2000. Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления // Гидробиол. журн. Т. 36. № 3. С. 67.
- Дроздов В.В., Смирнов Н.П. 2011. Влияние крупномасштабных циркуляционных процессов на температурный режим Беломорского региона // Проблемы Арктики и Антарктики. № 3(89). С. 78.
- Евстигнеев В.М., Кислов А.В., Сидорова М.В. 2010. Влияние климатических изменений на годовой сток рек Восточно-Европейской равнины в XXI в. // Вестн. Москов. ун-та. Сер. 5. География. № 2. С. 3.
- Законнова А.В. 2021. Климатические изменения термического режима Рыбинского водохранилища // Тр. Ин-та биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. Вып. 94(97). С. 7. https://doi.org/10.47021/0320-3557-2021-94-7-16
- Законнова А.В., Литвинов А.С. 2005. Изменение ионного стока реки Волги за многолетний период // Актуальные проблемы экологии Ярославской области. Ярославль: Верхневолжское отделение РЭА. Вып. 3. Т. 1. С. 187.
- Иванова М.Б. 1985. Продукция планктонных ракообразных в пресных водах. Л.: Зоол. ин-т АН СССР.
- Китаев С.П. 2007. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: Карельск. науч. центр РАН.
- Коломыц Э.Г. 2003. Региональная модель глобальных изменений природной среды. М.: Наука.
- Копылов А.И., Косолапов Д.Б. 2008. Бактериопланктон водохранилищ Верхней и Средней Волги. М.: Изд-во Современного гуманитарного ун-та.
- Копылов А.И., Косолапов Д.Б., Масленникова Т.С., Мыльникова З.М. 2018. Продукция гетеротрофного бактериопланктона в крупном мезоэвтрофном водохранилище: значение прижизненных выделений фитопланктона // Сиб. экол. журн. № 1. С. 67. https://doi.org/10.15372/SEJ20180106.
- Копылов А.И., Масленникова Т.С., Косолапов Д.Б. 2019. Сезонные и межгодовые колебания первичной продукции фитопланктона в Рыбинском водохранилище: влияние погодных и климатических изменений // Водн. ресурсы. Т. 46. № 3. С. 270. https://doi.org/ 10.31857/S0321-0596463270-277.
- Косолапов Д.Б., Косолапова Н.Г., Румянцева Е.В. 2014. Активность и эффективность роста гетеротрофных бактерий Рыбинского водохранилища // Изв. РАН. Сер. Биол. № 4. C. 355. https://doi.org/10.7868/S0002332914040067.
- Корнева Л.Г. 1993. Фитопланктон Рыбинского водохранилища: состав, особенности распределения, последствия эвтрофирования // Современное состояние экосистемы Рыбинского водохранилища. СПб.: Гидрометеоиздат. С. 50.
- Корнева Л.Г. 2015. Фитопланктон водохранилищ бассейна Волги. Кострома: Дом печати.
- Кузнецов С.И., Дубинина Г.А. 1989. Методы изучения водных микроорганизмов. М.: Наука.
- Лазарева В.И. 2010. Структура и динамика зоопланктона Рыбинского водохранилища. М.: Тов-во науч. изд. КМК.
- Лазарева В.И. 2014. Потепление климата и его влияние на зоопланктон водохранилищ Волги. Экологический мониторинг. Ч. VIII. Современные проблемы мониторинга пресноводных экосистем: Уч. пособие. Нижний Новгород: Нижегород. ун-т. С. 182.
- Лазарева В.И. 2022. Трофические взаимодействия в зоопланктоне Цимлянского водохранилища (р. Дон, Россия) // Биология внутр. вод. № 3. С. 264. https://doi.org/10.31857/S0320965222030135.
- Лазарева В.И., Соколова Е.А. 2013. Динамика и фенология зоопланктона крупного равнинного водохранилища: отклик на изменение климата // Успехи соврем. биол. Т. 133. № 6. С. 564.
- Лазарева В.И., Соколова Е.А. 2015. Метазоопланктон равнинного водохранилища в период потепления климата: биомасса и продукция // Биология внутр. вод. № 3. С. 30. https://doi.org/10.7868/S0320965215030092
- Лазарева В.И., Лебедева И.М., Овчинникова Н.К. 2001. Изменения в сообществе зоопланктона Рыбинского водохранилища за 40 лет // Биология внутр. вод. № 4. С. 62.
- Литвинов А.С. 2000. Энерго- и массообмен в водохранилищах Волжского каскада. Ярославль: Изд-во Ярослав. гос. техн. ун-та.
- Литвинов А.С., Пырина И.Л., Рощупко В.Ф., Соколова Е.Н. 2005. Роль гидрометеорологических условий в многолетней динамике продуктивности фитопланктона во внутренних водоемах // Природно-ресурсные, экологические и социально-экономические проблемы окружающей среды в крупных речных бассейнах. М.: Медиа-Пресс. С. 70.
- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. 1975. М.: Наука.
- Минеева Н.М. 2004. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука.
- Минеева Н.М. 2009. Первичная продукция планктона в водохранилищах Волги. Ярославль: Принтхаус.
- Минеева Н.М. 2016. Сезонная и межгодовая динамика хлорофилла в планктоне Рыбинского водохранилища по данным флуоресцентной диагностики // Тр. Ин-та биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина РАН. Вып. 76(78). С. 75.
- Минеева Н.М., Степанова И.В., Семадени И.В. 2021. Биогенные элементы и их роль в развитии фитопланктона водохранилищ Верхней Волги // Биология внутр. вод. № 1. С. 24. https://doi.org/10.31857/S0320965221010095.
- Мордухай-Болтовская Э.Д. 1956. Материалы по распределению и сезонной динамике зоопланктона Рыбинского водохранилища // Тр. биол. станции “Борок”. Вып. 2. С. 108.
- Научно-прикладной справочник: Многолетние колебания и изменчивость водных ресурсов и основных характеристик стока рек Российской Федерации. 2021. СПб.: ООО РИАЛ.
- Нестеров Е.С. 2013. Северо-атлантическое колебание: атмосфера и океан. М.: Триада.
- Поддубный С.А., Цветков А.И., Иванова И.Н. и др. 2020. Термические и динамические процессы в озере Плещеево // Тр. Ин-та биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина РАН. № 90(93). С. 7. https://doi.org/10.24411/0320-3557-2020-10009
- Пырина И.Л., Литвинов А.С., Кучай Л.А. и др. 2006. Многолетние изменения первичной продукции фитопланктона в Рыбинском водохранилище в связи с действием климатических факторов // Состояние и проблемы продукционной гидробиологии. М.: КМК. С. 38.
- Пырина И.Л. 2000. Многолетние исследования содержания пигментов фитопланктона Рыбинского водохранилища // Биол. внутр. вод. № 1. С. 36.
- Ривьер И.К. 1988. Особенности функционирования зоопланктонных сообществ водоемов разных типов // Структура и функционирование пресноводных экосистем. Л.: Наука. С. 80.
- Ривьер И.К. 1986. Состав и экология зимних зоопланктонных сообществ. Л.: Наука.
- Ривьер И.К., Лебедева И.М., Овчинникова Н.К. 1982. Многолетняя динамика зоопланктона Рыбинского водохранилища // Экология водных организмов верхневолжских водохранилищ. Л.: Наука. С. 69.
- Романенко В.И. 1985. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах Л.: Наука.
- Романенко В.И., Кузнецов С.И. 1974. Экология микроорганизмов пресных водоемов. Лабораторное руководство. Л.: Наука.
- Рыбинское водохранилище и его жизнь 1972. Л.: Наука.
- Современное состояние экосистемы Рыбинского водохранилища. 1993. СПб.: Гидрометеоиздат.
- Степанова И.Э., Бикбулатова Е.М., Бикбулатов Э.С. 2013. Закономерности динамики содержания биогенных элементов в водах Рыбинского водохранилища за годы его существования // Вода: химия и экология. № 1. С. 15. https://doi.org//watchemec.ru/article/25349
- Структура и функционированием экосистемы Рыбинского водохранилища в начале XXI века. 2018. М.: РАН.
- Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Общее резюме. 2022. СПб.: Наукоемкие технологии.
- Эдельштейн К.К. 1998. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их решения. М.: ГЕОС.
- Экологические проблемы Верхней Волги. 2001. Ярославль: Ярослав. гос. техн. ун-т.
- Экология фитопланктона Рыбинского водохранилища. 1999. Тольятти: Самар. науч. центр РАН.
- Adrian R., O’Reilly C.M., Zagarese H. et al. 2009. Lakes as sentinels of climate change // Limnol., Oceanogr. V. 54. № 6. Pt 2. P. 2283.
- Adrian R., Wilhelm S., Gerten D. 2006. Life-history traits of lake plankton species may govern their phenological response to climate warming// Global Change Biol. V. 12. P. 1652.
- Bertani I., Primicerio R., Rossett G. 2016. Extreme climatic event triggers a lake regime shift that propagates across multiple trophic levels // Ecosystems. V. 19. № 1. P. 16. https: //doi.org/10.1007/s10021-015-9914-5
- Butterwick C., Heaney S.I., Talling J.F. 2005. Diversity in the influence of temperature on the growth rates of freshwater algae, and its ecological relevance // Freshwater Biol. V. 50. № 2. P. 291.
- Carter J.L., Schindler D.E., Francis T.B. 2017. Effects of climate change on zooplankton community interactions in an Alaskan lake // Climate Change Responses. Open Access. V. 4. № 3. https://doi.org/10.1186/s40665-017-0031 x
- Gerten D., Adrian R. 2000. Climate-driven changes in spring plankton dynamics and the sensitivity of shallow polymictic lakes to the North Atlantic Oscillation // Limnol., Oceanogr. V. 45. № 5. P. 1058.
- Harris G.P. 1986. Phytoplankton Ecology. Structure, Functioning and Fluctuation. L.; N.Y.: Chapman and Hall.
- Hobbie J.E., Daley R.J., Jasper S. 1977. Use of Nucleopore filters for counting bacteria by fluorescence microscopy // Appl. Environ. Microbiol. V. 33. № 5. P. 1296.
- Jeffrey S.W., Humphrey G.F. 1975. New spectrophotometric equations for determining chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants, algae and natural phytoplankton // Biochem. Physiol. Pflanz. Bd 167. P. 191.
- Jeppesen E., Kronvang B., Olesen J.E. et al. 2011. Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments in Europe: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptation // Hydrobiologia. V. 663. № 1. P. 1.
- Jeppesen E., Sondergaard M., Jensen J.P. et al. 2005. Lake responses to reduced nutrient loading — an analysis of contemporary long-term data from 35 case studies // Freshwater Biol. V. 50. № 9. P. 1747.
- Korneva L.G. 2007. Recent invasion of planktonic diatom algae in the Volga River and their causes // Inland Water Biol. № 1. P. 28.
- Korneva L.G. 2014. Invasions of Alien Species of Planktonic Microalgae into the Fresh Waters of Holarctic (Review) // Rus. J. Biol. Invasions. V. 5. № 2. Р. 65.
- Korneva L.G., Solovyeva V.V., Sakharova E.G. 2015. On the Distribution of Peridiniopsis kevei Grigor. et Vasas (Dinophyta) in the Upper Volga Reservoirs // Inland Water Biol. V. 8. № 4. P. 414. https://doi.org/10.1134/S1995082915040094
- Kraemer B.M., Kakouei K., Munteanu C. et al. 2022. Worldwide moderate-resolution mapping of lake surface chl-a reveals variable responses to global change (1997–2020) // PLOS Water. Open Access. V. 1. № 10. e0000051. https://doi.org/10.1371/journal.pwat.0000051
- Mineeva N.M. 2022. Chlorophyll and its role in freshwater ecosystem on the example of the Volga River reservoirs // Chlorophylls. Open access peer-reviewed edited volume. L.: IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.98122
- Mooij W.M., Hülsmann S., De Senerpont D.L.N. et al. 2005. The impact of climate change on lakes in the Netherlands: a review // Aquat. Ecol. V. 39. P. 381.
- Norland S. 1993. The relationship between biomass and volume of bacteria // Handbook of Methods in Aquatic Microbial Ecology. Boca Raton: Lewis Publ. P. 303.
- Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control. 1982. Paris: OECD.
- Özkan K., Jeppesen E., Davidson T.A. et al. 2016. Long-term trends and temporal synchrony in plankton richness, diversity and biomass driven by re-oligotrophication and climate across 17 Danish Lakes // Water. V. 8. № 10. P. 427. https: //doi.org/10.3390/w8100427
- Paerl H.W., Huisman J. 2009. Climate change: a catalyst for global expansion of harmful cyanobacterial blooms // Environ. Microbiol. Reports. V. 1. № 1. P. 27.
- Porter K.G., Feig Y.S. 1980. The use DAPI for identifying and counting of aquatic microflora // Limnol., Oceanogr. V. 25. № 5. P. 943. https://doi.org/10.4319/LO.1980.25.5.0943
- Ruttner-Kolisko A. 1977. Suggestion for biomass calculation of planktonic rotifers // Arch. Hydrobiol. Ergebn. Limnol. Bd 8. P. 71.
- SCOR-UNESCO Working Group 17. 1966. Determination of photosynthetic pigments in sea water // Monographs on Oceanographic Methodology. Montreux: UNESCO. P. 9.
- Vadadi-Fülöp C., Sipkay C., Meszaros G., Hufnagel L. 2012. Climate change and freshwater zooplankton: what does it boil down to? // Aquat. Ecol. V. 46. P. 501. https://doi.org/10.1007/s10452-012-9418-8
- Wagner C., Adrian R. 2009. Exploring lake ecosystems: hierarchy responses to long-term change? // Global Change Biol. V. 15. P. 1104.
- Wilhelm S., Adrian R. 2008. Impact of summer warming on the thermal characteristics of a polymictic lake and consequences for oxygen, nutrients and phytoplankton // Freshwater Biol. V. 53. № 2. P. 226. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2007.01887.x
- Williamson C.E., Brentrup J.A., Zhang J. et al. 2014. Lakes as sensors in the landscape: Optical metrics as scalable sentinel responses to climate change // Limnol., Oceanogr. V. 59. № 3. P. 840. https://doi.org/10.4319/lo.2014.59.3.0840
- Winder M., Hunter D.A. 2008. Temporal organization of phytoplankton communities linked to physical forcing // Oecologia. V. 156. P. 179. https: //doi.org/10.1007/s00442-008-0964-7
Дополнительные файлы