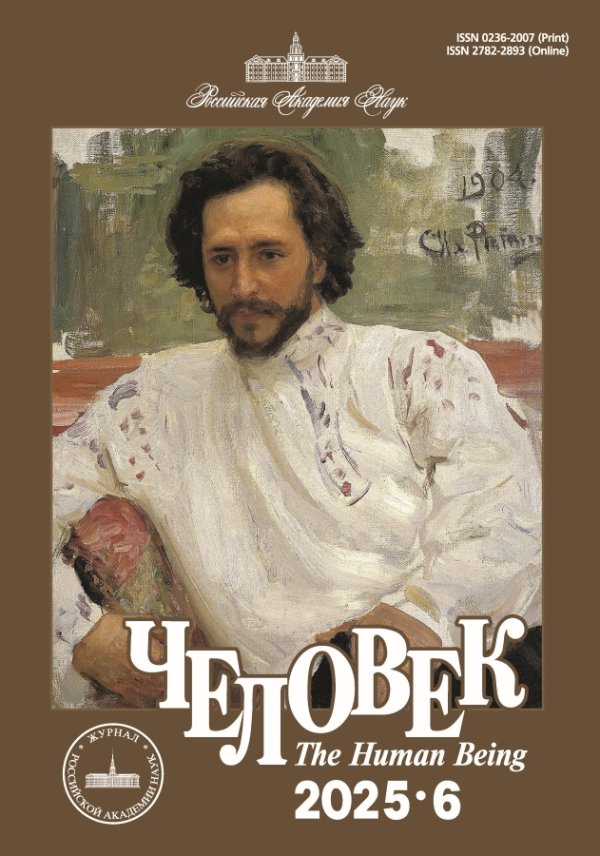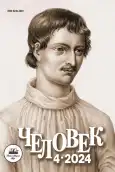Utopia as the Futurization of History: Discourse Aspects
- Authors: Paniotova T.S.1, Romanenko M.A.1
-
Affiliations:
- Southern Federal University
- Issue: Vol 35, No 4 (2024)
- Pages: 117-131
- Section: Symbols. Values. Ideals
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/263537
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724040072
- ID: 263537
Full Text
Abstract
In modern utopian studies, the distinction between utopia as an intention and utopia as a narrative is no longer in doubt. Beginning with Alexander Sventokhovsky and Ernst Bloch, utopia has been interpreted as a dream, a universal dimension of culture, a spiritual landmark, or a desire that is capable of giving meaning to human existence. The paper shows that although the traces of utopia as a dream for a better world are lost in the depths of history, it acquired its current outlines only in the modern era, when it received a stable conjunction with the future. The spiritual prerequisites were formed by Western secularization. As a result of the decomposition of the Christian vision of history, which placed paradise in a transcendent dimension, the entire symbolic worldview of medieval society was challenged, and the former eschatological expectations of salvation were embodied in new utopian forms. The essence of utopia is the earthly perfection of the world at the hands of man himself. The subsequent flourishing of utopia, associated with the inclusion of the time factor in it, was determined by large-scale socio-cultural transformations, fascination with the idea of progress, and the formation of historical consciousness. Hence, utopia turned from a “place that does not exist” into a “place that does not exist yet” (Ernst Bloch). The authors’ appeal to the concept of Karl Manheim made it possible to show that in various historical extensions and derivations of utopia, its relation to time developed in various ways – from the chiliastic dissolution of the future in the present to the socialist-communist subordination of the present to the future (futurization of history). Both forms have retained their vitality to the present day, although the futurization of history on a global scale has failed. Going through crisis, utopia continues to live in culture, because, with its (im)possibility, it gives history goals and ideals, as well nourishes hope for their achieving in the future.
Full Text
Следы утопии как мечты о лучшем мире теряются в глубинах истории, потому что утопия глубоко укоренена в природе человека и пронизывает всю культуру [Свентоховский, 1910; Блох, 1996]. «Возможно, мы можем рассматривать утопию, — отмечал Жан Сервье, — как то, что всегда предполагали ее авторы: форму мечты» [Servier, 1995: 18]. Что же касается утопического жанра, как совокупности текстов о совершенном обществе, то его появление связано с именем Т. Мора и произведением «Утопия». И как утверждал в этой связи немецкий философ Э. Блох, Мор придумал только слово «утопия», в то время как в философском смысле это «гораздо более широкое понятие» [Bloch, 1996: 14]. Блох пояснял: «Свести утопический элемент к концепции Томаса Мора или ориентироваться исключительно на нее было бы равносильно сведению электричества к янтарю, слову, от которого происходит его греческое название... Более того: утопическое настолько мало совпадает с политическими фантазиями, что необходима философия во всей целостности..., чтобы, исходя из ее содержания, адекватно понять, что выражает слово утопия» [ibid.: 15].
Сегодня различие между утопией как универсальной интенцией («способом мышления», «функцией», «методом») и утопией как нарративом признается большинством ученых-утопиологов. Помимо жанровых произведений, описывающих совершенные миры, в утопический тезаурус включаются различные культурные практики (арт-практики, архитектурные проекты и т.п.), общественные движения («практическая утопия», коммунитарные эксперименты), а также «утопический горизонт», представляющий собой «ансамбль артикулируемых ценностей, отсутствие которых в настоящем порождает движение в направлении их достижения» [Cerutty Guldberg, 1989: 185].
Справедливости ради следует признать, что к философскому осмыслению утопии помимо Блоха [Bloch, 1996; Блох, 1997] обращались Ф. Полак [Polak, 1973], К. Манхейм [Манхейм, 1994], Р. Левитас [Levitas, 2013], И. Желтикова [Желтикова, 2021], Т. Паниотова [Паниотова, 2023; Паниотова, 2022], М. Романенко [Романенко, 2020] и другие авторы. При этом особый интерес всегда вызывала тема «утопия и будущее». Сам Блох определял утопию как «методический орган для Нового, концентрированное выражение того, что должно произойти» [Bloch, 1996: 157]. Включение в понимание утопии фактора времени превратило ее из «места, которого нет» в «место, которого еще нет»: утопия — это лучшее будущее, достойное человека. Ф. Полак появление утопии на сцене истории называет «коперникианской революцией в образе будущего», а ее место определяет «между молотом будущего и наковальней настоящего» [Polak, 1973: 214]. Другие авторы говорили об утопической «экспансии будущего» или о «нападении из будущего на настоящее». Р. Левитас — одна из самых авторитетных современных ученых-утопиологов — характеризует утопию как метод, суть которого в холистическом мышлении о возможном будущем и стремлении к «лучшему образу жизни», а аналитический потенциал метода заключается в адаптации мышления к «принципам и практикам этого будущего» [Levitas, 2013: 11]. В этом же смысле термин «утопия» будет использоваться в статье.
Возникает вопрос: всегда ли утопия как мечта о лучшем образе жизни была связана с будущим? Если нет, то когда эта мечта стала проецироваться на будущее и почему это произошло? Важно понять, является ли будущее единственно возможной темпоральной характеристикой мечты или же допустимы иные варианты? Наконец, в чем предназначение утопии для истории? Цель статьи — попытаться ответить на эти вопросы, артикулируя различные аспекты философско-культурологического дискурса о темпорализации утопии как предпосылке футуризации истории.
Секуляризация и новый вектор темпоральности утопии
Современная социальная утопия возникла на заре Нового времени, когда начал рушиться прочный христианский символико-религиозный универсум, а вместе с ним и внеисторическая легитимация мира. В средневековой культуре ответ на вопрос, почему существует зло, несправедливость, неравенство, ограничивался пассивным принятием их наличия. Избавление от зла откладывалось в запредельное, трансцендентное время. Пребывая в религиозной символической Вселенной и руководствуясь ее смыслами, человек воспринимал свои несчастья или иррациональность тех или иных мирских событий как божью кару, наказание за грехи и в конечном счете как нечто заслуженное, если не естественное. Насыщенные апокалиптикой ожидания Судного дня были ориентированы на потустороннее, на конец земного мира в целом. Направленность христианских ожиданий и земного опыта была различной, но они соотносились между собой, не опровергая друг друга.
Иудаизм и христианство внесли в западное сознание историческую эсхатологию, согласно которой ход событий ведет к достижению совершенства и спасению человека как цели. В греко-римском мире идея о том, что будущее может таить в себе потенциальные возможности лучшего мира, была невозможна, потому что мифологии представляли прошлое как вечную и неизменную основу. Идея вечного возвращения исключала возможность искупительной стадии, решающего, завершающего и законченного исторического момента. Античная утопия даже в лучших своих образцах несет на себе следы такого понимания.
Пришествие мессии в иудео-христианстве вводит в культуру понятия веры и надежды. В отличие от других народов-изгоев, для которых мир был чем-то вечным и неизменным, для еврейского народа бог, по сути, был искупителем, а их исторический маршрут отмечен обещанием искупления, которое дает надежду на спасение. Так, в Книге Бытия Иегова обещает отдать землю обетованную во владение Аврааму. Хотя речь здесь идет о вполне реальной земле ханаанской, представляется она через топику земного рая и обретает черты идеального пространства: «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб свой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни — железо, и из гор будешь высекать медь…» (Втор. 8: 7–9). Связующей нитью между земным Раем, лежащим в прошлом, и Раем грядущим является мессия, ведущий народ израильский через все потрясения, пережитые на «проклятой земле», в землю обетованную.
В христианстве, воспринявшем из иудаизма мессианизм и хилиазм, история начинает пониматься как обнадеживающее ожидание конечной цели, как приготовление будущей полноты времен, которым и будет тысячелетнее царство Божие. Но здесь необходимо принять во внимание один нюанс, на который указывал С.Н. Булгаков. Он говорил о двух способах толкования хилиастической идеи — иудейском, чувственно-историческом, и христианском, спиритуалистическом. Только «для первого хилиазм есть цель истории, идеал прогресса, достигаемый в историческом развитии, следовательно, он всецело относится к будущему. Согласно второму, хилиазм принадлежит столько же будущему, сколько прошлому и настоящему, ибо тысячелетнее царство Христа и святых Его есть Церковь…» [Булгаков, 1997: 238]. Будущее оказывается открытым и неопределенным.
Нас будет интересовать первая разновидность хилиазма, а точнее, его секуляризированный вариант, распространившийся в Новое время, когда сама темпоральность обрела историческое качество. Немецкий историк Р. Козеллек приложил к исследованию исторической динамики темпоральных представлений категории «пространство опыта» и «горизонт ожиданий» [Козеллек, 2016]. Выступая, по сути, двумя модусами бытия, опыт и ожидание по-разному определяют порядок сочленения прошлого, настоящего и будущего. Кардиальное изменение мировоззренческой ситуации в Новое время выразилось в том, что «духовный profectus был вытеснен или заменен земным progressus. С этого момента стремление к возможному совершенству, ранее достижимому только в потустороннем мире, служило улучшению земного бытия, что позволяло отказаться от учения о Страшном суде в пользу риска открытого будущего» [там же: 161]. Развитие науки и техники, разложение сословной системы, великие географические открытия, накопление капитала способствовали утверждению веры в прогресс, которая получила глубокое философское обоснование. Утверждается культурная ориентация на иное, более совершенное будущее, потенциальную возможность которого трудно было опровергнуть. Оказавшись в темпоральной перспективе, совершенство трансформируется из цели или состояния в сам путь развития, а избыток ожиданий превращает связанные с ними надежды и желания в результат постоянного совершенствования. Будущее становится тем пространством, где могут быть преодолены все трудности и решены все проблемы.
В таком социокультурном контексте возникает современная социальная утопия. Ее классические образцы — пространственные утопии — с их повествовательной структурой и соответствующим способом репрезентации, хотя и содержали намек на иное будущее, все же основывались на главенстве опыта. Через переживание пространства в этом случае создавался эффект правдоподобия и тотального контроля, в том числе и над временем. Но к концу XVIII века на земном шаре почти не осталось неизведанных территорий, ранее превосходно подходивших для реализации утопических предвосхищений. Ответом на новую ситуацию стало погружение утопии во временной континуум, которое Козеллек назвал ее «темпорализацией» [Koselleck, 2002: 84–99]. Утопия теперь перенеслась в будущее — бесконечно воспроизводимое пространство прогресса, понимаемого Кантом как «постоянного продвижения к лучшему» [Кант, 1994: 95–112].
Такая, казалось бы, чисто внешняя трансформация фундаментальным образом повлияла на саму утопию и изменила ее статус в европейской культуре. Козеллек пишет о двух важных сдвигах в этом отношении. Первый касается того, что теперь утопист выступает подлинным автором, творцом своего произведения. Его реальность не пространственная, а существует в сознании писателя, который сам отныне является авторитетом. Сюжетно это выразилось в появлении фигуры гражданина как писателя и писателя как гражданина — основного антропологического воплощения грядущего человечества. Второй сдвиг связан с появлением иных критериев убедительности, ведь попасть из плохого сегодня в лучшее завтра нельзя было просто так. «Утопия будущего, — пишет Козеллек, — существует за счет точек соприкосновения не только в сфере вымысла, но и в эмпирически исправимом настоящем» [Koselleck, 2002: 88]. При наличии цели и понимания того, что именно нужно исправить, это придает утопии деятельный импульс: желаемое здесь предстает декларацией реальности.
Таким образом, когда религиозная картина мира начинает рушиться, человек более не уповает на обещанное Царство Божие, он дополняет христианскую веру утопической надеждой на лучший мир на земле. Утопии, возникшие как мечта, а позже приобретшие форму идеальных моделей общественного устройства, придают смысл человеческому существованию. В определенных исторических обстоятельствах они стали вдохновлять на борьбу и служить катализаторами движений, направленных на трансформацию устоявшихся социальных структур.
Фактор времени в вариациях утопии
К исследованию мышления и коллективных представлений через их соотнесение с социальным бытием в свое время обратился К. Манхейм. Его концепция представляет для нас интерес, поскольку позволяет показать различные вариации утопической темпоральности, сравнить их между собой и соотнести с историческим процессом.
Мангейм полагал, что через «духовные образования», к которым относится и утопия, но обязательно учитывая их «релятивность», можно понять неповторимый облик эпохи. Так, Манхейм дает типологию утопий современности, выделяя хилиазм анабаптистов, либерально-гуманистическую идею, консервативную идею и социалистически-коммунистическую утопию. В основу типологии он положил фактор времени, поскольку, считал он, «глубокая внутренняя структура сознания может быть наилучшим образом понята, если мы попытаемся вникнуть в присущее этому сознанию представление о времени, отправляясь от надежд, чаяний и целей данного субъекта» [Манхейм, 1994: 179].
Свой анализ Манхейм начинает с анабаптизма, в котором видит не только зародыш современных революционных движений, но и начало утопической ментальности. Существенной чертой анабаптизма и вообще всех хилиастических революционных движений было принятие революционного факта как ценности самой по себе, желание немедленно достичь своих целей и построить царство Божие на земле. Томаса Мюнцера (1489–1525), вождя анабаптистов, также не устраивало тысячелетнее царство, отнесенное в далекое будущее. Он призывал к спонтанному взрыву революционной энергии с одной целью — завоевать его в настоящем. У анабаптистов, пишет Манхейм, «свободнопарящие или направленные на потусторонний мир чаяния внезапно обрели посюстороннее значение, стали восприниматься как реализуемые здесь и теперь и наполнили социальные действия особой яростной силой» [Манхейм, 1994: 181].
Другое представление о времени содержало либерально-гуманистическое сознание. «Утопия либерально-гуманистического сознания есть “идея”», произвольно сконструированный идеал; это «формальная, проецированная в бесконечную даль и воздействующая на нас оттуда определенная цель, которая просто “регулирует” посюстороннее становление» [там же: 181]. Либеральная идея трактуется Манхеймом в духе Канта: по отношению к настоящему она выступает как норма, как образец, как максима. «С этого момента будущее как бы постоянно экспериментирует в настоящем, а смутное предвидение, идея все более корригируется и конкретизируется настоящим» [там же: 206]. Достижение идеала окончательно отнесено к будущему. Эту мысль А. Сен-Симон впервые сформулировал следующим образом: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» [Сен-Симон, 1948: 273].
Либерально-гуманистической идее противостоит консервативная утопия. Если в первой «ударение делается на долженствовании, то в консервативной идее это ударение ставится на бытии. Только потому, что нечто есть, оно уже обладает высшей ценностью» [Манхейм, 1994: 197]. Гегелевский тезис о действительности всего разумного прекрасно иллюстрирует эту идею. Консервативной утопии с ее ориентацией на «имманентные бытию факторы» присуще свое понимание исторического времени: здесь открыто значение прошлого, а длительность истории и сам ее ход приобрели особую ценность. Утопия, таким образом, сливается с историей, но только с той разницей, что она не желает быть предвестником иного будущего, а нацелена на поиск «внутренней формы», выражающей историческую обусловленность и определяющей конкретный образ становящегося.
Еще одной духовной формой, близкой либерально-гуманистической идее, является социалистически-коммунистическая утопия, которая предполагает достижение конечных целей только в отдаленном будущем. Так же как консервативная идея, она «погружена в бытие». Отождествляя социалистически-коммунистическую идею с марксизмом, Манхейм видит ее преимущество перед либеральной утопией в опоре на материальные условия социальной жизни.
Таким образом, противоречивое восприятие темпоральности порождает отчетливо различающиеся утопические модальности: оргиастическая и консервативная утопии делают ставку на непосредственное настоящее, а социалистически-коммунистическая и либерально-гуманистическая утопия проецируются на будущее. При этом оргиастическая утопия стремится обрушить общественный порядок и незамедлительно построить тысячелетнее Царство Божие на земле, а консервативная — сохранить существующее бытие как обладающее высшей ценностью. С другой стороны, «бунтующее сознание» (Аинса, 2012) воплощается не только в оргиастической, но и в социалистически-коммунистической утопии. Однако социалистическая утопия дистанцируется от вспышек хилиастической энергии любителей стихийного беспорядка и трактует революцию не как спонтанный оргиастический взрыв, а как организованную деятельность, подчиненную рациональной стратегии; как направленный процесс, который лишь в исторической перспективе завершается достижением поставленной цели. В этом, в частности, состоит основной корень соперничества между Карлом Марксом и Михаилом Бакуниным за монополизацию места своей утопии в рабочем движении во второй половине XIX века.
Кризис и возрождение утопии
Манхейм полагал, что победа марксизма над бакунизмом привела к краху оргиастического утопизма, но история распорядилась иначе. Обе утопические формы смогли выжить и в XX веке соединиться с ожиданиями преобразования общества, исходившими от наиболее обездоленных слоев общества. ХХ век проявил себя как бурное время, в котором, как писал Ф. Аинса, «одно лишь слово “революция” обещало разрешение всех проблем». Это были «годы радикальной критики капиталистической системы и “отмены” буржуазии, которой предстояло исчезнуть; разоблачения империализма и общества потребления; годы, когда мораль и политика казались одним целым, а молодежь превратилась в хранителя будущего и главного участника “прямых действий” настоящего, о чем свидетельствуют события 60-х гг. в Беркли, Мехико и Париже» [Аинса, 2012: 78] Эти и многие другие движения разворачивались под знаменами утопии и выливались на практике в оргиастический хаос с требованиями незамедлительного осуществления «невозможного». «Будьте реалистами, требуйте невозможного» — популярный лозунг французского мая.
Однако несмотря на периодические вспышки оргиастического утопизма, на значительном пространстве земного шара исторически доминировали социалистически-коммунистическая и либерально-гуманистическая утопии. В обществе победившего социализма события настоящего продолжали рассматриваться как подготовка и процесс строительства гармоничного и великолепного коммунистического будущего. Будущее «экспериментировало в настоящем», настоящее оценивалось исходя из идеальных будущих целей, которые телеологически направляли все коллективные практики. Если поставить знак равенства между советским проектом и утопической идеей как таковой, то можно сказать, что утопическая «футуризация истории» здесь потерпела неудачу.
Конечно, события конца ХХ века не прошли бесследно для утопии. В итоге ее стали считать спутницей тоталитаризма, а внутри марксизма назревал кризис, оттолкнувший многих последователей либо ввергнувший в уныние остальных. На этот счет высказался современный теоретик Терри Иглтон, заметив, что «если и есть причина, по которой левые были встревожены концом коммунизма, то она, скорее, в том, что этот крах продемонстрировал огромную силу капитализма» [Иглтон, 2002].
В свою очередь, неудачной оказалась и попытка реализации либеральной утопии. Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец истории», заявив, что происходящее — это не просто конец холодной войны или прохождение определенного периода послевоенной истории, это конец истории как таковой, то есть конечная точка идеологической эволюции человечества и универсализация западной либеральной демократии как окончательной формы человеческого правления [Фукуяма, 1990]. Однако прогноз либерального идеолога, как известно, также потерпел фиаско.
Означает ли это, что в наступившей «эре пустоты» произошел крах утопии и ее остается только «выбросить в сундук» вместе с другими «обветшалыми идеологиями» [Аинса, 2012: 78]? Думается, нет. И мы в этой мысли не одиноки.
В современной гуманитаристике и даже в социально-политическом дискурсе утопия вновь обретает популярность. Ее реабилитация, конечно, потребовала определенных интеллектуальных усилий, направленных на переосмысление роли утопии в культуре и современном обществе. Так, А.В. Павлов в обзоре идей современных западных марксистов отмечает, что утопия хоть и понимается ими, в том числе представителями различных дисциплин, неодинаково, но тем не менее вновь завоевывает себе место, представляя в основном горизонт надежды [Павлов, 2021]. И на свет появляются исследования, демонстрирующие как практические, так и аналитические возможности такого представления. Понимая утопию операционалистски, как метод, Р. Левитас, например, выстраивает концепцию реконструкции альтернативного общества, позволяющую «расширить границы нынешних властных дискурсов об экономическом росте и экологической устойчивости» [Levitas, 2013: 11], А. Фриберг исследует экологическую и климатическую проблематику с ее взглядом на будущее [Friberg, 2022], а Э. Стейнфорт предлагает новый проект исторических исследований, направленный на изучение прошлых возможностей [Stainforth, 2021]. Перечень подобных инициатив и проектов можно еще долго продолжать, стоит хотя бы бегло обратиться к выходящим публикациям. Но наша цель не в этом.
Один из авторитетных сегодня теоретиков культуры и исследователей утопии Фредрик Джеймисон, комментируя концепцию Фукуямы, замечает: «Кроме того, сегодня достаточно сложно вообразить радикальную политическую программу без идеи системной инаковости, иного общества — а эту идею поддерживает, хотя и совсем слабо, только идея утопии. Разумеется, это не значит, что, стоит нам только возродить идею утопии, и мы тут же увидим основные контуры новой эффективной практической политики эпохи глобализации. Просто без новой утопии мы никогда не придем к видению новой политики» [Джеймисон, 2011].
Здесь следует вновь вспомнить мысль Блоха о том, что не стоит ограничивать утопию сферой политики. Утопия растворена во всей культуре, сопровождает всю историю человечества, а потому «ни историческое сознание, ни историческое действие не могут иметь полного смысла без учета утопии, как в начале, так и в конце истории» [Tillich, 1971: 296].
Карл Манхейм, рассуждая о том, что гипотетически в будущем могут исчезнуть и идеология, и утопия, замечает, что последствия этого исчезновения будут различны. Если исчезновение идеологии будет чувствительно лишь для определенных социальных слоев, то полное исчезновение утопии приведет «к изменению всей природы человека и всего развития человечества», «создаст статичную вещность, в которой человек и сам превратится в вещь», полностью утратит способность не только творить историю, но и понимать ее [Манхейм, 1994: 219].
Рассмотрев генезис утопической традиции, выросшей из секуляризированной эсхатологии и получившей современные очертания в эпоху модерна, выявив разные аспекты философской рефлексии на утопическую футуризацию истории, можем сделать некоторые выводы:
- Э. Блох, один из родоначальников философского дискурса об утопии, сформулировал два принципиально новых тезиса в понимании этого феномена: первый аспект касается необходимости различения утопических текстов (литературных, политических) и утопии как универсальной интенции, пронизывающей все человеческое бытие. Второй аспект — это включение в концепцию утопии фактора времени, в результате чего утопия превращается из «места, которого нет» в «место, которого еще нет», из идеального образа будущего в реальную возможность, перспективное пространство самореализации человека и осуществления самых смелых его ожиданий.
- Избранный К. Манхеймом аспект исследования позволил осуществить корреляцию исторических трансформаций со сдвигами в утопическом сознании, а также разработать типологию социально-политических утопий на основе критерия темпоральности. Несомненную ценность представляет вывод ученого о том, что не все, а лишь определенные виды утопий связаны с будущим; что существуют принципиальные отличия хилиастического растворения будущего в настоящем — от социалистически-коммунистического подчинения настоящего отдаленному будущему. Отдаленное будущее постоянно «экспериментирует в настоящем», воздействует на него, производя таким образом футуризацию истории.
- Связанную с утопией «футуризацию истории» нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, подчинение высшей цели из «прекрасного далеко» порождает эффект «насильственного активизма» со стороны будущего и «аннигиляции настоящего». Но, с другой стороны, этот же активизм утопического сознания не позволяет относиться к истории как к самодостаточной сакрализированной реальности, не допускающей никаких вариаций. Утопия — это всегда Другое истории, причем Другое — более совершенное и рассматриваемое в модусе реально возможного. Наделяя историю целями и идеалами, «утопический разум» указывает путь, избрав который, сущее может приблизиться к должному. В утопии «должное бытие», являясь этическим импульсом, обнажает разницу между миром, таким, каков он есть, и миром, каким он должен быть.
About the authors
Taisiya S. Paniotova
Southern Federal University
Author for correspondence.
Email: tspaniotova@sfedu.ru
ORCID iD: 0000-0003-2529-9216
D. Sc. in Philosophy, Professor at the Institute of Philosophy and Social and Political Studies
Russian Federation, Rostov-on-DonMaxim A. Romanenko
Southern Federal University
Email: mromanenko@sfedu.ru
ORCID iD: 0000-0001-6018-767X
C. Sc. in Philosophy, Associate Professor, Institute of Tourism, Service and Creative Industries
Russian Federation, Rostov-on-DonReferences
- Ainsa F. Utopiya: al’ternativnye modeli i formy kul’turnogo samovyrazheniya v Latinskoi Amerike. Novye osnovy utopii “iz” i “dlya” Latinskoi Ameriki [Utopia: Counter Culture and Latin American Creativity. New Basis for a Utopia “from” and “for” Latin America]. Latinskaya Amerika. 2012. N 8. P. 77–88.
- Bloch E. Tyubingenskoe vvedenie v filosofiyu [The Tübingen Introduction in Philosophy]. Ekaterinburg: Ural Univ. Publ., 1997.
- Bulgakov S.N. Dva grada:Issledovanya o prirode obshchestvennich idealov [Two Hail: A Study on the Nature of Social Ideals.]. Saint-Petersburg: RKhGI Publ, 1997.
- Jameson F. Politika utopii [The Politics of Utopia]. Khudozhestvennyi zhurnal. 2011. N 84. [Electronic resource]. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/13/article/173 (date of access: 20.03.2022).
- Zheltikova I.V. Obraz budushchego [Image of the Future]. Orel: Kartush Publ., 2021.
- Eagleton T. Ubezhishche v bure istorii [A Shelter in the Tempest of History]. Skepsis. Nauchno-prosvetitel’skii zhurnal. [Electronic resource]. URL: https://scepsis.net/library/id_1664.html?ysclid=lsuxx4hc1z834151071 (date of access: 20.02. 2024).
- Kant I. Sobraniye sochineniy: v 8 t. [Collected works: in 8 vol.], ed. by prof. A.V. Gulyga. Vol. 7. Moscow: CHORO Publ., 1994.
- Koselleck R. «Prostranstvo opyta» i «gorizont ozhidanii» — dve istoricheskie kategorii [The “Space of Experience” and the “Horizon of Expectations” — Two Historical Categories]. Sotsiologiya vlasti. 2016. Vol. 28, N 2. P. 149–173.
- Mannheim K. Ideologiya i utopiya [Ideology and Utopia], transl. by M.I. Levina. Mannheim K. Diagnoz nashego vremeni [The Diagnosis of Our Time]. Moscow: Yurist Publ., 1994. P. 7–276.
- Pavlov A.V. Utopiya v noveishem zapadnom marksizme: anomaliya, nadezhda, nauka [Utopia in the Recent Western Marxism: Anomaly, Hope, Science]. Voprosy filosofii. 2021. N 9. P. 25–36.
- Paniotova T.S. Miry utopii:izbrannye trudy [Worlds of Utopia: Selected Works]. Rostov-on-Don–Taganrog: Southern Federal University, 2022.
- Paniotova T.S. Ontologiya utopii: konstruirovanie voobrazhaemogo prostranstva [The Ontology of Utopia: Construction of Imaginary Space]. Nauchnaya mysl’ Kavkaza. 2023. N 3(115). P. 14–21.
- Romanenko M.A. Voobrazhaya budushchee: proshloe v utopicheskom izmerenii [Imagining the Future: the Past in Utopian Dimension]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv. 2020. N 3(95). P. 35–43.
- Saint-Simon K.A. Izbrannye sochineniya: v 2 t. [Selected works: in 2 vol.], transl. from French and notes by L.S. Tsetlin, afterw. by V.P. Volgin. Vol. 2. Moscow; Leningrad: AN SSSR Publ., 1948.
- Sventokhovsky A. Istoriya utopii [The History of Utopia]. Moscow: V.M. Sablin, 1910.
- Fukuyama F. Konets istorii? [The End of History?]. Voprosy filosofii. 1990. N 3. P. 134–148.
- Bloch E. The Principle of Hope, trans. by N. Plaice, St. Plaice and P. Knight. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- Cerutti Guldberg H. De varia utópica. Ensayos de utopía (III). Bogotá: Publicaciones Universidad Central, 1989.
- Friberg A. Disrupting the Present and Opening the Future: Extinction Rebellion, Fridays for Future, and the Disruptive Utopian Method. Utopian Studies. 2022. Vol. 33, N 1. P. 1–17.
- Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- Levitas R. Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society. London: Palgrave Macmillan, 2013.
- Polak F. The image of the future. Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Comp, 1973.
- Servier J. La Utopía. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Stainforth E. Excavating the Future: Utopia as a Method of Historical Analysis. Utopian Studies. 2021. Vol. 32, N 3. P. 598–612.
- Tillich P. Critique and Justification of Utopia. Manuel F. E. (ed.) Utopias and Utopian Thought. Boston: Beacon Press, 1971. P. 296–309.