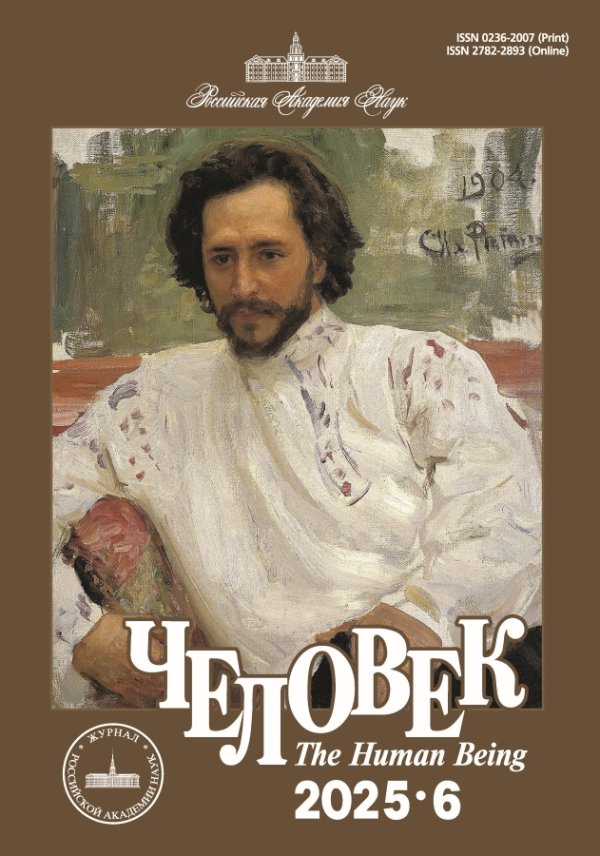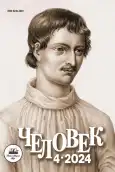The Future of Humanity in the Concept of Pierre Leroux
- Authors: Krotov A.A.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 35, No 4 (2024)
- Pages: 9-25
- Section: The philosophy of the himan being
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/263531
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724040019
- ID: 263531
Full Text
Abstract
The doctrine of Pierre Leroux, one of the leaders of Сhristian socialism, which had a significant impact on literature and philosophy of the industrial epoch, are analyzed. Following H. Saint-Simon, P. Leroux spoke of a golden age waiting for humanity in the future. The past of the Earth, according to Leroux, is filled with evil and suffering. The French thinker saw the reason for this in the division among people, dictated by privileges and delusions. Highlighting the family, property and the state as the main forms of social existence, he associated with distortions of their essence all the disasters of the human race. Humans are not inherently angry, but are influenced by stagnant social constraints. Leroux considered caste spirit as the most important source of political injustice and human suffering. In his desire to find a solution to the most acute social contradictions of the epoch, Leroux made a large-scale attempt to synthesize religion and philosophy. He regarded Christianity as a moral truth, but incomplete, more prophetic than finished. According to Leroux, religious and philosophical insights of the past should be combined with the idea of improving humanity. The idea of progress, therefore, takes on a system-forming meaning in his doctrine. The philosopher envisaged the peaceful transformation of the social system. Man must realize his own nature in its completeness, understand the inextricable connection linking him with his fellow men and the universe as a whole. Then, focusing on the achieved knowledge, he will be able to build the right relations about property. The family and the state will cease to serve as a means of oppressing people. In Leroux’s project it is easily traces the intention to combine all the spiritual conquests of mankind in the final system. But it is impossible to preserve equally all the achievements of the past. In addition, a significant drawback of Leroux’s project is its distracted, metaphysical nature. At the same time, the call itself to give great importance to mercy in human history can hardly be considered completely outdated.
Full Text
Среди различных философских систем, стремившихся раскрыть направленность политического движения человеческого рода и тем самым способствовать его счастью, особое место принадлежит теории христианского социализма Пьера Леру. Возникшая в эпоху бурного промышленного роста, во времена широкого распространения сциентистских идей, она содержала призыв по-новому взглянуть на человеческую природу, на перспективы, касающиеся ближайших политических конфликтов и трансформаций. С точки зрения сегодняшнего дня обращение к теории П. Леру представляет интерес именно потому, что любое общество, оказавшееся в ситуации выбора новых путей, вынуждено в той или иной степени обращаться к переосмыслению методов и программ улучшения социального бытия, предложенных в прошлом. Цель статьи — выявить те проблемы и внутренние сложности политической модели П. Леру, которые помешали ей занять ведущее место в дальнейшем развитии человечества. Вместе с тем в статье ставится задача акцентировать внимание на тех ее аспектах, которые сохраняют свою актуальность и при известных условиях могут импонировать и сегодня сторонникам идеи постепенного улучшения социального бытия на основе моральных принципов.
Пьер Леру (1797–1871) прошел путь от типографского наборщика до известного журналиста и мыслителя. Он состоял в обществе карбонариев, в 1824 году вместе с П.-Ф. Дюбуа и Ж. Рейно создал либеральный журнал «Глоб». С 1830 года журнал был превращен в орган сенсимонистов, с которыми Леру вскоре разорвал отношения из-за разногласий с Б.П. Анфантеном. В 1841 году он вместе с Жорж Санд и Л. Виардо создал «Независимый журнал». В 1848 году Леру был избран в Законодательное собрание, после бонапартистского переворота эмигрировал в Англию, затем вернулся на родину благодаря амнистии (1859).
Произведение «О равенстве» (1838) Леру посвятил прошлому и настоящему человечества. Свою главную идею он сформулировал следующим образом: «Я доказываю в этом труде, что нынешнее общество, в каком бы отношении его ни рассматривали, не имеет другой основы, чем догма равенства, что не мешает тому, что именно неравенство господствует» [Leroux, 1848: V]. Это господство неравенства, полагал Леру, преходяще; будущее, несомненно, — за идеей равенства, ведь не может же Господь внушить ее людям бесцельно, просто так, наподобие иллюзии. «Эта догма равенства реализуема, и она будет реализована» [ibid.].
В работе «Опровержение эклектизма» (1839) французский мыслитель выступил против господствующей в университетском преподавании философии. Леру обвинял ее в том, что та лишает разум подлинных сил. Эклектизм «мешает зарождению и росту всякого религиозного, социального, патриотического чувства; он бросает в общество и в управление обществом не только летаргию и трусливое оцепенение, но принцип деморализации и разложения» [Leroux, 1839: VI]. Примечательно, что в этом своем труде Леру отстаивал идею тождества философии и религии.
В главном своем сочинении «О человечестве, его принципе и его будущем» (1840) Леру заявлял о том, что вдохновлен поиском истины, притом отдает этому делу все свои силы. А. Сен-Симона он открыто провозглашал своим учителем. Согласно теории Леру, «все позитивные религии резюмируются этим великим словом Человечество» [Leroux, 1985: 13]. По отношению к истине люди до сих пор пребывали во мраке, что доказывается наличием внутренних, междоусобных войн, ведущихся скрыто или явно, а также международных столкновений. Человеческий род разобщен, и это порождает множество несчастий. Бороться со злом и заблуждениями возможно только с помощью истины. Сатану Леру отождествлял с заблуждением и крайним эгоизмом, предрекая его уничтожение человечеством и одновременное установление царства Божиего на земле, осуществление во всей полноте замысла Создателя относительно человека. Средства реализации этой цели — «развитие человеческого милосердия, человеческой активности, человеческого познания» [ibid.: 14]. Цель будет достигнута, предрекал Леру, в отдаленном будущем, довольно-таки туманном сейчас, но ее ясное понимание и осознанное к ней движение, безусловно, приближают ее реализацию. Христианство, полагал мыслитель, содержит пророчество о царстве Божием, но достичь последнего надлежит посредством имеющихся у человека возможностей. Задачей своего труда Леру провозглашал доказательство тезиса о том, что к названной цели человечество ведет именно божественное провидение.
Леру заявлял о своем поклонении имманентному Богу, присутствующему не только во Вселенной, но и в каждом человеке. Он отвергал два представления о божестве — идолопоклонническое и эпикурейское. В первом случае Бога отделяют от человека и делают мстительным, коварным, ревнивым. Во втором случае Бога понимают как существо, безразличное к человеку. Из эпикурейского понимания божества, по мысли философа, вытекают как ближайшие следствия материализм и деизм. Г. Болингброк и Вольтер, утверждал Леру, в своем намерении дистанцироваться от идолопоклонства приняли обновленную версию эпикуреизма, в которой оставался лишь «фантом» Божества и под именем природы господствовал фатализм. Когда XVIII век ушел в прошлое, во многих умах восстановился искренний интерес к религии. Истинный Бог, согласно Леру, открывается людям в своем вечном, но вместе с тем последовательно развертываемом Откровении. Последнее выражается в религиях и великих философских системах, которые все в основе своей содержат его вечный закон. Свое главное произведение Леру характеризовал как попытку примирения новой философии с религией.
Рассматривая человека сквозь призму теории прогресса, Леру констатировал изменения в его социальном положении. Современный человек, по учению философа, радикально отличен от античного и средневекового субъекта. Главным образом в том смысле, что в сознании современного человека глубоко укоренилась новая догма — идея равенства. Хотя общество в некоторых отношениях несет на себе остатки влияния феодализма, в мировосприятии людей совершился резкий переворот. Прежняя их жизнь определялась установками неравенства, доминировавшими в отношениях между семьями, собственниками, странами. Леру был убежден, что современное ему человечество находится на границе «последней фазы неравенства» и переход к счастливому будущему хотя и неспешен, но необратим. В духе Г.Э. Лессинга мыслитель рассуждал о воспитании человеческого рода, которое завершается освобождением от рабства, — в этот момент каждый наконец-то становится вполне человеком. Для философской фиксации этого процесса Леру ввел новое понятие — «человек-человечество». Идея равенства, по Леру, позволяет современным людям глубоко осознать свое единство, сущностное, универсальное родство.
Для твердого, надежного суждения о будущем, полагал автор труда «О человечестве», философу необходима точка опоры наподобие Архимедовой. В качестве таковой, в понимании Леру, выступает религия. Бог есть «аркбутан» всех человеческих сил, вечная их основа. Находясь в коммуникации с Богом, душа испытывает «некоторую интуицию самой сущности жизни» — на нее-то и следует полагаться в размышлениях о будущем человечества. Что же до политики и истории, то данных о прошлом и настоящем положении человеческого рода недостаточно для суждения о его последующих судьбах. Ибо ничто конечное не может выступать достаточной гарантией точности каких-либо заключений относительно будущего. Таковой является лишь содержание сознания человека, напрямую связанное с бесконечностью Творца. На это содержание, по мнению французского философа, надлежит ориентироваться в стремлении к самосовершенствованию и улучшению мира.
Методология философского поиска, согласно Леру, в определенном смысле может быть уподоблена отношениям в сфере механики. Если механика оперирует такими понятиями, как сила, рычаг, неподвижная точка, то и в философской среде, в области моральной механики, имеется их прямой аналог. Силе соответствует сам человек, рычагу — идея прогресса, неподвижной точке — онтологическая аксиома. Наличие силы у человека не подлежит сомнению: она всегда прорывается наружу, требует своего применения. Равным образом, утверждал Леру, сложно отрицать прогресс, открытость к совершенствованию и нашей природы, и социума. Для успешного решения проблемы будущего не хватает третьего элемента, соответствующего неподвижной точке, — онтологической (религиозной) аксиомы, имеющей вместе с тем и философское содержание. Мыслитель призывал всячески отграничивать упомянутую аксиому от метафизики, науки абстрактной и малопродуктивной. Онтологическая аксиома призвана устранить мнимые границы между религиозным, моральным и социальным аспектами жизни. Она формулируется в виде лозунга о «взаимной солидарности людей» и тесно связана, по Леру, с христианской установкой о греховности людей вследствие падения Адама и спасении человеческого рода Иисусом. Христианством, таким образом, предполагается идея общности, солидарности людей. Но в прошлом данная идея еще не была представлена в ее исчерпывающем, завершенном виде. Ведь, в истолковании Леру, грехопадение и искупление — мифы, в которые вложено важное содержание.
Вопрос о будущем, с точки зрения Леру, неотделим от проблемы блага. Философ выделял четыре главных решения последней, связывая их с платонизмом, стоицизмом, эпикуреизмом и христианством. Все четыре решения, в его понимании, и недостаточны, и важны, ибо заключают в себе необходимую часть истины. За счет своих достоинств, а также иной раз и противостояния они способствовали совершенствованию человеческого рода. Но отныне, взятые порознь, эти решения исчерпаны. Взаимная борьба четырех позиций и частичное их смешение привели к тому, что в XIX веке они воплотились в двух ведущих тенденциях интеллектуальной жизни — материализме и спиритуализме. Ни одна из тенденций собственными силами не в состоянии опровергнуть другую, в то время как обе, строго говоря, несостоятельны. Тем не менее если освободить их от ложной формы, выявить лежащие в их основе подлинные чувства, то возможно получить некоторый синтез истинных и законных элементов. Подобного рода синтез вполне способен стать сутью новой философской концепции жизни. Поэтому история философских идей предстает своеобразным введением к решению проблемы будущего человечества.
Согласно одной из двух преобладающих теоретических установок, в мире господствует духовное притяжение, и душа обязана тянуться к одному лишь Богу. Другая установка провозглашает доминирование материального притяжения, истолковывая человека как сугубо телесное существо, укорененное в природе. Оба подхода совершили похожую ошибку, избирая в качестве исходного пункта своего анализа человека как индивидуального субъекта, вне его соотнесенности с сообществом людей. Между тем каждый мыслящий обитатель Земли — частица человечества, с необходимостью с ним соединенная. Непонимание этого факта приводит в философскую пропасть. Человека неправильно считать ни ангелом, ни обычным животным. «Философия имела свои фазы, как и человечество» [ibid.: 102]. В учении Платона она возвещала в качестве цели Бога, а в качестве средств — разум и любовь. Благодаря Аристотелю были усовершенствованы применяемые разумом процедуры. Философия стоиков благородно поддерживала людей в непростое для человечества время. Эпикуреизм удерживал людей от необдуманного, неподготовленного прыжка ввысь, подобного самоубийству. Христианство очищало их представление о любви. «Сегодня философия учит нас, что высшее благо состоит в религиозной любви к миру и жизни» [ibid.]. По мнению французского мыслителя, философия ведет людей к будущему, ориентируясь на представления о реальности, на идеал и любовь.
Человек, согласно учению Леру, представляет собой тройственное единство. Ему свойственны восприятие, чувствительность, познание. Единство это неразрывно; попытки придать приоритетную роль одному из трех элементов, составляющих сущность человека, приводят к ложным политическим доктринам. Таковы «теократия» Платона, «демагогия» Ж.-Ж. Руссо, модель государства Т. Гоббса. При этом Леру настаивал на том, что учение о тройственном единстве характеризует лишь частично человеческую природу, выражает, по существу, ее психологическую формулу. Вместе с тем имеется и социальная, или философская, формула. Уже древние по праву именовали человека политическим животным. Но им не было известно важнейшее его свойство — способность к совершенствованию. Между тем данное свойство присуще как отдельной личности, так и обществу и человечеству в целом. Акцент на способности к совершенствованию — заслуга философии последних двухсот лет. Особенно важную роль в этом отношении, по Леру, сыграла французская мысль. Данное обстоятельство, уверял он, оказалось счастливым для человечества. Конечно, Леру отмечал и заслуги «наций-сестер», упоминал имена Ф. Бэкона, Г.В. Лейбница, Г.Э. Лессинга. Но то были отдельные гении, во Франции же сложилась мощная и притом непрерывная традиция, в итоге воплотившаяся в учениях А.Р. Тюрго, Ж.А. Кондорсе, А. Сен-Симона. Философ объявлял навеянным пророческим вдохновением утверждение Сен-Симона о том, что золотой век человечества состоится в будущем, а не остался в глубоком прошлом. С точки зрения Леру, нельзя никакими силами воспрепятствовать прогрессу, его можно только притормозить, замедлить. Общество никогда не повернет вспять. «Человек, стало быть, — не только общественное животное, как говорили древние; человек — также способное к совершенствованию животное. Человек живет в обществе, живет только в обществе; и чем более это общество способно к совершенствованию, то и человек совершенствуется в этом усовершенствованном обществе. Вот великое новое открытие, вот высшая истина философии» [ibid.: 118].
Важную роль в концепции французского мыслителя играл тезис о том, что жизнь человека не принадлежит только ему одному, не заключается только в нем одном. Леру выдвигал следующее обоснование: «Жизнь человека и каждого человека, значит по воле Создателя, связана с непрерывным общением с ему подобными и Вселенной» [ibid.: 129]. Соответственно философ выделял два типа отношений человека к миру и ближним. Они порождают благо и зло в нашей жизни. Либо человек благодаря культуре мирно изучает законы и свойства различных вещей и явлений во Вселенной, либо он коснеет в невежестве, живет в разладе с природой, с дикой враждебностью относится к ее отдельным частям. Либо он живет в мире с ближними, либо пытается их поработить. Поскольку человек имеет тройственную природу, та находит отражение в его взаимодействии с окружающими. Основным свойствам человека отвечают понятия собственности, семьи, родины. В этой схеме ощущению соответствует собственность, чувствительности — семья, познанию — государство, отчизна.
По мнению французского мыслителя, собственность, семья и государство были изобретены во благо человека, но, как оказалось, они могут служить ему во зло. Призванные предоставить свободу людям, они могут использоваться в качестве средства их порабощения. Согласно Леру, именно так фактически и происходило в истории. Речь идет о трех типах деспотизма, по-прежнему довлеющих над человечеством. При этом ни одна из упомянутых форм социального бытия, с позиции философа, не должна быть упразднена, не исчезнет в будущем. Упоминая противников своей точки зрения, Леру в качестве аргумента ссылался на собственные их учения. Ведь они, как правило призывая отменить ту или иную форму, определяющую общественную жизнь людей, предполагают сохранить две других или, по крайней мере, одну из них. Если же против всех трех не выступает никто — значит все они необходимы человечеству. Только анахоретов можно было бы считать врагами семьи, собственности и государства, но их жизнь, по Леру, должна быть уподоблена самоубийству.
Леру выдвигал идею трансформации семьи, собственности и государства. На его взгляд, не следует придавать современным их формам вечное значение. Попытка законсервировать сложившееся положение дел обречено на неудачу, будущее не подчинить прошлому. Философ выделял два элемента прогресса, которые только на поверхностный взгляд кажутся противоречащими друг другу. Это постоянство и изменчивость. На деле они предполагают друг друга: «Изменяться, продолжаясь, или сохраняться, изменяясь, — вот, стало быть, что реально представляют собой нормальная жизнь человека и, как следствие, прогресс» [ibid.: 134]. С момента рождения каждый человек взаимодействует с окружающими людьми и внешними предметами — это незыблемый закон его бытия. Не следует пытаться данный закон нарушать, выводя из сферы повседневных контактов человека какой-либо из системообразующих элементов. Более того, долг человека как раз и состоит в том, чтобы постоянно контактировать с природой и себе подобными. Это взаимодействие осуществляется именно через формы семьи, собственности и государства; стремиться к их упразднению — значит пытаться уничтожить человека. Ведь без семьи нет любви, нет родственных чувств, без которых человек непредставим. Без собственности нет никакой возможности заботиться о сохранении существования, питании и т.д. Кроме того, само тело является собственностью человека. Без родины человек обезличивается, теряет часть своей индивидуальности.
Леру полагал, что социальное зло рождено установлением произвольных и жестоких границ в трех сферах социального бытия. Эти границы «давят» на человека, закрепощают его, препятствуют личностному росту. Человек становится рабом, если во всем мыслит в точности так, как делали его предшественники, не позволяя себе задумываться над новыми идеями. Человека превращают в раба, когда ограничивают собственность выделенной ему, не подлежащей изменению скудной долей. Он угнетен, когда государство становится абсолютной, всепоглощающей силой.
Формы социального бытия должны выступать некоторым средством, «просто начальным пунктом», полем деятельности человека. В этом заключается ключевой момент политической программы французского мыслителя. «Семья может поглотить человека; нация может его поглотить; собственность также может его поглотить. Человек может стать рабом своего рождения, рабом своей страны, рабом собственности» [ibid.: 139]. Но сами по себе все три формы общественного бытия человека превосходны и незаменимы. Их надлежит организовать таким образом, чтобы те служили неограниченной коммуникации людей с ближними и Вселенной в целом. Находясь в одновременном подчинении трем формам социального бытия, человек еще не был вполне самим собой, не реализовал своего назначения. Программа будущего, согласно Леру, заключает возможность для человека «развиваться и прогрессировать», не испытывая притеснения и угнетения этих символов прошлых эпох.
Леру говорил о трех способах внесения раскола среди людей: во времени, в пространстве и посредством использования орудий труда. Людей разделяют во времени, когда за той или иной семьей закрепляют передачу титулов, когда линия жизни жестко определяется рождением, а судьба сына в значительной степени зависит от отца. Людей разделяют в пространстве, когда подчиняют их нациям, враждебным друг другу, и превращают в бесправных подданных. Наконец, их разобщают, когда привязывают к земле, к отдельным орудиям труда, превращая в рабов собственности. Французский мыслитель настаивал на том, что не существует никаких иных способов разделения людей, кроме перечисленных. Ибо ими охвачены вещи, пространства и времена. Для человека нет никакой коммуникации вне упомянутых условий. Философы, подчеркивал Леру, пробовали восставать против деспотизма в частных его проявлениях: в семье, государстве, в использовании собственности. Между тем следовало обратить внимание на то, что зло как таковое во всех частных случаях имеет единый источник — фрагментацию человеческого сообщества.
Человек, согласно Леру, отнюдь не зол по своей природе, равным образом не являются враждебными ему началами главные формы социального бытия, вопрос состоит лишь в способе их функционирования. Французский философ писал: «Семья, отчизна, собственность являются конечными вещами, которые должны быть организованы для бесконечного. Поскольку человек — это конечное существо, которое стремится к бесконечному. Абсолютно конечное — для него зло. Бесконечное — его цель; безграничное — его право.
Итак, пусть в этом безграничном, которое есть прогресс, ему будет отказано; пусть семья, государство, собственность будут организованы для конечного, вот и зло на земле; вот человеческая природа, оскверненная в ее сущности; вот человек-раб, несчастный, потому что он раб» [ibid.: 143].
Назначение человека заключается в том, чтобы состоять в прямой или косвенной, но полной по своей сути коммуникации со всем своим родом и Вселенной. Любое ограничение во имя привилегий разрушает его, лишает глубины и подлинности его жизнь. Так, семья сама по себе — благо для людей, но, получая кастовый характер, она искажает и портит их природу. То же касается собственности и государства: «Все зло человеческого рода проистекает, стало быть, из каст. Как только в ваш идеал общества и политики вы включаете весь человеческий род, зло прекращается» [ibid.: 144].
Именно призыв Леру к преодолению существующих ограничений в сфере собственности, к пересмотру роли семьи и государства в жизни людей как раз и послужил поводом к тому, чтобы причислить его к разряду социалистов. Философ ведь и сам был сторонником такого рода интерпретации. На его взгляд, зло господствует в социальной жизни только потому, что принцип взаимной солидарности не был ни понят в его истинном значении, ни применен на практике. Принцип солидарности последователями Леру истолковывался как призыв к коллективной форме ведения хозяйственной жизни.
Лекарством против общественного зла Леру объявлял милосердие. Его план преобразования социума носит мирный характер, чужд насильственным мерам. Мыслитель полагал правильным дополнить древнюю мудрость, заключающуюся в призыве любить ближнего как самого себя. При всей потрясающей глубине этого призыва необходимо прислушаться к философии (самого Леру), возвещающей о том, что «ваш ближний — это вы сами». Подобную формулу следует понимать в следующем ключе: только в коммуникации с другим человек способен находиться в непрерывном контакте с Богом и Вселенной, без другого он лишен полноты бытия. Поэтому милосердие органично включает в себя собственный интерес человека и выступает важным законом его существования. Необходимо возвести человека на подобающую этому закону высоту, выделить ему, наконец, приличествующее место в общественных отношениях.
Милосердие, разъяснял Леру, есть не что иное, как взаимная солидарность людей. Такова его ключевая, программная политическая формула. Философ настаивал на том, что природа милосердия не вполне была ясна предшествующим поколениям. В прошлом она не получила должного философского осмысления. Ведь милосердие всегда связывали только с Откровением, не задумываясь о раскрытии природы этого нравственного понятия, о важности метафизических доводов.
«Христианство — самая великая религия прошлого; но есть нечто более великое, чем христианство: это Человечество» [ibid.: 158]. Объявляя христианство истиной, Леру вместе с тем настаивал на ее неполноте, на необходимости ее дополнить и развить средствами философии. Ибо христианство, на взгляд Леру, оставило человечество в неопределенности перед антиномией эгоизм — милосердие. И то и другое нельзя вычеркнуть из жизни человека, оба элемента антиномии необходимы и даже «святы». С позиции Леру, внутри христианского подхода не было возможности по-настоящему, философски объединить «я» и «не-я». Потому милосердие в христианском смысле оставалось недостаточным, не могло быть основой науки о человеческой жизни. Соответственно, французский мыслитель предлагал рассматривать христианство как некое пророчество относительно будущего развития человеческого ума. Пророчество — исключительно важное, но не исчерпывающее наше социальное познание. Христианство — своего рода исходный пункт, предполагающий продолжение движения. В будущем свобода (эгоизм) и милосердие должны составить единое целое. Именно такое решение соответствует божественной заповеди. «Человеческая свобода вытекает из милосердия или из общности с нам подобными и Вселенной, так же как милосердие происходит из индивидуального права, которым мы обладаем в этой общности» [ibid.: 159].
Людям, согласно Леру, надлежит любить Бога в себе самих и в окружающих. «Бог не проявляет себя вне мира», потому-то важно не отделять себя от его творений, от «нам подобных» существ. Христианство готовило человека к этому единению, но ему принадлежала роль посредника, выполняющего подготовительные работы. Ибо «времена еще не пришли». Христианство еще не могло привести человечество к подлинному счастью в Боге, отстаивало ошибочные идеи о рае и аде. Христианство все еще помещало ближних и мироздание вне человека, недооценивало глубину их связи. «Отсюда неприятие христианством жизни и природы. Отсюда его ужасный Бог. Отсюда его рай и его ад, одинаково химерические, помещенные вне жизни. Отсюда его догма о близком конце света. Отсюда также его разделение мирского и духовного. Отсюда церковь и государство» [ibid.: 167]. Таким образом, французский философ видел существенную ошибку в установке, предоставлявшей светские дела политическим властям, относящей запросы небесного свойства сугубо по ведомству священнослужителей. Этим путем в истории возникла ложная дилемма, символизируемая фигурами папы и Цезаря. На место догмы о конце мира Леру предлагал поставить идею прогресса, совершенствования бытия.
С точки зрения Леру, принцип милосердия может быть воплощен в общественной жизни только вслед за его истинным пониманием. Это понимание предполагает отождествление «я» и «не-я» на основе осознания космического единства: «себя любят в других и других любят в себе». Когда постигается собственное «я» в его универсальной связи с бытием, тогда принцип милосердия становится, наконец, организующей силой. Семья, собственность, государство получают новое измерение, будучи подчинены общим интересам человечества. Они уже не изолированные сущности, но части по-настоящему единого целого. Вся предшествующая история, по мнению французского мыслителя, была разорвана дуализмом. Милосердие относили к прерогативам церкви, которая держалась так, будто находится вне природы. В мирской же сфере царил эгоизм. Философия Леру претендовала на преодоление упомянутого дуализма путем перенесения милосердия в светскую сферу и наполнения эгоизма религиозным смыслом. Церковь как особый институт в его философской схеме становилась излишней.
Леру осуждал в качестве ложного принятое священнослужителями разграничение небесного и земного. По его мысли, не следует бояться выдуманного ада. Еще более важно отказаться от стремления за пределы природы к воображаемому раю. Нет никакого рая и ада вне нашей жизни. Религии уводили человека в ошибочном направлении, прочь от реальности, поэтому он был несчастен. Сознание человека не было цельным, ибо он и принадлежал к миру действительности, и отрицал его. Леру полагал, что самопознание человека кладет предел всем иллюзиям предшествующих эпох. Оно предвещает и социальное освобождение.
Человеческая жизнь, согласно Леру, потенциально вечна. Ошибаются те, кто отрицает бессмертие. Но отпущенное человеку бессмертие не следует понимать как возможность сохранения индивидуальной памяти. Последняя не может сопровождать его в новых состояниях, своего рода перерождениях. Прошлое, настоящее и будущее — части неделимого целого, но оно развивается, подвержено трансформациям. «Небо, истинное небо, это жизнь, это бесконечная проекция нашей жизни» [ibid.: 178]. Бог — повсюду, в том числе и в человеке, и его напрасно пытались отделять от мира. После смерти тела наша жизнь продолжится, но по своей сущности она не будет отличаться от нынешней. Вечная жизнь — это продолжение существования в человечестве, в новой его форме. Вечная жизнь предполагает изменение, обновление наших отношений с окружающими существами. Леру настаивал на том, что не следует отождествлять вечную жизнь с отдельно взятой преходящей ее формой, знакомой человеку по нынешнему воплощению.
Страстная проповедь Леру оказала воздействие не только на философию, но и на литературу его эпохи. Так, например, Жорж Санд, испытавшая серьезное влияние идей приверженца христианского социализма, упоминала в своих статьях о несовместимости фанатизма и насилия с «незавершенным и глубоко миротворным планом Пьера Леру» [Санд, 1974: 653].
Н.Г. Чернышевский в своих дневниках отмечал важность учения Леру применительно к собственному мировосприятию. Вот фрагмент дневниковой записи от 2 августа 1848 года: «Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан особенно, после Леру увлекают меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшим, если не по летам, то по взглядам» [Чернышевский, 1951: 817]. Размышляя о необходимости усовершенствовать христианство, Чернышевский прямо ссылался на учение Леру (25 сентября 1848 года) [там же: 829].
В исследовательской литературе представлен широкий спектр оценок социально-политического наследия Леру — от сугубо отрицательных до хвалебных. Представлены, разумеется, и попытки разобраться в концепции философа непредвзято, объективно.
Ж. Пиоже, подчеркивавший, что «религия солидарности» Леру в своей основе заключала вполне научное «учение об эволюции и биологической наследственности», заявлял: «…этот философ добра был великим революционером» [Pioger, 1896: 10]. С творчеством Леру он связывал фундаментальные установки социализма: борьбу с сословными привилегиями и несправедливостью, ликвидацию права наследственного владения, коллективизацию собственности, напрямую вытекающую из идеи солидарности.
Ж.-Э. Фидао-Жюстиниани относил Леру к «легиону иерофантов» революционной эпохи, занимающему в ней почетное место. Леру он считал менее оригинальным, чем А. Сен-Симона и П.Ж. Прудона, но превосходящим обоих в широте охвата предшествующей традиции, «всех регионов мысли» [Fidao-Justiani, 1912: 3].
Э. де Мирекур не без иронии именовал Леру «великим апостолом социализма», произведения которого хотя и были нелогичными, даже абсурдными, но рождены великодушным сердцем. По мнению Мирекура, Леру не помешало бы чаще вспоминать об Иисусе. Творчество Леру, на его взгляд, служит превосходным доказательством того, в какие заблуждения впадают самые благородные умы в попытках отыскать благо без помощи небесного светоча [Mirecourt, 1858: 6–8].
А. Франк настаивал на нерелигиозной трактовке понятия Бога в концепции Леру. «Но Бог для него — всего лишь математическая бесконечность, проявляющаяся в существах в форме неограниченной прогрессии» [Franck, 1875: 940].
П. Жане и Г. Сеай полагали, что школа, к которой принадлежал Леру, «возобновила догму метемпсихоза», поскольку «вдохновлялась более или менее бессознательным» воспоминанием о системе Г.В. Лейбница [Janet, 1921: 908]. А. Вебер отмечал генетическую связь между системой Г.В.Ф. Гегеля и «социологическими теориями» Леру [Weber, 1914: 488–489].
Ж.-Ф. Бронштейн видел значимость наследия философа в следующем: «Индивидуализму, удовлетворяющемуся фактическим положением дел, Леру противопоставляет учение об ассоциации, которое он первым назовет “социализмом”» [Braunstein, 1984: 1575]. Р. Верденаль обращал внимание на полемическую заостренность концепции Леру против философского эклектизма, который отвергается во имя интеллектуальной традиции, предполагающей закон исторического прогресса [Verdenal, 1999: 55].
Э. Брейе находил истоки концепции Леру о природе философии и ее отношении к религии в идеях А. Сен-Симона и Г.В.Ф. Гегеля [Bréhier, 2004: 1564]. Б. Виар подчеркивал недооцененность наследия Леру: «Сегодня основательно забыли о важном влиянии, которое он имел в XIX в.» [Viard, 1992: 1925].
Подводя итоги, заметим, что очевидным недостатком предложенного Леру проекта является абстрактный характер последнего. Ви́дение Леру будущего лишено той детализации, которая позволила бы очертить реальные контуры нового общественного устройства. Программа построения будущего редуцируется к той моральной установке, что опирается на умозрительные построения, касающиеся природы бытия и человека. Учение Леру находится в сильной зависимости от метафизики прошлого, на преодоление которой он в значительной степени как раз и претендовал. В то же время в отношении философа к христианству чувствуется значительное влияние просветительских установок. Проявляется оно и в активной защите концепции прогресса.
Замысел осуществления масштабного синтеза различных мировоззренческих форм как средства к обретению счастья человечеством, конечно, достоин особого внимания современного человечества. Другое дело, что в проекте французского мыслителя, в его специфической форме ориентации на теорию прогресса происходило выхолащивание значительной части прежних достижений культуры. Леру полагал их отжившими, несущественными для будущего. Но такое соединение христианства с социализмом осуществлялось не без потерь для обеих сторон. Религия трактовалась как пророчество, и предпринималась попытка встраивания ее в политику будущего без присущих ей форм социальной организации.
Вместе с тем в проекте Леру не могут не импонировать его моральный пафос, стремление избавить человека от несправедливости, различных видов порабощения. Мирный способ проектирования будущего также может вызвать одобрение многих наших современников. Равно как и установка не на немедленное и радикальное изменение основ социального бытия, а на постепенную, даже длительную их трансформацию. Давняя идея подчинения политики морали, получившая своеобразное преломление в концепции Пьера Леру, по-прежнему сохраняет свою актуальность для человеческого рода.
About the authors
Artem A. Krotov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: krotov@philos.msu.ru
ORCID iD: 0000-0002-0590-4020
D. Sc. in Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of History and Theory of World Culture, Faculty of Philosophy
Russian Federation, MoscowReferences
- Sand G. K imushchim [To the Haves], transl. from French by M. Nadezhdina, T. Khmel’nitskaya. Sand G. Sobranie sochinenii: v 9 t. [Collected Works: in 9 vol.]. Vol. 8. Leningrad: Hudozhestvennaya literatura Publ., 1974.
- Chernyshevskii N.G. Otryvki iz dnevnikov [Excerpts from Diaries]. Chernyshevskii N.G. Izbrannye filosofskie sochineniya: v 3 t. [Selected Рhilosophical Works: in 3 vol.]. Moscow: Gospolitizdat Publ., 1951. Vol. 3.
- Braunstein J.-F. Leroux. Dictionnaire des philosophes. Paris: PUF, 1984. Vol. 2. Р. 1574–1575.
- Bréhier E. Histoire de la philosophie. Paris: PUF, 2004.
- Fidao-Justiani J.-E. Pierre Leroux. Paris: Bloud, 1912.
- Franck A. Leroux. Dictionnaire des sciences philosophiques, sous la dir. de Ad. Franck. Paris: Hachette, 1875. Р. 938–941.
- Janet P., Séailles G. Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles. Paris: Delagrave, 1921.
- Leroux P. De l`égalité. Boussac: Imprimerie de Pierre Leroux, 1848.
- Leroux P. De l`humanité. Paris: Fayard, 1985.
- Leroux P. Réfutation de l`éclectisme. Paris: Gosselin, 1839.
- Mirecourt E. de. Pierre Leroux. Paris: Gustave Havard, 1858.
- Pioger J. Pierre Leroux socialiste. Paris: Librairie de la revue socialiste, 1896.
- Verdenal R. Le spiritualisme français de Maine de Biran à Hamelin. Histoire de la philosophie, sous la dir. de F. Châtelet. Paris: Hachette, 1999. Vol. 6. P. 37–65.
- Viard B. Leroux. Encyclopédie philosophoque universelle, sous la dir. d`André Jacob. Vol. 3. Les oeuvres philosophiques. Pt 1. Paris: PUF, 1992. P. 1924–1926.
- Weber A. Histoire de la philosophie européenne. Paris: Fischbacher, 1914.