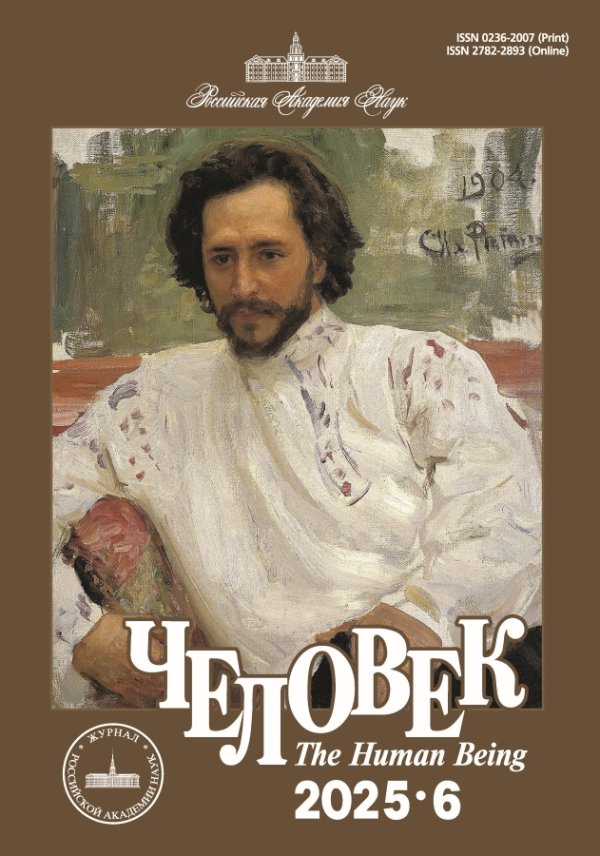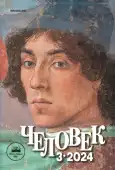The Birth of Hyperborea. Volynsky vs Blok
- Authors: Matveychev O.A.1
-
Affiliations:
- Financial University under the Government of the Russian Federation
- Issue: Vol 35, No 3 (2024)
- Pages: 178-191
- Section: Symbols. Values. Ideals
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/259586
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724030117
- ID: 259586
Full Text
Abstract
The article treats the historical discussion between A. L. Volynsky and A. A. Blok, which took place at several meetings of the editorial board of the publishing house “World Literature” in 1919. The reason for the discussion was Blok’s presentation on the translations of H. Heine where the poet discusses the fate of modern culture and the related problem of humanism. Blok understands humanism as a specific cultural and historical phenomenon, rooted in the Renaissance and asserting the perfect autonomy of the human person and total individualism. On the contrary, Volynsky considers humanism as a universal and timeless principle, as “the ideological core of every historical process.” The dispute soon spilled over into the field of comparative religion; its subject was Heine’s Judaism and, more broadly, Judaism as one of the sources of Christianity. In the course of this discussion Volynsky’s concept of the Hamitic basis of the Christian faith, which was therefore devoid of monic monolithicity, was developed. This concept will form the basis of his book “The Hyperborean Hymn,” which will become the final chord of his creative life. This book will reconsider the then fashionable hypothesis about the Arctic origin of the Aryan civilization. According to Volynsky, Hyperborea was a real northern country. Its inhabitants were a single people, their whole life was determined by the principle of monism. Due to climate change, several thousand years ago the Hyperboreans were forced to leave their land. Scattered throughout the southern lands, they lost their original monism — all except the Semites, who retained the features of their ancient ancestors and monotheistic religion. In the spirit of Russian cosmism, the author prophesies about the coming era of the “new Apollo”— a man of holistic consciousness and universal intelligence who will live forever.
Full Text
4 сентября 1918 года народный комиссар просвещения А.В. Луначарский и писатель А.М. Горький подписали договор об организации при комиссариате издательства «Всемирная литература». На ближайшие три года был запланирован выпуск двух тысяч массовых брошюр и восьмисот отдельных книг зарубежных авторов разных эпох, многие из которых прежде не выходили на русском языке. К работе Горький привлек цвет русской культуры и гуманитарной науки — А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.Л. Лозинского, К.И. Чуковского, Е.И. Замятина, академиков С.Ф. Ольденбурга, И.Ю. Крачковского, В.М. Алексеева и др. В марте 1919 года к коллективу присоединился весьма известный в те годы философ и искусствовед А.Л. Волынский. В самом скором времени он возглавил редакционную коллегию издательства.
25 марта 1919 года в квартире директора издательства А.Н. Тихонова состоялось заседание редколлегии, на котором Блок сделал доклад о переводах Г. Гейне, которые он готовил к печати. Общий пафос его выступления сводился к тому, что Гейне нужно переводить заново — старые его переводы, даже сделанные выдающимися мастерами слова, «совершенно не удовлетворяют современным требованиям», и, более того, «русский язык еще почти не знает Гейне» [Блок, 1962a: 116]. И дело даже не в «отсебятине», которой грешили, как выражаются сегодня, многие отечественные переводчики (М.И. Михайлов чересчур романтизировал немецкого поэта, Ап.А. Григорьев утрировал его ироническую простоту, злоупотребляя «неряшливыми» прозаизмами, П.И. Вейнберг волюнтаристски менял размеры, будто бы они ничего не значат, А.А. Фет и вовсе «относился к нему с какой-то помещичьей или офицерской неуклюжестью» [там же: 121]; и прочая, и прочая…). Ужаснее то, что усилиями прежних переводчиков на месте Гейне-поэта появилась «грузная, стопудовая, либеральная легенда о Гейне, которая принимает наконец совершенно возмутительные для художника и уродливые формы: Гейне превращается чуть ли не в народолюбца, который умер оттого, что был честен» [там же: 119]. А потому сверхзадача нового издания Гейне не столько эстетическая, сколько идейная; и состоит она в том, чтобы «стряхнуть с образа поэта ветхую чешую этих чуждых красок, то гражданственное отношение к поэту, которое я хотел бы назвать, несколько играя словами, родной нашей, кровной, очень благородной и чистой, — но все-таки — грязью» [там же: 119].
Заново, говорит Блок, придется делать решительно всю работу над Гейне — «перед работающими не просто чистая доска, на которой можно писать сызнова, но доска исчерченная, исштрихованная скрипучим грифелем: надо сначала мыть, скоблить, счищать» [там же: 124]. Работе этой будут сопутствовать два обстоятельства. Одно — крайне безотрадное; это расшатанный, фактически разрушенный язык, оставленный в наследство гуманистической цивилизацией XIX века, язык настолько «газетный, суконный», что «становится страшно за культуру — неужели она невозвратима, неужели она похоронена под обломками цивилизации» [там же: 125].
Другое обстоятельство, напротив, будет благоприятствовать работе; оно состоит в том, что «сейчас Гейне стал ближе, чем когда-нибудь, к миру, что, наконец, может быть услышан голос подлинного Гейне именно теперь, среди того взбаламученного моря, которое представляет из себя европейский мир, где трещит по швам гуманистическая цивилизация» [там же: 125].
Голос Гейне, заявлял Блок, как ни один другой созвучен тревожной эпохе, наступившей после Первой мировой войны, когда «во всем мире прозвучал колокол антигуманизма», когда «мир омывается, сбрасывая с себя одежды гуманистической цивилизации», когда «гуманное животное Ζῶου Πολιτιηόυ … перестраивается в артиста», потому что сам Гейне «в основе своей и есть антигуманист, чего никогда еще, кажется, не произносили» [там же: 125–126].
Как и следовало ожидать, дискуссия на заседании пошла не в ту сторону: о Гейне почти никто и не вспомнил — всех взволновали рассуждения Блока о судьбах современной культуры и связанной с ними проблеме гуманизма. Особенно нервничал Горький, он много курил и делал из бумаги бесчисленных «петушков», а затем выступил с ответной речью, в которой поддержал Блока.
«Я человек бытовой, — приводит его слова в своем дневнике Чуковский, — но мне тоже кажется, что гуманизм — именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. … Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого… Нужно только слово гуманизм заменить словом: нигилизм» [Чуковский, 2013: 244–245]. Ожидаемо переведя тему на вопросы борьбы «города» и «деревни», — недавно он побывал на съезде деревенской бедноты («десять тысяч морд») — Горький выразил опасение, что мужик, питающий «животную ненависть» к городу, непременно на него нападет — «мы будем как на острове, люди науки будут осаждены», а гуманистам придется «стать мучениками, стать христоподобными» [там же: 245].
В разгар гражданской войны и «красного террора» легко было интерпретировать позицию Блока превратно. И если Горький решил, что Блок обеспокоен падением в Советской России ценности человеческой жизни и идеалов сострадания, то Чуковский увидел в посыле поэта противоположное. «Странно, — писал он, — что Горький не почувствовал, что Блок против гуманизма, что он с теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне; что его вражда против либерализма — главный представитель коего — Горький» [там же].
Очевидно, что гуманизмом Блок и Чуковский называли разные вещи. В понимании первого гуманизм — это специфический культурно-исторический феномен, коренящийся в эпохе Возрождения: утверждение совершенной автономии человеческой личности, тотального индивидуализма (в этом смысле европейский гуманизм будет вскоре критиковаться Н.А. Бердяевым и П.А. Флоренским, а ранее обличался С.Н. Булгаковым). Второй понимал под гуманизмом некую внеисторическую этическую жизненную позицию, провозглашающую абсолютную ценность человеческой жизни, или, в обывательском смысле, — гуманность, человечность.
С этикоцентристских позиций критиковал Блока и присутствовавший на собрании Волынский. Согласно дневниковой записи Чуковского, «Волынский на заседании, как Степан Трофимович Верховенский, защищал принсипы и Венеру Милосскую…
— Это близорукость, а не пророчество! — кричал он Горькому. — Гуманизм есть явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неизрасходованных гуманистических идей» [там же: 245].
Это была первая атака Волынского на Блока, и она имела долгоиграющие последствия. По предложению Горького проблеме кризиса гуманизма было решено посвятить отдельное заседание коллегии — несмотря на опасения Блока, что все это «превратится в религиозно-философское собрание, в интеллигентский спор об “интеллигенции и народе”» [Блок, 1963: 357].
К выступлению на предстоящем заседании Блок готовился тщательно. Результатом стал знаменитый доклад «Крушение гуманизма», прочитанный на той же квартире А.Н. Тихонова 9 апреля 1919 года. Во избежание кривотолков поэт начал с определения гуманизма: «Понятием гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу и лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма — индивидуализм» [Блок, 1962b: 93].
Блок утверждает, что гуманистическое движение росло и развивалось до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской культуры, а «когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила — не личность, а масса, — наступил кризис гуманизма» [там же: 94].
Разводя понятия цивилизации и культуры, Блок указывает, что «никогда в мире никакая масса не была затронута цивилизацией». Более того, «цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди — варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы» [там же: 99].
Крушение гуманизма Блок рассматривал как явление планетарного масштаба, затронувшее не только революционную Россию, но и всю западную цивилизацию: «во всем мире звучит колокол антигуманизма; мир омывается, сбрасывая старые одежды; человек становится ближе к стихии; и потому — человек становится музыкальнее. … В вихре революций духовных, политических, социальных, имеющих космические соответствия, производится новый отбор, формируется новый человек… цель движения — уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек — артист; он, и только он, будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество» [там же: 114–115].
Как и следовало ожидать, доклад Блока вызвал у слушателей скорее отторжение, чем энтузиазм. Горький, из-под внимания которого ускользнула мысль поэта о всемирном характере антигуманистического движения, спроецировал основные тезисы выступления на события внутри Советской России, а воспетую Блоком пробудившуюся народную стихию истолковал в духе блоковских же «Скифов»: «Говорить … о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, “скифство”, — и это я понимаю как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку “скифство”?» [Горький, 1973: 224].
Волынский подготовил свой контрдоклад заранее, хорошенько обдумав каждый тезис. По воспоминанию литературоведа А.А. Гизетти, «это была стройная и систематическая защита гуманистической культуры против страстного натиска “музыкальной стихии”» [Гизетти, 1928: 79].
По мнению Волынского, крушение гуманизма — очевидный факт, все мы читаем газеты и смотрим в окно. Однако необходимо констатировать, что кризису подвержен не гуманизм в целом как принцип, а лишь одно из его проявлений — христианская система ценностей. «Идеи христианские, — уверяет критик, — требуют любовного пересмотра с точки зрения практической их применимости к жизни. Уж слишком очевидно, что вся моралистическая фантастика находится в полнейшем противоречии с тем, что представляет собой история каждого данного момента. Пишется в книгах одно, а читается в действительности другое. Провозглашается принцип непротивления злу насилием, а проводится в жизнь кровавое мордобитие. Проповедуется святая вода смирения, а ведрами поглощается пьяное вино гнева и мести, империализм не только идейный, но и политический, приводящий к неслыханным схваткам народов между собою на арене мира» [цит. по: Иванова, 2012: 302].
Сам же гуманизм как принцип, по мнению Волынского, универсален и вневременен (вспомним его характеристику: «космическое явление»), он имманентен человеческой культуре: «гуманизм — идейное ядро всякого исторического процесса» [там же: 301]). Гуманизм несокрушим, как несокрушима сама культура, существующая по закону «пирамидальности»: («культурная пирамида не разрушается никогда. Все ее части лишь обрастают новыми пластами. Каменная обшивка, каменная одежда ширится в своем основании, поднимает все выше и выше свою вершину. Ни одна идея, возникшая однажды в культурно-историческом процессе, никогда не умирает» [там же: 301]).
Таким образом, начавшись с Гейне и вопросов гуманизма, спор между Блоком и Волынским плавно перетек в сферу сравнительного религиоведения. В конце 1919 года на прениях по поводу вступительной статьи В.М. Жирмунского к седьмому тому собрания сочинений Гейне Блок «неосторожно» обронил фразу о том, что Гейне изменил иудаизму. Эта последняя, — писал поэт, — вызвала страстный и блестящий доклад А.Л. Волынского» [Блок, 1962c: 144]; критик прочел его перед коллегами по издательству «Всемирная литература» 26 декабря 1919 года. Доклад был симптоматически озаглавлен «Разрыв с христианством».
В кратком изложении Блока доклад выглядел так: Волынский «указывал на немецкий идеализм как на философскую основу немецкого романтизма, оперировал с именами Канта, Шлейермахера, Лессинга, Мендельсона и протестантских богословов-рационалистов; параллельно с этим Волынский говорил об иудейской сущности христианства и о несродности его арийским племенам; в заключение доклада Волынский утверждал, что иудаизму Гейне не изменял никогда» [там же].
В представлении Волынского (несколько, заметим, фантазийном) Гейне, «иудаист насквозь, рационалист первого ранга, чистый осколок гиперборейской изначальной скалы» [Волынский, 1923c: 6], оказывался едва ли не пламенным борцом с христианством. Но что же, задумывается Волынский, раздражало «семитическую натуру» Гейне «в этом трогательном и возвышенном учении»? И дает за него ответ: «Прежде всего в нем [христианстве] ощущается отсутствие монолитности — цельности и связности гетерогенных частей. Это сплав разнородных стихий, в котором все бурлит, в котором нет ничего устойчивого в идейном смысле слова. Амальгама хамитской мистики и месопотамской магии с примесью густых яфетидских наслоений, завернутая в эллинский плащ филоновской вышивки — вот что такое христианская идеология в ее популярнейших церковных редакциях. Хамитская мистика на первом плане. Магическая культура, с ее простонародным знахарством, воскрешением мертвых, чудесным исцелением прокаженных, с ее непорочным зачатием в центре всей легенды о Христе, все это в исторической перспективе является ничем иным, как грубейшим барабаном народного суеверия. Это были именно те токи, которые с древнейших времен стремились подмыть основные устои семитического духа, незапятнанный гиперборейский монизм, который пронесен им через столько веков, через столько гор и пустынь» [там же: 9].
Главная мысль, которую Волынский пытался донести до слушателей, нетривиальна: «монистический дух иудаизма, без дуалистических и триалистических расслоений, стоит перед глазами человечества непреоборимой скалой. На высоту этой скалы Гейне и возносит свой дух, прочь от католической мистики и истерики народных суеверий, прочь от средневековых туманов догматики и церковности. Он вернулся к чистому источнику мировой культуры» [там же: 10].
Блок выслушал Волынского с большим вниманием и уже на следующий день подготовил контрдоклад, который так и остался на бумаге. Несколько позже, в конце декабря 1919 года, на его основе он написал статью «Об иудаизме у Гейне».
В своей статье Блок признается, что не обладает достаточными познаниями в теологии, чтобы научно опровергнуть гипотезу Волынского о хамитской основе христианства, однако, по его мнению, и сама наука неспособна адекватно реконструировать все элементы этого религиозного движения. Волынский же, по его мнению, избрал для этого не самый релевантный путь, а именно — путь «внутреннего опыта»: «на этом пути он увлекся иудейско-рационалистическим элементом христианства и во имя его проклял все остальное» [Блок, 1962c: 146]. Вместе с тем, замечает Блок, речь Волынского, эту «страстную филиппику против христианства на арийской почве», христиане могут только приветствовать: «такие речи свидетельствуют о силе христианства; есть в нем, очевидно, силы, которые еще дадут о себе знать, раз оно может быть предметом таких страстных, вдохновенных и бескорыстных нападений» [там же: 150].
Рукопись статьи Блок отдал Волынскому, и тот уже после смерти поэта опубликовал ее в журнале «Жизнь искусства» (1923, № 31) вместе со своими работами на ту же тему, в том числе заметкой «Ответ А. А. Блоку», в которой он подвел итоги долгой дискуссии, в которой был затронут широчайший спектр вопросов — от хореев до гипербореев. В ее финале Волынский выражает готовность повиниться в том, что за всю свою долгую жизнь он «неоднократно поддавался очарованию отдельных учителей христианской церкви». «Но горячие мои к ним симпатии, остающиеся до сих пор в моем сердце, — добавляет он, — ни на минуту не затуманили моего критического отношения к творчеству богословствующей христианской мысли. Есмь иудей и пребуду им навсегда!» [Волынский, 1923b: 14].
Еврей по национальности, урожденный Хаим Флексер, Волынский прошел сложный религиозный путь, полный метаний между иудаизмом и христианством. Еще в студенчестве он работает в протосионистских газетах и пишет научные статьи о Спинозе, где доказывалась концептуальная и духовная связь пантеистической философии голландского мудреца с иудаизмом. Одновременно — во многом под влиянием своего друга Д.С. Мережковского — он начинает увлекаться христианством. Он рассуждает о Сионе и Голгофе как двух равнозначных духовных константах человечества и одновременно ищет улучшенной, философски обоснованной веры в высшее начало. Это увлечение, еще вполне умозрительное, сослужило ему в то время дурную службу — однажды он приехал в свой родной Житомир, явился в синагогу и начал там толковать… евангелие. После этого он был изгнан из общины, на него наложили херем.
В 1894 году в письме к Л.Н. Толстому Волынский выражает стремление сочетать иудаизм с христианством и высказывает намерение уйти «в простую еврейскую среду проповедовать Христа». Весной 1899 года он едет на Афон, где посещает 22 монастыря, глубоко погружается в таинства православия, ведет беседы с монахами на богословские темы, по пять-шесть часов простаивает на службах, составляет обширную коллекцию снимков с икон, церковных предметов. Монахи предлагают ему креститься водой, но он отказывается. Летом того же года он общается с митрополитом Антонием с целью прояснить для себя ряд богословских вопросов.
В 1910 году в сборнике «Куда мы идем?» выходит статья Волынского «Бог или боженька?» В ней автор подвергает сокрушительной критике религиозный модернизм своих современников, выступая, с одной стороны, против стараний Вяч. Иванова возродить «по программе, предуказанной Ницше, новую расу, оргиастическую, соборно справляющую великое таинство Диониса в “огнестолпных” храмах славяно-германского вдохновения» [Волынский, 1910: 29], а с другой — против попыток «социализации неба и Христа» со стороны квазирелигиозных движений (то есть, «богостроительства» Мережковского). Волынский призывает к «аполлонизации» христианства, возврату к его исходной чистоте — в противовес новым религиозным движениям, выражая надежду, что «родиной нового Аполлона» и «настоящим Вифлиемом» уже в обозримом будущем станет Россия [там же: 32].
Чем же была вызвана его внезапная переоценка христианства на втором году большевистской революции? По мнению В.А. Котельникова, причиной была суровая социальная действительность: «именно современная катастрофическая история, с ее стихийной активностью огромных масс, с грубым смешением рациональных, утопических и мистических идей преобразования проектов преобразования мира, вызывала только отвращение у Волынского, оттолкнула от всякого идейного соучастия в таком развитии истории, заставила и в историческом христианстве видеть преимущественно бессознательную массовость, низовую хамитскую религиозность, простонародный магизм» [Котельников, 2023: 291–292].
Представляется, однако, что декларированный Волынским «разрыв с христианством» и возврат в лоно религии Моисея являлся не просто протестом против «наличного бытия», но — поиском устойчивых оснований культуры и истории, которые философ теперь искал в легендарной Гиперборее, накрепко связанной в его системе мировоззрения с иудаизмом.
Тема Гипербореи, впервые поднятая Волынским в его дискуссии с Блоком, станет лейтмотивом всех его дальнейших работ. Почерпнутый из «Антихриста» Ф. Ницше образ суровой северной страны из древнегреческих сказаний, край чистой витальности и доблести духа, контаминируется у критика с модной в ту пору «арктической гипотезой», согласно которой исток и культурная прародина арийской цивилизации находятся в землях высоких широт. Наиболее последовательно этот образ раскрывается в книге Волынского «Гиперборейский гимн», законченной в сентябре 1923 года. Этот труд стал заключительным аккордом творческой жизни Волынского. «Она содержит в себе не только весь разрыв мой с прошлым, но и все приобретения моего духа за всю мою жизнь, — писал автор. — Я иду, а гиперборейский свет меня ведет» [Волынский, 1923a: 15].
Гиперборея для Волынского — не просто красивая метафора. По его мнению, эта страна существовала в реальности — тысячи лет назад. Ее жители были единым народом, они исповедовали культ Света, и вся их жизнь определялась принципом монизма. Из-за изменения климата несколько тысячелетий назад гипербореи были вынуждены покинуть свой некогда благословенный край.
Волынский высказывает предположение, что этот исход был отражен в греческом мифе о явлении Аполлона из Гипербореи, которое, возможно, «было целым шествием народов, получивших впоследствии наименование народов арийского происхождения, без сомнения, заключавших в своем составе будущий семитический элемент» [Волынский, 2022: 115]. Для установления направлений этой экспансии Волынский привлекает историю распространения культа Аполлона, который с глубокой древности связывался с Гипербореей; он прослеживает этапы трансформации образа Аполлона на греческой почве — от «небесного полководца» до бога чистоты, ясности, меры, порядка [Матвейчев, 2022].
За столетия долгих странствий большинство из них утратили изначальную веру. Сохранить ее удалось лишь семитам — в основных чертах (монотеизм и пр.) она воплотилась в иудаизме — аристократической, чистой, незамутненной религии. Иудаизм, как преемник гиперборейской веры, — космичен, христианство же свело изначальную широту и дерзновенность к приземленной социальной реформе. Космические идеи сменились в нем «антропоморфными построениями хамитских народностей»; в мире утвердился дуализм «со всеми его построениями и антиномиями, со всеми его видениями и исчадиями, со всеми его антитезами добра и зла, света и тьмы, духа и плоти, со всем трагизмом неразрешимой диалектики, со всем ходульным пафосом безысходных противоречий» [Волынский, 2022: 65].
Удивительно, но многие тезисы концепции Волынского, выглядевшие в его время спорными и даже скандальными и воспринимавшиеся как личный миф эксцентричного мыслителя, были подтверждены позднейшими исследованиями в области гебраистики и индоевропеистики. В том числе гипотеза Волынского относительно общей прародины культур и религий, о их северных корнях, а также тезис об изначальном родстве науки Запада с религиями Востока в противовес радикальному разведению этих духовных начал (см., например, «Афины vs Иерусалим» Л. И. Шестова). Получило подтверждение даже положение о привнесенном извне в земли Палестины принципе монотеизма, правда, оказалось, что носителями этого принципа были не семиты, а индоевропейцы.
Будущее человечества Волынский видит оптимистически. Он уверен, что мир, разочаровавшийся в христианстве, страдающий от раздвоенности сознания, готов к возвращению к гиперборейским истокам, он «решительно идет к монизму на всех парах» [там же: 180], к синтезу религий, превращению их всех в некую будущую религию света, солнца, изначальную моническую гиперборейскую веру. Автор пророчествует в духе русского космизма о грядущей эре «нового Аполлона» — человека целостного сознания и всемирной разумности, который будет жить вечно.
Литературовед А.А. Гизетти однажды заметил: «О чем бы ни писал Волынский: о русской литературе и критике, о живописи эпохи Возрождения, об иудействе и христианстве, о балете, наконец, — все книги его — какой-то пролог, какое-то введение, “вечная присказка”, за которою ждешь еще главной, ослепительной и потрясающей сказки» [Гизетти, 1928: 76].
Возможно, именно такой сказкой является «Гиперборейский гимн» Акима Волынского.
About the authors
Oleg A. Matveychev
Financial University under the Government of the Russian Federation
Author for correspondence.
Email: matveyol@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4568-2650
CSc in Philosophy, Professor of the Faculty of Social Sciences and Mass Communications
Russian Federation, 49 Leningradsky Prospekt, 125993 MoscowReferences
- Блок А.А. Гейне в России. О русских переводах стихотворений Гейне // Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6: Проза. 1918–1921. М.–Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1962a. С. 116–128.
- Blok A.A. Gejne v Rossii. O russkih perevodah stihotvorenij Gejne [Heine in Russia. On Russian translations of Heine’s poems]. Blok A. A. Sobranie sochinenij: v 8 t. [Collected works: in 8 vol.]. Vol. 6. Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury Publ., 1962a. P. 116–128.
- Блок А.А. Крушение гуманизма // Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6: Проза. 1918–1921. М.–Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1962b. С. 93–115.
- Blok A.A. Krushenie gumanizma [The collapse of humanism]. Blok A.A. Sobranie sochinenij: v 8 t. [Collected works: in 8 vol.]. Vol. 6. Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury Publ., 1962b. P. 93–115.
- Блок А.А. О иудаизме у Гейне (По поводу доклада А. Л. Волынского) // Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6: Проза. 1918–1921. М.–Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1962c. С. 144–150.
- Blok A.A. O iudaizme u Gejne (Po povodu doklada A.L. Volynskogo) [About Judaism in Heine (Regarding the Report of A.L. Volynsky)]. Blok A.A. Sobranie sochinenij: v 8 t. [Collected works: in 8 vol.]. Vol. 6. Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury Publ., 1962c. P. 144–150.
- Блок А.А. Дневник 1919 года // Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7: Автобиография. 1915. Дневники. 1901–1921. М.–Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1963. С. 351–367.
- Blok A.A. Dnevnik 1919 goda [Diary of 1919]. Blok A.A. Sobranie sochinenij: v 8 t. [Collected works: in 8 vol.]. Vol. 7. Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury Publ., 1963. P. 351–367.
- Волынский А.Л. Бог или боженька // Куда мы идем? Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств. Сборник статей и ответов. М.: Заря, 1910. С. 25–32.
- Volynskij A.L. Bog ili bozhen’ka [God or little God]. Kuda my idem? Nastoyashchee i budushchee russkoj intelligencii, literatury, teatra i iskusstv. Sbornik statej i otvetov. Moscow: Zarya Publ., 1910. P. 25–32.
- Волынский А.Л. Никодимова беседа // Жизнь искусства. 1923a. № 35. С. 15.
- Volynskij A.L. Nikodimova beseda [Nikodim’s Conversation]. Zhizn’ iskusstva. 1923a. N 35. P. 15.
- Волынский А.Л. Ответ А.А. Блоку // Жизнь искусства. 1923b. № 31 (5 авг.). С. 13–14.
- Volynskij A.L. Otvet A.A. Bloku [Reply to A.A. Blok]. Zhizn’ iskusstva. 1923b. N 31. P. 13–14.
- Волынский А.Л. Разрыв с христианством // Жизнь искусства. 1923c. № 31 (5 авг.). С. 5–10.
- Volynskij A.L. Razryv s hristianstvom [Break with Christianity]. Zhizn' iskusstva. 1923c. N 31. P. 5–10.
- Волынский А.Л. Гиперборейский Гимн. М.: Книжный мир, 2022.
- Volynskij A.L. Giperborejskij Gimn [Hyperborean Hymn]. Moscow: Knizhnyj mir Publ., 2022.
- Гизетти А.А. От книг к человеку // Памяти А.Л. Волынского. Л.: Всероссийский союз писателей, 1928. С. 73–82.
- Gizetti A.A. Ot knig k cheloveku [From Books to People]. Pamyati A.L. Volynskogo. Leningrad: Vserossijskij soyuz pisatelej Publ., 1928. P. 73–82.
- Горький М. А.А. Блок // Горький М. Полное собрание сочинений: Художественные произведения: в 25 т. Т. 17: Заметки из дневника. Воспоминания. Рассказы 1922–1924 годов. М.: Наука, 1973. С. 221–229.
- Gor’kij M. A.A. Blok Vol. 17: Zametki iz dnevnika. Vospominaniya. Rasskazy 1922–1924 godov. [A.A. Blok]. Gor’kij M. Polnoe sobranie sochinenij: Hudozhestvennye proizvedeniya: v 25 t. [Complete works: Works of Fiction: in 25 vol.]. Moscow: Nauka Publ., 1973. P. 221–229.
- Иванова Е.В. Александр Блок: последние годы жизни. СПб.: Росток, 2012.
- Ivanova E.V. Aleksandr Blok: poslednie gody zhizni [Alexander Blok: the Last Years of his Life]. St. Petersburg: Rostok Publ., 2012.
- Котельников В.А. Русский Агасфер. Аким Волынский как мыслитель и критик культуры. St. Petersburg: Владимир Даль, 2023.
- Kotel’nikov V.A. Russkij Agasfer. Akim Volynskij kak myslitel’ i kritik kul’tury [Russian Agasfer. Akim Volynsky as a Thinker and Critic of Culture]. St. Petersburg: Vladimir Dal’ Publ., 2023.
- Матвейчев О.А. Образ Аполлона в философском творчестве Акима Волынского // Вопросы философии. 2022. № 11. С. 130–142.
- Matveychev O.A. Obraz Apollona v filosofskom tvorchestve Akima Volynskogo [The image of Apollo in the Philosophical Work of Akim Volynsky]. Voprosy filosofii. 2022. Vol. 11. P. 130–142.
- Чуковский К.И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901–1921. М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2013.
- Chukovskij K.I. Sobranie sochinenij: V 15 t. T. 11. Dnevnik 1901–1921 [Diary 1901–1921]. Moscow: Agentstvo FTM, Ltd Publ., 2013.