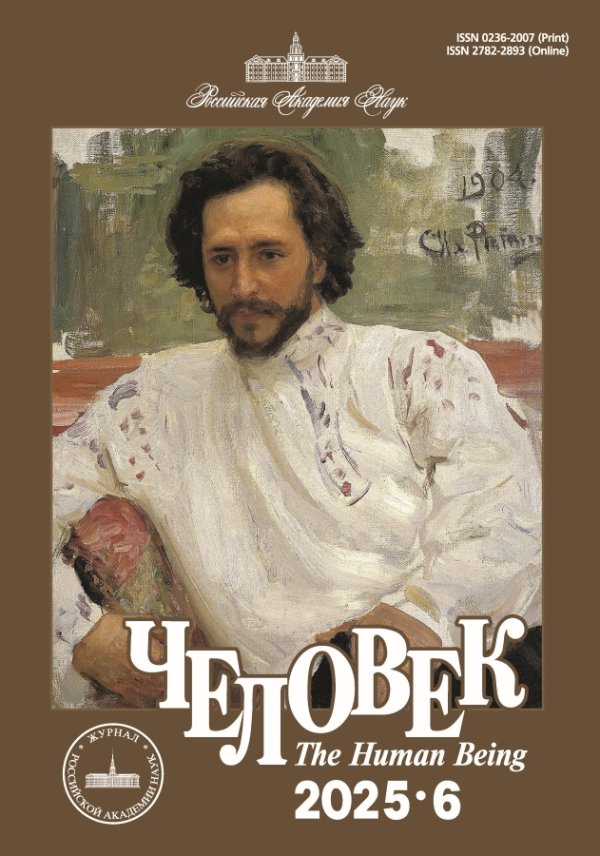On the anthropology of luck: objects of moral responsibility and the morality of chance
- Authors: Emeretli K.S.1
-
Affiliations:
- HSE University
- Issue: Vol 35, No 2 (2024)
- Pages: 103-120
- Section: Social practices
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/257162
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724020067
- ID: 257162
Full Text
Abstract
The article examines one of the concepts of a consistent theory of morality — moral luck. It occurs when a person’s moral standing is determined by factors beyond his control, or, in other words, by luck. However, all actions and their consequences are, to one degree or another, determined by such factors. In this aspect, moral luck is opposed to moral responsibility and disrupts the natural practice of human interrelationships. The problem arises: how can one be praised or blamed for certain actions or their consequences if they are partially or completely independent of his individual choice? This article is devoted to consideration of this problem. On the one hand, it argues against resultant moral luck — the kind that is associated with the results of actions. To complete this, the “control principle” and the nature of human action are analyzed. On the other hand, arguments are defended in favor of the significant importance of considering the factor of moral luck for the actualization of people’s moral behavior.
Keywords
Full Text
Интуитивно очевидным является утверждение о том, что мы можем нести моральную ответственность только за те действия и их последствия, которые мы в силах контролировать, или за те, которые способны сознательно выбирать и реализовывать. Однако зачастую опыт жизни каждого человека — все элементы и составные части его поведения — конструируется факторами, которые находятся за пределами его морального или каузального участия и не зависят от его индивидуальной воли, не поддаются предвидению, но влияют на принимаемые им решения. Тогда удачи и неудачи, которые проявляются в виде непреднамеренных внешних и внутренних факторов, становятся моральными и начинают подрывать фундамент моральной ответственности, а также нравственную подоплеку взаимоотношений между людьми. Именно поэтому трудно согласиться с мнением, согласно которому «все, что является продуктом счастливой или несчастливой случайности не может быть ни надлежащим объектом моральной ответственности, ни ее надлежащим детерминантом» [Williams, 1981: 20]. Теперь этот постулат здравого смысла не высказывает само-собой-разумеющееся мнение, истинность которого принимается без доказательств.
Современное исследование понятия моральной удачи в академической среде сформировали два одноименных философских текста второй половины XX века: эссе Бернарда Уильямса [Williams, 1981] и статья Томаса Нагеля [Nagel, 1979]. При этом следует отметить, что эксплицитное отстаивание устойчивости моральной ответственности перед стихийным ветром удачи можно встретить еще у Адама Смита в «Теории нравственных чувств» [Smith, 1976] и Иммануила Канта в «Основах метафизики нравственности» [Кант, 1997]. В них показано, что моральную ценность содержат не действия или их последствия, но воля людей как таковая, которая, как можно предположить, предшествует всем возможным факторам удачи или неудачи, а значит, не подвергается их воздействию и поддерживает моральную ответственность. Такая позиция актуальна и сегодня для многих современных исследователей. Именно поэтому отрывки из произведений Канта и Смита перекочевывают из одной статьи в другую в работах по моральной удаче. Но подобное единение носит локальный характер и не делает дискурс о моральной удаче более компромиссным. Наоборот, последний всегда состоял из значительного числа разрозненных точек зрения, каждая из которых встречает как активную поддержку, так и напористую критику.
Данная статья, во-первых, вводит читателя в проблематику моральной удачи и анализирует типологию удачи; во-вторых, отстаивает позитивные решения по некоторым из аспектов вопроса; в-третьих, синтезирует позицию, которая отрицает один из видов моральной удачи — результирующую удачу, с позицией, согласно которой моральная удача играет значительную роль для понимания морали в целом. Необходимо отметить, что когда философы отрицают феномен моральной удачи, речь идет не о том, что реальность удачи или неудачи, как объективного условия среды, является ошибочной, но о том, что такая реальность не может или не должна определять моральное положение субъекта, то есть его моральную ответственность. И, наоборот, признание моральной удачи означает, что случайные внешние и внутренние факторы обладают такой функцией. Также понятие ответственности следует понимать именно в значении моральной ответственности.
В основе статьи лежат пять тезисов:
- Существование конститутивной, обстоятельственной и каузальной моральных удач противоречит ответственности, которой обладают субъекты действия. Поэтому единственным видом моральной удачи, который необходимо отрицать, является результирующая удача.
- Наблюдаются расхождения между интуициями и естественными ожиданиями людей, с одной стороны, и принципом контроля, который, как утверждается, лежит в основе моральной ответственности, с другой. Но эти расхождения согласуются с каждым из видов удачи, кроме результирующей, и говорят нечто о морали как таковой — вне границ определенного контекста.
- Человек может нести ответственность только за качество своей воли или свои воления, под которыми стоит понимать, в частности, намерения, желания, стремления и другие ментальные элементы, а также за свои действия.
- Каждый из двух объектов моральной ответственности — воления и действия — является независимым от актуальных действий (в случае ментальных элементов), обстоятельств и результатов действий, и заслуживает положительной или отрицательной нравственной характеристики сам-по-себе.
- Результирующая моральная удача не должна определять оценку моральной ответственности. При этом, хотя люди, которые реализуют одинаковые воления или действия, но достигают разных результатов из-за случайных факторов, в равной степени ответственны за эти воления и действия, разные результаты могут накладывать на них дальнейшие неравные обязательства.
«Удача» и «моральная удача»
Когда речь заходит о значении слова «удача», возникает искушение обратиться к словам Уильямса и просто сказать: «я буду употреблять понятие “удача” широко, обобщенно, но, думаю, вразумительно» («I shall use the notion of “luck” generously, undefinedly, but, I think, comprehensibly») [Williams, 1981: 22]. И хотя уже в следующем предложении философ все-таки поясняет, как именно он будет использовать понятие удачи, кажется, что действительный отказ от этой затеи не мог исказить содержание его эссе, ведь мы без видимых трудностей используем слово «удача» в повседневном диалоге с другими людьми, не испытывая никаких трудностей с толкованием заложенного в нем смысла. Тем не менее дать определение понятию «удача» необходимо по той причине, что значение, в котором оно используется в процессе философского анализа, расходится с интуитивно схватываемым, «бытовым» значением. Удача, как она понимается в большинстве исследований, касающихся вопросов моральной ответственности, и как она будет пониматься в этой статье, не подразумевает, что конкретные события или явления произошли беспричинно или первоначально были маловероятны. В строгом смысле, под удачей следует рассматривать некоторые факторы, которые человек не может контролировать, но которые способны более или менее существенным образом повлиять на принимаемые им решения и/или результат его поведения 1. Объективно же, для стороннего наблюдателя, при условии, что тот обладает необходимым количеством информации, факторы удачи могут восприниматься в качестве вполне естественных и прогнозируемых, а, возможно, и вовсе неизбежных событий. С такой нравственно нейтральной удачей не возникает никаких трудностей. Мало кто станет отрицать, что человек регулярно сталкивается с факторами, которые препятствуют достижению поставленных им целей или, наоборот, изрядно облегчают задачу.
Путаница обнаруживается только тогда, когда удача начинает влиять на оценочные суждения о человеке, который поступил определенным образом, когда такой человек вообще становится объектом моральных суждений несмотря на то, что контекстуальное пространство для его действий состоит из неподконтрольных ему факторов. Дана Нелькин отмечает: «моральная удача имеет место, когда агент [agent] может обоснованно выступать [can be correctly treated] объектом морального суждения, несмотря на тот нюанс, что существенный аспект того, за что его [морально] оценивают, зависит от факторов, которые он не контролирует» [Nelkin, 2019] 2. Обоснованность положения агента как объекта внешних моральных суждений указывает на такую характеристику вопроса, которая, в частности, и позволяет за ширмой занимательной головоломки, логической уловки или даже оксюморона 3, разглядеть парадоксальность 4 моральной удачи, которая делает ее исследование столь злободневным.
Виды моральной удачи и «принцип контроля»
В литературе выделяется четыре вида моральной удачи: конститутивная удача (constitutive luck), обстоятельственная удача (situational или circumstantial luck), каузальная или причинная удача (causal luck) и результирующая удача (resultant luck или consequential luck). Каждая из них выражает общую проблему и противоречит так называемому принципу контроля. Согласно этому принципу, «мы несем моральную ответственность только в той мере, в какой то, за что нас оценивают, зависит от факторов, находящихся под нашим контролем» [Nelkin, 2019]. Интуитивная достоверность принципа контроля рассыпается под интенсивным давлением тех последствий, к которым приводит его позитивное применение, таким образом, что в результате мы уже не способны ни следовать основному положению принципа, ни противостоять ему. Оказывается, что если доводить принцип контроля до его логического завершения или, занимая позицию на противоположном конце прямой, абсолютизировать роль удачи, то в первом случае мы обнаружим, что теоретически каждый из нас морально ответственен за любой из вообразимых вариантов развития событий [Zimmerman, 2002], а во втором случае мы вынуждены будем признать, что никто не ответственен ни за что в мире, с тех пор как все происходящее зависит от влияния удачи [Levy, 2009]. В этом смысле моральная удача понимается в качестве прямой противоположности контролю. Однако обсуждение устойчивости принципа нельзя оторвать от анализа содержания каждого из видов моральной удачи.
Конститутивная удача показывает, «что ты за человек, когда этот вопрос задается не просто как вопрос о том, что ты осознанно делаешь, но о том, каковы твои наклонности, способности и темперамент» [Нагель 2008: 177]; обстоятельственная удача — в каких обстоятельствах (ситуациях) обнаруживает себя человек; каузальная удача — предшествующие обстоятельства, которые детерминируют текущее положение субъекта; и результирующая удача связана с результатами человеческих действий и поведения.
В своей совокупности указанные виды поднимают классическую проблему свободы воли. Вот как описывает ее Нагель: «Если факторы, которые человек не контролирует, не позволяют ему быть ответственным за последствия своих действий или за свойства характера, в силу которых он совершил эти действия и которые он не мог изменить усилием воли, или за обстоятельства, в которых приходится делать моральный выбор, то как он может быть ответственным даже за чистые акты самой воли [stripped-down facts of the will], если и они — продукт предшествующих обстоятельств, не подконтрольных воле?» [Нагель, 2008: 184]. Этот вопрос важен для правильного понимания статуса результирующей удачи — единственного вида моральной удачи, существование которого я в данный момент предпочитаю ставить под сомнение, и моральные импликации которого, по всей видимости, являются основным источником недоумения.
Свобода воли, под которой имеется в виду возможность для людей не только поступать в согласии с собственными намерениями, но и быть теми, кем они хотят быть, оказывается беззащитной перед тяжелой поступью детерминизма и проявляет очевидную уязвимость в условиях потенциальной неограниченности количества вариантов развития будущего 5. Человек постоянно обнаруживает себя в окружении событий, обстоятельств и нелепых случайностей, независимых от него, но связанных в настолько замысловатый узел, что его неспособно разрубить никакое проявление твердой силы индивидуального выбора. Но даже если мы принимаем истинность детерминизма, я склонен занимать ту сторону в конфликте, которую обычно называют компатибилизмом и которая в общем смысле постулирует совместимость свободы воли с детерминизмом. Следствие, проистекающее из провозглашения такой совместимости, которое интересует нас в первую очередь, заключается в том, что замкнутость субъекта в нескончаемой цепи причинности не устраняет доступность нравственного поведения и не уничтожает личной ответственности: «даже если мы каузально детерминированы действовать определенным образом, мы все равно можем действовать, исходя из желаний, которые нам приятно иметь, мы все равно можем действовать по хорошим или плохим причинам, и наши действия по-прежнему могут выражать наши ценности» [Khoury, 2018: 1374]. Поэтому вполне обоснованно рассматривать конститутивную, обстоятельственную и каузальную моральную удачу как позитивные. В конце концов, именно Я решаю, как Я отреагирую на определенные обстоятельства, какое решение приму и в какую сторону поверну сложившуюся ситуацию. Но вынести схожий вердикт в отношении результирующей удачи достаточно проблематично, а скорее всего, невозможно.
Результирующая удача отличается от остальных видов удачи не только логически, но и концептуально. Обстоятельства и внутренняя конституция человека имеют перспективную направленность, безразличную к результатам его поступков. Они подразумевают взаимодействие человека с определенными условиями, обрамляют его поведение в заданных обстоятельствах и под влиянием уникального темперамента. Это дает нам возможность признавать факт существования этих трех видов удачи не только и не столько без ущерба для моральной ответственности, но, более того, с откровенной пользой для нашей возможности поступать морально. Но результирующая удача охватывает результаты действий, она имеет ретроспективную направленность в том смысле, что мы стараемся постфактум разглядеть некоторую предшествующую развязке деталь, которая и привела к конкретному результату. Другими словами, воля или действия субъекта всегда предшествуют результирующей моральной удаче, но своевременно обнаруживают себя в рамках других видов удачи. Поэтому я в силах представить, каким образом обстоятельства и темперамент, принимаемые в качестве удачи, могут влиять на моральную ответственность, но выражаю сомнение в том, что то же самое можно приложить к результирующей удаче.
Из этой позиции, если мы предпочитаем отрицать результирующую удачу, логически следует то, что мы несем ответственность, выражаясь словами Эндрю Хури, только за «элементы ментальной жизни» или свои воления [Khoury, 2018] 6. В противном случае становится невозможным уклонение от воздействия неподконтрольных факторов, которые будут полностью определять виновность или невиновность субъекта и задавать вектор движения наших оценочных суждений.
Природа действия и ответственность
Когда Хури утверждает, что мы несем ответственность только за свои воления, он не просто выносит суждения с целью защитить моральную ответственность от неподконтрольных людям перипетий окружающего мира, но выводит свою аргументацию из конкретного понимания им природы человеческого действия. В начале статьи философ предлагает три примера, к которым он будет неоднократно обращаться на протяжении всего текста. Я в свою очередь приведу более лаконичные, но структурно и содержательно идентичные ситуации.
Ситуация первая: (А) убийца, который стреляет в (Б) и убивает его.
Ситуация вторая: (А) убийца, который стреляет в (Б), но не убивает его из-за птицы, которая преградила полет пули.
Ситуация третья: (А) этого не знает, но его подключили к машине, которая генерирует виртуальную реальность. При этом (А) уверен в том, что он держит в руках снайперскую винтовку и уверен в том, что совершает выстрел и убивает (Б). Очевидно, что в реальности никто не пострадал.
Ситуации специально построены таким образом, что в них подлежит изменению все, кроме ментальных элементов (А), но, несмотря на это, выносимый моральный вердикт сохраняет первоначальную целостность.
Предположим, что (А) в каждой из ситуаций обладает одинаковыми интенциями. То есть в своих поступках он руководствуется единым набором желаний, стремлений и других ментальных элементов. Тогда, если мы говорим, что нет разницы между первой и второй ситуацией, необходимо распространить это утверждение и на третью ситуацию, потому что нахождение (А) в виртуальной реальности является для него точно таким же фактором удачи, каким является и пролетающая мимо птица во второй ситуации [Khoury, 2018: 1360]. Отсюда, в частности, дополнительно следует то, что в каждой из ситуаций (А) несет ответственность исключительно за направление своей воли, которая оказывается нечувствительной не только к результатам действий (вторая ситуация), но и к фактическому совершению действий как таковых (третья ситуация): «этот взгляд предполагает [только то], что ментальный компонент действия, который я называю волением, метафизически обособлен от телодвижения и его дальнейших последствий, в том смысле, что он [компонент] может иметь место в отсутствии телодвижения или его последствий». Таким образом: «всякий раз, когда мы действуем, есть связанное [с этим действием] ментальное событие [воление], и, в контексте действия, только воления являются тем, за что моральные агенты несут ответственность» [Khoury, 2018: 1365]. Эти рассуждения затрагивают вопрос о взаимосвязи между волением и действием.
В одном из своих эссе по философии действия Дональд Дэвидсон пишет: «Я щелкаю выключателем, включаю свет и освещаю комнату. Неведомо для себя я также оповещаю грабителя о своем присутствии в доме. Здесь мне нужно было делать не четыре вещи, но только одну, для которой было дано четыре описания» [Davidson, 2002: 4]. Это демонстрирует отсутствие принципиальной разницы между тем, что я включил свет в комнате и тем, что я оповестил грабителя — все это доступные описания одного действия, а именно движения моего пальца, с помощью которого я щелкнул выключателем. События, к которым приводит взаимодействие пальца и выключателя, зависят от того, что фактически произойти может и чего произойти не может: «наши примитивные действия, те, которые мы не совершаем, делая что-то еще, простые движения тела, — это единственные действия, которые существуют. Мы никогда не делаем ничего, кроме движений тела: все остальное зависит от природы [is up to nature]» [Davidson, 2002: 59]. Хури соглашается с подобной унификацией действия, но считает, что Дэвидсон в своем анализе останавливается незадолго до его логического конца, потому что и движение пальцем, как базовое действие, в том же самом смысле зависимо от положения дел в природе: «Дэвидсон ошибочно думал, что телодвижения являются дескриптивной основой [descriptive bedrock]. Скорее, все, что мы когда-либо делаем — так это желаем [will] возникновения событий или состояния дел, остальное зависит от природы» [Khoury, 2018: 1365]. Движение пальцем при таком раскладе становится описанием воления включить свет, а значит мы несем ответственность за наши действия, потому что располагаем формулой: действия равно воления. Тогда (А) в каждой из ситуаций выше несет одинаковую моральную ответственность, несмотря на различие в фактах и последствиях, которые теперь превращаются в описания его фундаментального воления расправиться с (Б). Смерть (Б) = выстрел в (Б) = нажатие на курок = воление убить (Б).
Мне импонируют теоретические воззрения Хури, но я нахожу потенциальное несоответствие между тем, что метафизически значимо для действия, и тем, что имеет значение для морали. Предположим, что Хури прав и действия, по которым в данном случае стоит понимать также и все актуальные эффекты действий, сводятся к конкретным волениям. В то же время он добавляет следующее примечание: «не все элементы… ментальной жизни релевантны для указанного контекста… Скорее, релевантные элементы его ментальной жизни будут касаться только тех элементов, которые имели отношение к этому конкретному выражению агентности» [Khoury, 2018: 136]. Так, в ситуациях с (А) релевантным элементом выступает его воление убить (Б), а не, например, его вера в то, что дважды два равно четыре. Однако я выражаю сомнение, во-первых, в возможности для каждого отдельно взятого случая обнаружить релевантные ментальные элементы, служащие объектом моральной ответственности, и, следовательно, во-вторых, не уверен в том факте, что человек может нести ответственность только за свои воления.
Представим, что я купил билеты на премьерный показ нового фильма, но перепутал время и выехал на автомобиле из дома слишком поздно. Чтобы успеть в кино, я решил превысить скорость. Из-за этого я не успел вовремя затормозить в момент, когда на дорогу выбежал ребенок, и сбил его. По аналогии с выстрелом и последующим убийством, превышение скорости в данной ситуации связано с желанием или волением успеть на сеанс. Этот ментальный элемент невозможно признать релевантным. Абсурдно утверждать, что я виновен в том, что не желал пропускать начало фильма или даже в том, что я хотел добраться до места назначения как можно быстрее. Наши оценочные осуждения здесь затронут непосредственно факт превышения скорости вне зависимости от мотивов, которыми я руководствовался на момент приятия решения превысить скорость.
Я предполагаю, что мне могут указать на то, что релевантным элементом будет не воление успеть на сеанс, но воление превысить скорость, чтобы успеть на сеанс, и именно за него я буду нести ответственность. Прежде всего, я думаю, что такой взгляд на ментальные элементы как на дискретные единицы ошибочен. Мы не осознаем все этапы в некоторой ментальной последовательности в их отдельности. Когда (А) выражает воление выстрелить в (Б), он, в строгом смысле, воспринимает воление прицелиться и нажать на курок в общем потоке воления убить (Б), за которое (А) в дальнейшем справедливо понесет моральную ответственность. Точно так же, когда я превысил скорость, руководящим ментальным элементом будет желание успеть на сеанс, которое подразумевает (но не требует) превышения скорости. Таким образом, в первом случае этот холистический общий поток выражает исключительно желание успеть на сеанс, а во втором случае — желание убить. Я хочу сказать, что если говорить о деталях, то любое воление можно описать в его раздробленных частях, например, не воление убить, но воление занять позицию, чтобы убить, или воление надеть удобные перчатки, чтобы выстрелить, чтобы убить; тем не менее, кажется, все это лишь элементы единого целого, примитивного желания убить, и оценочное суждение направлено именно на него.
Вышесказанное имеет значение в области морали и не противоречит не только философии действия Хури, но и отрицанию результирующей удачи. Потому что в предложенном мной примере действие плохо само по себе вне зависимости от того, описанием какого воления оно является, а значит случайное событие, неудача в виде появления на пути автомобиля ребенка, не делает мое поведение более заслуживающим обвинения, чем если бы я благополучно добрался до кинотеатра.
Моральность моральной удачи
Если мы отрицаем существование результирующей моральной удачи, то должны объяснить, по какой причине между общей практикой разного отношения людей к одинаковым действиям, когда они тянут за собой разные последствия, и убедительным принципом контроля пролегает пропасть, во мраке которой растворяются теоретически справедливые моральные суждения.
Есть несколько полноправных точек зрения на основания этой проблемы. Однако я раскрою содержание одной позиции или стратегии, которая, по моему мнению, является наиболее достоверной, а также естественной в том, что касается ее роли в нашей жизни и подчеркивании интуитивных соображений о правильном и неправильном, которыми мы руководствуемся. Суть этой позиции кроется в следующем: вполне нормально, понятно и даже уместно выстраивать настороженное, негативное или положительное отношение к людям, чьи действия, под влиянием удачи или неудачи, привели к непоправимым, трагичным или счастливым последствиям, и нейтрально относиться к другим людям, которые сделали то же самое, что и первые, но не столкнулись с вмешательством неконтролируемых внешних факторов и поэтому уклонились от похвалы или порицания. Неуместно в таких ситуациях будет только «предлагать различные моральные оценки их [людей] поведения» [Nelkin, 2019].
Неудивительно, скажем, что некто осудит неосмотрительного водителя, который сбил человека, но останется холоден к водителю, который спокойно добрался до места назначения. Более того, мы не просто самостоятельно выражаем определенные эмоции, но ожидаем соответствующей реакции как от других людей, так и от прямых участников событий, пусть они лишь каузально виновны в произошедшем. Я не хочу этим примером обличить нечто вроде откровенной искаженности нашего до-теоретического понимания морали и требовать его перекройки, но хочу вслед за Сюзанн Вольф «найти мораль в феномене моральной удачи» [Wolf, 2001: 6]. Повседневные реакции могут расходиться с логически выверенными критериями приписывания ответственности, но они уживаются с ними и говорят о нравственности в целом. Нас не может не шокировать тот абстрактный водитель, если в конкретной ситуации он поймет, что теоретически не виновен в смерти пешехода, равнодушно осмотрится по сторонам и продолжит движение. И едва ли найдется человек, который станет утверждать, что именно такая картина мира стала бы желанным исходом как результат устранения путаницы в нашем мышлении. Далее я приведу умеренные в своем масштабе доводы в пользу «реальности и глубокой важности… моральной удачи для человеческой жизни» [Walker, 1991: 15].
Недостаток контроля постулирует неаутентичность сферы ответственности, за которой стоит очевидная неаутентичность нашего агентства — мы не можем учитывать и контролировать все актуальные факторы среды [Williams, 1981: 29–30]. И если это так, а также, если мы принимаем ясный и в действительности безобидный факт «совершенной предсказуемости нашей подчиненности влиянию внешних факторов, которая влечет за собой несовершенную предсказуемость результатов» [Walker, 1991: 19], то моральная удача перестает быть неразрешимой проблемой, если вообще сохраняет черты проблематичности. Принцип контроля на поверку оказывается куда более гибким инструментом, который не просто выделяет условия, при которых мы или другие люди становимся носителями ответственности, но и включает широкий спектр реакций — гнева, радости, страдания, уныния, шока, злости, воодушевления — как неотъемлемой части приписывания моральной ответственности: «поскольку мы можем винить людей только за их действия или бездействия, о которых нам известно, мы будем чаще винить людей, чьи неправомерные действия или ошибочное поведение приводят к плохим результатам, нежели тех, чьи действия не причиняют вреда» (Wolf, 2001: 7). Поэтому голословным будет заявление, что эти и другие реакции суть рудиментарные для нашей моральной диспозиции элементы: «правда моральной удачи, которую должен осознать рациональный, отзывчивый моральный агент, заключается в том, что ответственность пересиливает контроль, хотя и не каким-то одним или простым способом» [Walker, 1991: 19].
Этот взгляд пронизывает многие аспекты нашей жизни: мы хвалим людей, когда они справляются с незначительными или серьезными трудностями, которые спонтанно возникли в ходе игры случайности, благодарим их, если они по доброй воле помогают нам справиться с такими трудностями, и расстраиваемся или разочаровываемся, если они уступают перед нашествием первых и закрывают глаза на вторые 7. Однако указанные реакции и требования в отношении поведения других людей не просто утверждают ответственность, но подразумевают вовлеченность субъекта сверх обыкновенного признания с его стороны того факта, что он ответственен за тот или иной результат своего поведения. Вновь обратимся к водителю, который сбил ребенка. Предположим, что он осознает свою роль в производстве этого печального факта, но высказывает мнение, согласно которому он не более виновен, чем тысячи других водителей, которым просто посчастливилось не столкнуться с пешеходом. Проблема будет заключаться не в том, что водитель «отказывается признать [accept], какую ответственность он объективно несет за смерть ребенка, но в том, что он не способен принимать [take] на себя ответственность за произошедшее в том смысле, который выходит за рамки [простого признания]… Даже если такое отношение к жизни можно представить концептуально последовательным, оно определяет взгляд, который является нездоровым и нежелательным» [Wolf, 2001: 12–13]. Довольно очевидно, что описываемая выше картина нравственного поведения может стать возможной только благодаря активному участию субъекта, которое основывается на отличительных чертах его характера и личности как таковой — специфических добродетелях. Вульф пишет о «безымянной добродетели», суть которой выражена в «принятии ответственности за свои действия и их последствия» и которая имеет сходства с щедростью (generosity), обычно предполагающей «желание отдавать больше — больше времени, больше денег, больше любви, больше терпимости, больше себя, чем того требует справедливость» [Wolf, 2001: 13–17]. Уокер, в свою очередь, говорит о честности (integrity), осознанности (lucidity) и милосердии (grace) как о качествах, которые помогают каждому из нас ориентироваться в разделяемом с другими людьми мире, и называет их «добродетелями неаутентичной агентности [virtues of impure agency]» [Walker, 1991: 18–26]. Здесь важно понять, что добродетели, о которых идет речь, не являются своего рода эффективным орудием в борьбе против существующих влияний удач и неудач, но становятся узнаваемыми благодаря им.
Концепция добродетелей позиционирует нормативное различие между теорией и практикой нашей деятельности, и поэтому не противоречит отрицанию моральной удачи. Она предполагает, что вне зависимости от степени нашей ответственности, результаты действий подразумевают соответствующие объективные реакции. И многие авторы, понимая значимость этого факта, указывают на различные типы ответственности, один из которых касается ответственности в объективном смысле, которая не зависит от результатов волений или действий, а второй — результатов и последствий, как факторов, которые тем не менее приумножают ответственность агентов и накладывают на них дополнительные обязательства.
Майкл Циммерман проводит разграничение между степенью (degree) и объемом (scope) ответственности и контроля. Степень ответственности или контроля «не может подвергаться влиянию того, что находится вне нашего контроля», хотя того же нельзя сказать об объеме. Согласно Циммерману, (А) из примера выше, вне зависимости от того, убил он (Б) или нет, будет обладать одинаковой степенью ответственности, но разным объемом, поскольку в одном из случаев мы наблюдаем факт смерти, а в другом нет. Точно также можно сказать, когда (А) успешно убил (Б), он «контролировал больше вещей» (его контроль имел больший объем), но не обладал «большим контролем» над смертью (Б), чем (А), который не совершил убийства из-за птицы, «(он контролировал происходящее в той же степени)» 8. Следовательно, продолжает философ: «поскольку степень ответственности зависит от степени контроля, [(А) в каждой из ситуаций] должен быть объявлен одинаково морально ответственными» [Zimmernam, 2002: 560–568]. Енох и Мармор видят разницу между «моральной порицаемостью (или похвальностью) [moral blameworthiness (or praiseworthiness)], которая… является исключительно функцией моральной ответственности и, следовательно, невосприимчивой к удаче, от уместности [appropriateness] или оправдания [justification] того, что мы будем называть связанными-с-виной(-похвалой) [blame-(or praise-)related] реакциями, такими как наказание, социальное осуждение и даже такие отношения-от-первого-лица [first-person attitudes], как сожаление или раскаяние» [Enoch, Marmor, 2007: 413–417]. Хури излагает более обобщенное, но содержательно идентичное мнение: «мой аргумент касается ответственности, понимаемой как степень, в которой агент заслуживает порицания или похвалы. Таким образом, хотя я утверждаю, что агенты не могут быть достойны порицания или похвалы за каузальные последствия своих волений, я не утверждаю, что они не имеют отношения к последующим обязанностям [duties] в значении будущих обязательств [obligations]. Тот факт, что желания человека приводят к конкретным результатам… порождает конкретные обязательства. Если желание [агента] причинило какой-то вред, то перед ним может встать обязанность предложить своего рода возмещения» [Khoury, 2018: 1375] 9.
* * *
Моральная удача как философская проблема глубоко озадачивает. В данной статье я не стремился охватить все виды моральной удачи в их тотальности, в ней проанализированы только моральные импликации и логические следствия результирующей удачи. В качестве итогов исследования можно предложить несколько выводов:
- Конститутивная, обстоятельственная и каузальная удачи могут приводить к тому, что люди меняют алгоритм своих действий или поступают так или иначе, но всегда согласуют их с идеей моральной ответственности. Результирующая удача также может накладывать на людей дополнительные обязательства, но не должна влиять на их моральный статус. Поэтому существование этого вида удачи следует отрицать.
- Все виды удачи совместимы с возможностью поступать таким образом, который можно считать нравственным в широком смысле. И даже если мы логически последовательно отрицаем существование результирующей удачи, как противостоящей ответственности, с нашей стороны вполне естественно ожидать определенной реакции — положительной или отрицательной — со стороны людей на результаты как своих, так и чужих действий.
- Действия людей, точно также, как и многочисленные — намеренные и непреднамеренные, предусмотренные и непредусмотренные — результаты таких действий, являются описаниями их релевантных ментальных элементов или волений. При этом моральную ответственность человек может нести не только за релевантные ментальные элементы, но и за конкретные действия, если для данных обстоятельств невозможно подобрать релевантные ментальные элементы.
- Воления людей (элементы ментальной жизни), а в некоторых ситуациях также их действия всегда предшествуют своим результатам и обладают определенным содержанием, о котором можно заранее сказать, является оно отрицательным или положительным в нравственном смысле. Тогда определенные результаты и случайные внешние факторы (удачи и неудачи), которые приводят к этим результатам, не могут и не должны становиться объектами моральной ответственности.
- Каждый из видов моральной удачи согласуется с интуитивно достоверной практикой, согласно которой на людей могут накладываться неравные обязательства, если их идентичные действия привели к различным результатам. Но результирующая удача, в отличие от других видов моральной удачи, противоречит моральной ответственности. Именно поэтому ее необходимо отрицать.
Даже если мы проводим линию демаркации между результирующей удачей и остальными видами удачи, сохраняется широкий спектр вопросов, которые требуют тщательного изучения. Поэтому любая плодотворная работа, которая силится прояснить отдельные составные части феномена моральной удачи, дополняет карту своими линиями и стрелками, позволяя продвинуться на пути к выходу из интеллектуального тупика.
1 Ср.: «<…> идея удачи не связана с некоторой начальной оценкой вероятностей. Скорее, она указывает на факторы, влияющие на характер или поведение человека, которые находятся вне контроля этого человека. Таким образом, все, что происходит, вне зависимости от вероятности, может быть делом удачи в соответствующем смысле, если оно находится за пределами контроля агента» [Enoch, Marmor, 2007: 407].
2 Классическое определение Томаса Нагеля звучит следующим образом: «там, где важный аспект человеческого действия зависит от неконтролируемых им факторов, а мы продолжаем воспринимать его в этом отношении как объект морального суждения, можно говорить о моральной удаче и неудаче» [Нагель, 2008: 176]. Предпочтение в статье определения Нелькин связано с акцентом на одном из важных аспектов моральной удачи — обоснованности морального суждения.
3 «When I introduced the expression of moral luck, I expected to suggest an oxymoron» [Williams, 1993: 251].
4 Следствия, выводимые из моральной удачи, идут в разлад с интуитивно приемлемыми условиями морального суждения, которыми мы привыкли руководствоваться: «Человек может быть морально ответственным только за то, что он делает; но что он делает в значительной мере определяется тем, чего он не делает; таким образом, он не несет моральной ответственности за то, за что он ответственен, а за что нет. (Это не противоречие, но парадокс)» [Нагель, 2008: 183–184].
5 Индетерминизм позволяет отрицать причинность, превращающую человека в заводную куклу из музыкальной шкатулки, которая вынужденно застревает в канители однообразного танца. Но независимые от вмешательства человека обстоятельства никуда не исчезают — люди в любом случае непрестанно находятся в тисках неподконтрольного их воле контекста.
6 В своей статье Хури приводит в качестве взаимозаменяемых три понятия: «volitions», «willings» и «tryings», каждое из которых «не отсылает к чему-то метафизическому загадочному. Это действие, понимаемое внутренне; это просто ментальное событие, выражающее агентность» [Khoury, 2018: 1364].
7 О роли мотивов и психологических диспозиций в формировании оценочных суждений см.: [Черняк, 2009].
8 Циммерман использует пример с Георгом, который не убил Хенрика из-за пролетавшей мимо птицы и Джорджем, который убил Генри: «George was in control of more things than Georg (his control had greater scope), but he was no more in control of what happened than Georg was (he was in control to the same degree)» [Zimmerman, 2002: 562]. Критику Циммермана в том, что касается выделения им степени и объема ответственности, предлагает Хури [Khoury, 2018: 1361–1363].
9 См. также статью Майкла МакКенна, который проводит различие между прямой (direct) и деривативной (derivative) ответственностью [McKenna, 2012], и книгу Томаса Скэнлона, который выделяет атрибутивную и субстантивную ответственность [Scanlon, 1998].
About the authors
Kharlampy S. Emeretli
HSE University
Author for correspondence.
Email: kemeretli@hse.ru
ORCID iD: 0000-0001-9782-2390
Postgraduate degree in Philosophy
Russian Federation, 21/4, Staraya Basmannaya str. bldg. 1, Moscow 115054References
- Kant I. Osnovopolozheniya k metafizike nravov [Foundations of the Metaphysics of Morals]. Kant I. Soch. na nem. i rus. yaz.: v 4 t. [Works in German and Russian: in 4 vol.], B. Tushling, N.V. Motroshilova (eds.). Vol. 3. Moscow: Moskovskii filosofskii fond Publ., 1997. P. 39–275.
- Nagel T. Moral’naya udacha [Moral Luck]. Logos. 2008. Vol. 64, N 1. P. 174–188.
- Chernyak A. Moral’naya udacha [Moral Luck]. Logos. 2009. Vol. 70, N 1. P. 151–173.
- Davidson D. Essays on Action and Events: Philosophical Essays Volume 1. Oxford: Calderon Press, 2002.
- Enoch D., Marmor A. The Case Against Moral Luck. Law and Philosophy. 2007. Vol. 26, N 4. P. 405–436.
- Goldman A.A. Theory of human action. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, 1970.
- Khoury C.A. The objects of moral responsibility. Philosophical Studies. 2018. Vol. 175, N 8. P. 1357–1381.
- Levy N. Hard Luck: How Luck Undermines Free Will and Moral. Oxford: Calderon Press, 2009.
- McKenna M. Moral responsibility, manipulation arguments, and history: Assessing the resilience of nonhistorical compatibilism. Journal of Ethics. 2012. Vol. 16, N 2. P. 145–174.
- Nagel T. Moral Luck. Nagel T. Mortal Questions. New York: Cambridge University Press, 1979. P. 24–38.
- Nelkin D.K. Moral Luck. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 19.04.2019 [Electronic resource]. URL: https://plato.stanford.edu/entries/moral-luck/#KinMorAss (date of access: 27.07.2023).
- Scanlon T.M. What we owe to each other. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- Smith A. The Theory of Moral Sentiments, D.D. Raphael, A.L. Macfie (eds.). Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Walker M.U. Moral Luck and The Virtues of Impure Agency. Metaphilosophy. 1991. Vol. 22, N 1/2. P. 14–27.
- Williams B. Moral Luck. Williams B. Moral Luck. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 20–40.
- Williams B. Postscript. Moral luck, ed. by D. Statman. Albany: State University of New York Press, 1993. P. 251–258.
- Wolf S. Moral of Moral Luck. Philosophic Exchange. 2001. Vol. 31, N 1. P. 4–19.
- Zimmerman M.J. Taking Luck Seriously. Law and Philosophy. 2002. Vol. 99, N 11. P. 553–576.