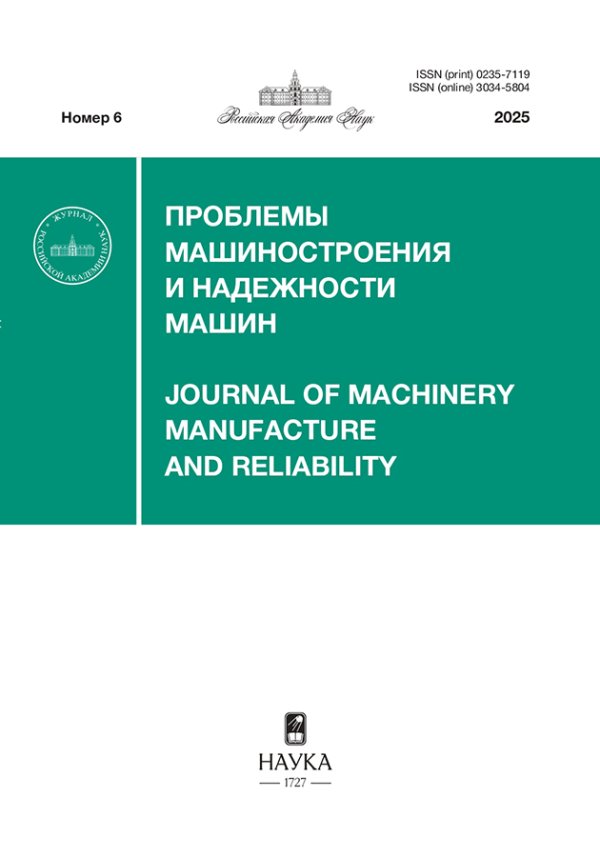Моделирование удара стального шарика об алюминиевую пластину Д16 и сравнение с экспериментом
- Authors: Анисимов А.Г.1, Ахмед Солиман М.Э.1
-
Affiliations:
- Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 79-87
- Section: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0235-7119/article/view/262554
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0235711924010092
- EDN: https://elibrary.ru/SMWQYJ
- ID: 262554
Cite item
Full Text
Abstract
В статье был исследован процесс пробития алюминиевой пластины стальным шариком при скоростях от 600 до 1000 м/c. Проведено численное моделирование удара шарика и выполнено сравнение с результатами экспериментов, в которых шарик ускорялся с помощью порохового ускорителя. Численные модели были разработаны с использованием явного метода конечных элементов МКЭ в программном обеспечении LS-DYNA. Проанализировано влияние свойств материала и параметров модели на процесс пробития. Достигнуто хорошее соответствие между численными и экспериментальными результатами.
Full Text
Использование надежных численных моделей приобрело большое значение там, где невозможно провести испытания поведения материалов в различных конструкциях и сложно получить данные о состоянии материала. В численном моделировании существует множество параметров, которые могут повлиять на результат, таких как состав элементов, тип песочных часов, количество элементов в модели и т. п. [1–5]. При разработке гидрокодов использовались многочисленные экспериментальные данные, полученные в хорошо известных условиях, но всегда необходимо найти правильную конфигурацию между решателем, оптимизацией размера сетки и уравнениями состояния, прочности, разрушения и численной эрозии с их хорошо откалиброванными параметрами. Для моделирования контактного взаимодействия в расчете используется эрозионный тип контакта [6–11]. Выбранный тип характеризуется тем, что контакт между телами происходит по поверхностям.
Конститутивная модель Джонсона–Кука. Материал подвергается высокому напряжению и большой скорости деформации из-за ударов, например, как при попадании снаряда. Процесс деформации материала при таких динамических нагрузках значительно отличается от условий кауси-статистики и низкой скорости деформации. Из-за высокой скорости деформации происходит локальное повышение температуры, которое называется адиабатическим нагревом. Адиабатический нагрев вызывает локальное размягчение материала, и эффект от него выше, чем эффект деформационного упрочнения. Важно выбрать подходящую материальную модель, которую можно использовать для отслеживания этих эффектов во время численного анализа. Модель, разработанная Джонсоном и Куком, учитывает влияние скорости деформации, эффект деформационного упрочнения и температурный эффект поведения материалов при различных скоростных нагрузках. Преимущество использования такой модели заключается в том, что у нее есть несколько альтернативных путей, которые пользователь может использовать в определяющих соотношениях и критериях разрушения материалов, что позволяет с достаточной точностью предсказать физическое поведение при ударе снаряда. При экспериментальном исследовании характеристик разрушения металл подвергается различным деформациям, скоростям деформаций, температурам и давлениям, соответствующим реальному поведению материалов. Модель пластичного материала Джонсона–Кука использовалась для моделирования поведения пластичных материалов при напряжении течения Мизеса. Упрочнение материала алюминиевой пластины Д16 представляет собой особый тип изотропного упрочнения, при котором фон Мизес выражается как функция эквивалентной пластической деформации , эквивалентной скорости пластической деформации и безразмерной температуры T*m:
где А, В, С, т – параметры материала; п – показатель деформационного упрочнения, – нормированная эквивалентная скорость пластической деформации, обычно нормировано на скорость пластической деформации 1.0 с−1, Т*т – гомологичная температура.
Постановка экспериментов. Ускорение стальных шаров проводилось при помощи порохового ускорителя, позволяющего ускорять тела диаметром 5–10 мм до скоростей порядка 1000 м/с. Схема эксперимента представлена на рис. 1. Рассмотрены три постановки экспериментов: 1) проникновение шарика в толстую мишень из Д16AM; 2) проникновение шарика в тонкую мишень из Д16AM (сквозное пробитие); 3) проникновение шарика в тонкую мишень из Д16Т (без пробития).
Рис. 1. Схема проведенных экспериментов: 1 – пороховой ускоритель; 2, 4 – датчики скорости тела до удара по мишени и после; 3 – мишень (Д16AM, Д16Т толщиной 5 мм или 25 мм); 5 – мишень Д16Т толщиной 5 мм.
Скорость тела перед соударением с мишенью v0 измерялась магнитными датчиками 2 до соударения с мишенью и в случае сквозного пробития датчиками 4 скорость v1 после мишени. Точность измерения скорости – 5%. После эксперимента проводились исследования кратера, оставленного на мишени. Для этого мишень разрезали и проводили измерения глубины кратера относительно первоначальной поверхности мишени h0, глубины кратера относительно валика h1, диаметра каверны на уровне первоначальной поверхности Ø0. В случае сквозного пробития мишени (толщиной 5 мм) проводились измерения диаметра отверстия.
Измеренные величины v0, v1 и h0, h1, Ø0 сравнивались с полученными по численной модели. Кроме того, проводилось сравнение формы кратера в эксперименте и в модели.
Проникновение шарика в толстую мишень из Д16AM. Была проведена серия экспериментов по проникновению стальных шариков диаметром Ø = 7–9.5 мм, ускоренных до скоростей V0 = 815–896 м/с, в мишень из Д16АМ. Для численного моделирования таких задач использовалась мишень из материала Джонсона – Кука в виде алюминиевой пластины Д16АМ размером 25 × 30 мм и толщиной 25 мм, состоящая из 25 слоев конечных элементов, закрепленная прижимом за боковые грани. Угол соударения составлял 90° (рис. 2).
Рис. 2. Начальные условия и конфигурация для расчета МКЭ: 1 – снаряд; 2 – мишень.
На рис. 3 представлен график рассчитанных пластических деформаций εp для контрольных элементов.
Рис. 3. График кривых в зонах пластической деформации каверны.
Пластические деформации постепенно увеличиваются от нуля до 0.4 для элемента 339392; 0.16 для элемента 271545 и 0.12 для элемента 382390.
На рис. 4 представлена зависимость скорости шарика от времени в условиях постановки эксперимента № 1. Скорость полета снаряда до удара составляла V0 = 815 м/с, затем в процессе соударения и проникновения в мишень шарик отскакивает со скоростью V1 = −124 м/с и летит с постоянной скоростью.
Рис. 4. Изменение скорости удара шарика во время расчета.
Результаты моделирования показывают, что размер каверны меняется в процессе проникания шарика в преграду, наблюдается несколько пульсаций. На рис. 5 показан поперечный разрез каверны после затухания пульсаций.
Рис. 5. Поперечный разрез каверны после удара шарика (модель).
Диаметр Ø0 каверны после удара шарика определялся при пересечении первоначальной плоскости мишени с каверной. Модельный расчет показывает, что вокруг нижней зоны образуются радиальные трещины, которые также наблюдаются в эксперименте (рис. 6).
Рис. 6. Сравнение результатов моделирования (а) и эксперимента (б).
В табл. 1 приведены диаметр Ø0 каверны, глубина h0 каверны (относительно плоскости мишени) после удара шарика, полная глубина h1 (относительно валика вокруг каверны), полученные при проведении 2 экспериментов и соответствующие численному моделированию. Результаты экспериментов показали хорошее совпадение с численным моделированием и подтвердили правильность последнего.
Таблица 1. Сравнение результатов моделирования с экспериментом для шариков Ø = 9.5 мм и Ø = 7.0 мм
№ | Начальные показатели | Моделирование | Эксперимент | ||||||
Д16AM | |||||||||
Ø, мм | V0, м/c | V1, м/c | Ø0, мм | h1, мм | h0, мм | Ø0, мм | h1, мм | h0, мм | |
1 | 9.5 | 815 | –124 | 10.6 | 10.6 | 8.7 | 10.5 | 11.5 | 8.8 |
2 | 7.0 | 896 | –152 | 8.0 | 8.7 | 6.2 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
Проникновение шарика в тонкую мишень из Д16AM (сквозное пробитие). Была проведена серия экспериментов, в которой шарики Ø = 7 мм (эксперимент № 3) и 9.5 мм (эксперимент № 4), ускоренные до скоростей V0 = 815 и 955 м/с, пробивали пластину. Было выполнено численное моделирование для каждого эксперимента.
Для численных расчетов использовалась мишень, смоделированная с помощью материала Джонсона–Кука в виде алюминиевой пластины Д16AM размером 25 × 30 мм с количеством слоев конечных элементов, равным 20 слоям, с толщиной 5 мм, закрепленной прижимом за боковые грани под углом соударения 90° (рис. 7).
Рис. 7. Начальные условия и конфигурация для расчета МКЭ: 1 – снаряд; 2 – мишень.
На рис. 8 представлен график, на котором показана расчетная скорость шарика для условий эксперимента № 3. Первоначальная скорость полета снаряда до столкновения составляла V0 = 815 м/с, затем, после соударения с пластиной к моменту времени t2 = 2е−2, с, скорость шарика уменьшилась до 580 м/с, и далее он двигался с постоянной скоростью.
Рис. 8. Изменение скорости удара шарика во время расчета.
Проникновение шарика в тонкую мишень из Д16Т (без пробития). На рис. 9 показано сечение мишени после удара стального шарика диаметром 5 мм, двигающегося со скоростью V0 = 392 м/с (эксперимент № 5).
Рис. 9. Сравнение результатов моделирования и эксперимента: модель (а) и эксперимент (б).
На рис. 10 представлен график, результирующий скорость шарика до и после пробития. Скорость полета снаряда до удара составляла V0 = 392 м/с, затем после соударения с пластиной шарик отскочил в момент времени t3 = 4e−5, c, со скоростью V1 = −20.7 м/с и остановился из-за взаимодействия со стенками кратера к моменту времени t4 = 5.44e−5, c.
Рис. 10. Изменение скорости шарика во время удара (расчет).
Результаты моделирования и эксперимента для шариков были объединены в табл. 2.
Таблица 2. Сравнение результатов моделирования с экспериментом при ударе шарика по тонкой мишени
№ | Диаметр шарика | Моделирование | Эксперимент | Диаметр отверстия |
Д16AM | ||||
3 | Ø = 9.5 мм | V0 = 815 м/с | 9 мм | |
V1 = 580 м/с | V1 = 550 м/с | |||
4 | Ø = 6.9 мм | V0 = 955 м/с | 6 мм | |
V1 = 640 м/с | V1 = 700 м/с | |||
5 | Ø = 5 мм | Д16 Т | – | |
V0 = 392 м/с | ||||
V1 = 0 м/с | V1 = 0 м/с | |||
Результаты и их обсуждение. 1. Прогнозы моделирования дают хорошую валидацию с процентной погрешностью примерно в 10%. 2. Проведенное моделирование показало, что модель Джонсона–Кука хорошо работает при больших деформациях и скоростях деформирования, что позволяет рассчитать поля напряжений, деформаций и скоростей в процессе соударения и их зависимость от свойств материала мишени и ее толщины. 3. При моделировании пробития снарядами мишеней с помощью механизма разрушения и увеличения отверстия под давлением модели не разрушаются, но показывают образование маленьких трещин вокруг каверны, которые, по-видимому, имеют незначительное влияние на конечную скорость снаряда. Это также означает, что использование критерия отказа Джонсона–Кука оказывается подходящим. 4. Расчет пластических деформаций εp глубины каверны показал, что центральная зона B подвергается большей деформации, чем верхняя A и нижняя C зоны, и колеблется в пределах 0.2–0.4. 5. Реализация адаптивного сетчатого алгоритма для цели оказалась отличным решением для преодоления проблем с большими деформациями в лагранжевой модели конечных элементов. 6. Численные результаты, полученные с помощью LS-DYNA, хорошо согласуются с экспериментальными результатами и дают возможность эффективно и точно прогнозировать взаимодействие снаряда и мишени при данном диапазоне скоростей соударения.
Вклад авторов. Концептуализация; расследование; написание, подготовка первоначального проекта – М.Э. Ахмед Солиман; написание, рецензирование и редактирование – А.Г. Анисимов. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.
Финансирование. Эта работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 121 121 600 298-7).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
А. Г. Анисимов
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
Email: ahmedsoliman@hydro.nsc.ru
Russian Federation, 630090, Новосибирск
М. Э. Ахмед Солиман
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
Author for correspondence.
Email: ahmedsoliman@hydro.nsc.ru
Russian Federation, 630090, Новосибирск
References
- Diep Q. B., Moxnes J. F., Nevstad G. Fragmentation of projectiles and steel rings using 3D numerical simulations // 21st Intern. Symp. of Ballistics, 19–23 April 2004, Adelaide, Australia.
- Крейнхаген К. Н., Вагнер M. X. и др. Нахождение баллистического предела при соударении с многослойными мишенями // Ракетная техника и космонавтика. 1970. Т. 8. № 12. С. 42.
- Corbett G. G, Reid S. R., Johnson W. Impact Loading of Plates and Shells by Free-Flying Projectiles: A Review // Int. J. Impact Eng. 1996. V. 18 (2). P. 141.
- Littlefield D. L., Anderson C. E. et al. The penetration of steel targets finite in radial extent // Int. J. Impact Eng. 1997. V. 19. P. 49.
- Cockcroft M. G., Latham D. J. Ductility and workability of metals // J. Inst. Met. 1968. V. 96. P. 33.
- Børvik T. et al. Ballistic penetration of steel plates // Int. J. Impact Eng. 1999. V. 22. P. 855.
- Li Y., Fan W., Zhao J. H. et al. Dynamic response study for penetration of medium-low speed projectile on semi-infinite rock targets // Eng. Mech. 2017. V. 34 (9). P. 139.
- Piekutowski A. J., Forrestal M. J. et al. Penetration of 6061-T6511 aluminum targets by ogive-nose steel projectiles with striking velocities between 0.5 and 3.0 km/s // Int. J. Impact Eng. 1999. V. 23 (1). P. 723.
- Littlefield D. L., Anderson C. E. et al. The penetration of steel targets finite in radial extent // Int. J. Impact Eng. 1997. V. 19. P. 49.
- Penetration Modeling with LS-DYNA, Seminar notes, 28–29 November 2012, Stuttgart, Germany.
- LS-DYNA Keyword User’s Manual, May 2014, Version R7.1, Livermore software Technology Corporation (LSTC).
Supplementary files