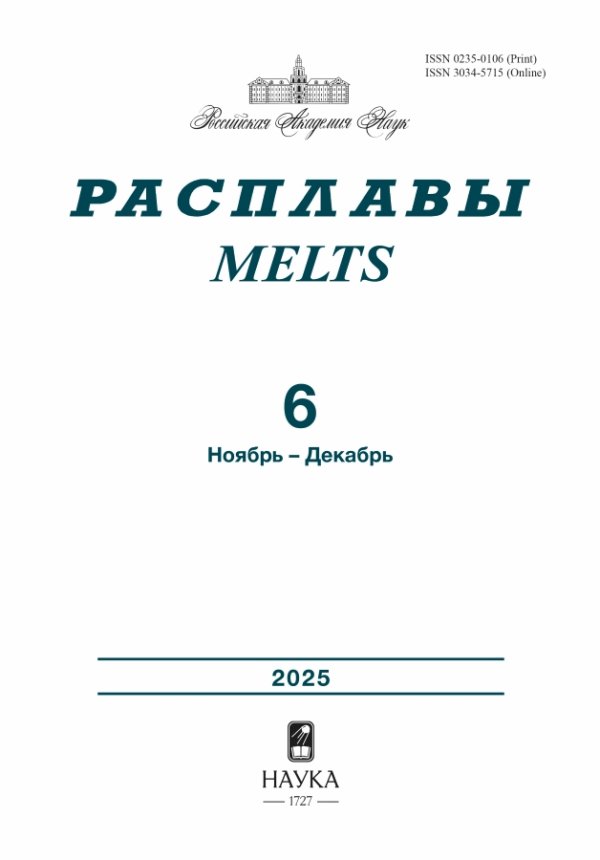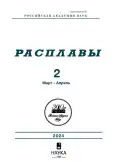Контролируемый синтез наночастиц высокоэнтропийных материалов. Оптимизация традиционных и создание инновационных стратегий
- Авторы: Полухин В.А.1, Эстемирова С.Х.1
-
Учреждения:
- Институт Металлургии УрО РАН
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 115-165
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0235-0106/article/view/259458
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0235010624020014
- ID: 259458
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В последнее десятилетие резко возросло разнообразие высокоэнтропийных материалов (ВЭМ) в том числе за счет расширения исследований в область аморфных, нано- и гетероструктур. Интерес к наноразмерным ВЭМ связан, прежде всего, с их потенциальным применением в различных областях, таких как возобновляемая и «зеленая» энергетика, катализ, хранение водорода, защита поверхности и др. Развитие нанотехнологий позволило разработать инновационный дизайн наноразмерных ВЭМ с принципиально новыми структурами, обладающими уникальными физическими и химическими свойствами. Решаются проблемы контролируемого синтеза с точно заданными параметрами химического состава, микроструктуры и морфологии. При этом происходит модернизация традиционных технологий, таких как быстрый пиролиз, механическое сплавление, магнетронное распыление, электрохимический синтез и др. Наряду с этим появились инновационные технологии синтеза, такие как карботермический удар, метод управляемого спилловера водорода. В обзоре проанализированы методы синтеза наноразмерных ВЭМ для различных применений, которые были разработаны в последние 6–7 лет. Большинство из них является результатом модернизации традиционных способов, а другая группа методик представляет инновационные решения, стимулированные и вдохновленные феноменом ВЭМ.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Ожидается, что многокомпонентные высокоэнтропийные сплавы (ВЭС), которые базируются на стратегии высокой энтропии смешения, станут новыми материалами, критически значимыми во многих промышленных отраслях [1–4]. Первоначально ВЭС определялись как смесь 5 и более элементов с равной или почти равной концентрацией атомных процентов [5], но теперь область составов начинается от 3 основных элементов, а область концентраций может варьироваться в достаточно широких пределах [6]. Существенно увеличилось разнообразие высокоэнтропийных материалов, касающееся структурно-фазового состояния и химического состава. В их число входят мультикомпонентные сплавы, которые содержат несколько основных и несколько дополнительных элементов (Multi Principal Element Allous, MPEA) [6], сложные концентрированные мультифазные сплавы (Compositionally complex alloys, CCA) [7]; в последние годы активно изучаются высокоэнтропийные металлоподобные соединения, в которых металлические связи между атомами металла и неметалла сосуществуют с ионно-ковалентными связями: нитриды, карбиды, бориды, силициды, оксиды [8–11]. Мультикомпонентные объемные металлические стекла (bulk metallic glasses, BMGs), которые начали исследоваться немного раньше, чем ВЭС, получили свое новое развитие в качестве высокоэнтропийных металлических стекол (high-entropy bulk metallic glasses, HE-BMGs).
Особая микроструктура и свойства ВЭС открывают множество потенциальных применений. Первые исследования ВЭС были сосредоточены на изучении механических свойств, предполагая их конструкционное назначение. Путем варьирования химического состава ВЭС, применяя различные методы получения, используя термическую обработку для модификации микроструктуры, достигались требуемые механические свойства, которые соответствовали, а зачастую и превосходили свойства традиционных конструкционных материалов [12]. Затем интерес исследователей охватил обширную область, связанную с защитными покрытиями [2, 13]. В настоящее время растет интерес к ВЭМ с точки зрения функциональных свойств для всевозможных физико-технических и химических применений [14]. Возможность настроить магнитную подсистему открывает перспективы для создания магнитомягких, а также магнитокалорических материалов [15, 16]. Значительное снижение теплопроводности из-за сильного химического беспорядка в ВЭС делает их привлекательными в качестве потенциальных термоэлектрических материалов [17]. Наиболее интенсивные исследования в настоящее время ведутся в областях, связанных с энергетикой: катализ [18], хранение водорода [19], суперконденсаторы [20], электродные материалы аккумуляторов [21], твердотельные электролиты [22] и некоторые другие.
Недавние исследования показали, что при уменьшении размера зерен ВЭС до наноуровня, их свойства критически изменяются, благодаря наноразмерным эффектам (эффекты малого размера, поверхностные, макроскопические квантовые эффекты и т. д.) [3, 4, 23–27]. Наноструктурирование позволяет дополнительно регулировать характеристики ВЭС за счет целенаправленного изменения его электронной структуры, поверхностных свойств, создания внутренних и внешних дефектов кристаллической структуры, настройки морфологии и создания уникального дизайна. Ожидается, что ВЭС могут предложить синергетически улучшенные функциональные возможности для использования их в самых различных областях.
В этом обзоре мы фокусируем внимание на стратегиях синтеза наноразмерных высокоэнтропийных материалов. Большая часть методов базируется на ставших уже традиционными, хорошо отработанных технологиях создания ВЭС; но для создания наночастиц потребовалась их модернизация, особенно, принимая во внимание многокомпонентный, зачастую плохо смешивающийся состав. Другая группа методов разработана совсем недавно целенаправленно под высокоэнтропийные наноразмерные материалы с учетом конкретных композиций и согласно поставленным задачам. В обзоре также затронуты перспективы применения наноразмерных ВЭМ, которые связывают с решением некоторых наиболее острых проблем современного мира.
1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЭС И «ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
Первым, кто использовал концепцию высокой энтропии для объяснения удивительного феномена многокомпонентных твердых растворов с простыми кристаллическими структурами и очень высокой растворимости компонентов в этих структурах, был профессор Yeh в 2004 году [5], который и ввел термин «высокоэнтропийные сплавы» [5]. Согласно классическим правилам Юма-Розери для образования бинарных твердых растворов замещения необходимо, чтобы размеры, валентности и электроотрицательности атомов имели определенные соотношения; энтальпия и энтропия смешения также должны отвечать строгим требованиям [28].
Zhang и др. [29], а также Guo и др. [30] провели обширные исследования влияния этих же параметров при образовании ВЭСов, используя большой статистический объем сплавов, и нашли, что эти требования аналогичны таковым для бинарных сплавов и интерметаллидов. Они подтвердили, что образование простых (ГЦК, ОЦК) фаз ВЭС зависит главным образом от энтальпии смешения (∆Hmix), энтропии смешения (∆Smix) и разницы между размерами атомов (δ). По результатам исследований большого объема данных они сделали следующий вывод. Для образования ВЭС (включая упорядоченные и неупорядоченные фазы) одновременно должны соблюдаться следующие условия: энтальпия смешения должна составлять –22 ≤ ∆Hmix ≤ 7 кДж/моль, разница размеров атомов должна находиться в диапазоне 0 ≤ δ ≤ 8.5%, энтропия смешения должна быть в пределах 11 ≤ ∆Smix ≤ 19.5 Дж/(К·моль) [30]. Эти условия вполне логичны, поскольку большое положительное значение ∆Hmix может послужить причиной фазового расслоения, а слишком большое отрицательное ∆Hmix обычно способствует образованию интерметаллических фаз. Значение δ должно быть достаточно малым, поскольку слишком большая разница размеров атомов приводит к избыточной энергии деформации и дестабилизирует простые структуры. Значение ∆Smix должно быть достаточно большим, поскольку оно является основным стабилизирующим фактором для простых фаз. Для разупорядоченных ВЭС условия их образования более строги: –15 ≤ ∆Hmix ≤ 5 кДж/моль, 0 ≤ δ ≤ 4.3%, 12 ≤ ∆Smix ≤ 17.5 Дж/(К·моль) [29]. Важнейшим критерием образования однофазных ВЭС с простыми структурами является параметр, основанный на конкуренции энтальпии и энтропии: ε = |T∆Smix/∆Hmix| [31]. Большое значение ε предполагает более высокую вероятность формирования однофазного неупорядоченного твердого раствора [31]. Параметром, который используют для предсказания типа кристаллической структуры (ОЦК или ГЦК) является концентрация валентных электронов (valence electron concentration, VEC). Guo и др., исследовав большое количество ВЭС, установили, что когда VEC сплава превышает 8, твердый раствор кристаллизуется в ГЦК структуре, если VEC меньше 6.87 – предпочтительной является ОЦК фаза [32]. Сосуществование фаз ГЦК и ОЦК наблюдается при значениях VEC от 6.87 до 8 [32].
Благодаря обширным исследованиям и систематизации накопленных знаний, свойства и характеристики ВЭС сведены к четырем основным эффектам [7]. Эффект высокой энтропии способствует образованию неупорядоченных твердых растворов в эквимолярных или почти эквимолярных мультикомпонентных сплавах (составах), а также позволяет преодолеть барьер несмешиваемости элементов. Эффект искажения решетки, вызванный большой разницей радиусов атомов, находящихся в эквивалентных позициях, приводит к сильным локальным искажениям решетки, что ведет к ряду следствий: микродеформации тормозят скольжение деформаций, что улучшает механические свойства; на искажениях увеличивается рассеяние фононов, что приводит к уменьшению тепловодности и электропроводности, энергия на поверхности зерен повышается за счет повышенной концентрации дефектов вблизи поверхности, что является важным фактором для усиления адсорбции, активации и конверсии молекул в электрокаталитических процессах [33]. Эффект замедленной диффузии возникает из-за разности конфигураций атомов, которая приводит к вариациям длин связей локального окружения и разнице потенциальной энергии в различных узлах кристаллической решетки. Стремясь занять атомные позиции с наименьшей потенциальной энергией, атомы попадают в ловушки, вследствие чего энергия активации диффузии в ВЭС выше, чем в одно- или двухкомпонентных сплавах. Помимо этого, элементы, имеющие различные скорости диффузии, конкурируют между собой, препятствуя фазовым превращениям, требующим скоординированной диффузии многих атомов [34]. Низкие значения коэффициентов диффузии атомов в ВЭС определяют медленный рост зерен [35] и обеспечивают стабильность фазового состояния. Этот эффект является благоприятным фактором для получения и сохранения нанокристаллического состояния [36]. «Коктейль»-эффект представляет собой синергетическую реакцию, возникающую из-за нескольких разнородных компонентов смеси, конечные свойства которой непредсказуемы и превосходят простую сумму свойств компонентов [37]. В некотором роде «коктейль»-эффект представляет собой совокупность трех первых эффектов: высокой энтропии, искажений решетки и замедленной диффузии, благодаря чему ВЭСы проявляют некоторые неожиданные свойства [38].
Наноразмерные ВЭCы сохраняют уникальные свойства макрокристаллических высокоэнтропийных сплавов [36, 39, 40] и показывают помимо этого ряд дополнительных преимуществ: увеличенная удельная площадь поверхности, более высокая поверхностная энергия и более сильные синергетические эффекты. В ряде случаев наноразмерные ВЭС демонстрируют улучшенные характеристики по сравнению с их макрокристаллическими аналогами. Например, в некоторых работах наблюдали более высокую температуру плавления [41] повышенную прочность [42], более высокую устойчивость к окислению [43].
2. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАНОЧАСТИЦ (НЧ) ВЭМ
Основные стратегии синтеза наночастиц ВЭС можно разделить на две категории: первая категория использует стратегию «сверху вниз», для реализации которой используются объемные слитки или металлические мишени с необходимым фазовым и химическим составом (например, метод дуговой плавки, кристаллизация из расплава). Другая категория использует стратегию «снизу вверх», заключающуюся, в большинстве случаев, в восстановлении прекурсоров металлов (например, солей металлов). Примечательно, что существует разница в стратегиях синтеза обычных и наноразмерных ВЭСов. Крупнокристаллические ВЭСы в основном изготавливается с помощью нисходящей стратегии, такой как дуговая плавка [44, 45], механическое сплавление [46], магнетронное распыление [47], электрохимический метод [48]. Что касается синтеза наноразмерных ВЭС, то для их изготовления применяются как нисходящий, так и восходящий подходы. Нисходящие методы синтеза НЧ-ВЭС более просты в использовании и могут обеспечить высокую продуктивность. Однако полученные НЧ-ВЭС обычно имеют неравномерный гранулометрический состав и широкое распределение по размерам (0.5–20 мкм) [48]. Напротив, стратегия «снизу вверх» (гидротермальный синтез, быстрый пиролиз, «мокрая» химия, электроосаждение и др.) происходит в мягких условиях (< 200°C), что позволяет контролировать размер частиц (2–10 нм), но его выход все же остается далеким от массового производства [48].
Трудности синтеза наноструктурированных ВЭС включают следующие ключевые моменты: надежное регулирование термодинамических и кинетических факторов для гомогенного смешивания различных элементов с разными химическими и физическими свойствами (температура плавления, смешиваемость, потенциал восстановления); сложность контроля размера, состава, формы и фазовой структуры наночастиц из-за агрегации при повышенных температурах [49]. В настоящее время прилагаются большие усилия для создания новых методик создания НЧ-ВЭС и уже накоплен достаточно большой объём инновационных идей и разработок. Далее мы рассмотрим последние разработки технологий синтеза НЧ-ВЭС, которые включают усовершенствованные традиционные методы, а также некоторые новые стратегии синтеза НЧ.
3. ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ СИНТЕЗА НЧ-ВЭС
3.1. Нанокристаллизация металлических аморфных сплавов/стекол
Создание нанокристаллической структуры возможно через аморфный предшественник. В этом случае нанокристаллический материал производится в два этапа: 1) формирование аморфного состояния путем закалки жидкого сплава или прокаткой объемных кристаллических образцов; 2) частичная или полная кристаллизация аморфного сплава путем отжига. В зависимости от целевых свойств конечных ВЭС применяются различные режимы термической обработки. В случае магнитотвердых нанокристаллических материалов необходима полная [50] или почти полная [51] кристаллизация. Для конструкционных и магнитомягких нанокристаллических ВЭС оптимальные механические и магнитные свойства достигаются после частичной кристаллизации аморфных предшественников [52, 53], что означает, что они представляют собой двухфазные материалы, состоящие из кристаллических НЧ и аморфной матрицы [54, 55].
Li и др. получили полностью рекристаллизованный ультрамелкозернистый ВЭС Al0.1CrFeCoNi с обильными двойниками (49.9%) и множественными деформациями с помощью ступенчатой холодной прокатки слитка и последующим кратковременным отжигом при Т = 900оС в течение 1.5, 2.5, 5 и 30 мин [56]. Средний размер зерен составил 580 нм, 1.4 мкм, 2.5 мкм и 4.2 мкм, соответственно времени отжига. Исходный ВЭС был получен методом вакуумной индукционной левитационной плавки чистых металлов и обладал ГЦК-структурой. Было установлено, что двойники и микродеформации эффективно препятствовали скольжению дислокаций, что являлось причиной повышенной прочности и пластичности.
Группа Tripathy и др. получили исходный ВЭС AlCrFe2Ni2 методом дуговой плавки, а затем подвергли его холодной прокатке и дальнейшей термической обработке при 800оС в течение часа [57]. Структура исходного слитка состояла из эвтектических мелких спинодальных областей с фазами ГЦК и ОЦК/B2 с пластинчатой морфологией. После прокатки материал имел ламмеллярную нанокристаллическую структуру, а после кратковременного отжига приобрел ультратонкую микродуплескную структуру с преимущественной ГЦК фазой и средним размером зерна 420 нм. Полученный ВЭС обладал повышенной прочностью на разрыв (1100 МПа) и высоким пределом текучести (∼880 МПа). Улучшение механических свойств авторы связали с ультрамелкозернистой морфологией микродуплекса и оптимальным балансом между мягкой ГЦК и жесткой B2 фазами.
Sun и др. изучили нанокристаллизацию аморфного многокомпонентного сплава Fe74.5Cu1Si13.5B9Al2 (Finemet) в процессе изотермического отжига при Т = 831 К в течение 10, 30, 60 и 120 мин с последующей закалкой в воду [58]. Исходный аморфный ВЭС, был синтезирован методом дуговой плавки из высокочистых элементов, а затем подвергнут спиннингованию в атмосфере аргона со скоростью вращения диска около 50 м/с для получения лент. Кристаллизация аморфных лент происходила в две стадии, которые сопровождались эндотермическими эффектами. Конечный материал представлял собой НЧ (30 нм) с ОЦК-структурой (α-Fe(Si)) и небольшого количества НЧ Fe2B, которые были включены в аморфную матрицу. Испытания показали, что отожжённый аморфно-нанокристаллический сплав имел повышенные показатели твердости и модуля Юнга [58].
3.2. Печной пиролиз
Традиционный метод пиролиза в пиролизных печах широко используется для получения НЧ металлов, благодаря простоте оборудования с большим выходом конечного продукта. Схема синтеза включает импрегнирование зернистых подложек (корунд, углеродные материалы) солями металлов и термическое разложение их в трубчатой печи.
Биметаллические катализаторы чаще всего синтезируют в реакторе, вводя подложку с прекурсорами в горячую зону реактора (пиролиз в неподвижном слое). Однако подобный синтез катализаторов на основе ВЭС может быть применим только при тщательном подборе компонентов, поскольку разница в восстановительных потенциалах может привести к фазовому расслоению. Учитывая это, Li с сотрудниками [56] успешно выполнили синтез НЧ-ВЭС CoCrFeMnNi методом пиролиза нитратов металлов на активированном угле при Т = 1273 К в течение 3 ч. Однофазный ВЭС CoCrFeMnNi кристаллизовался в ГЦК-фазе, имел развитую макропористую структуру с большой удельной поверхностью; средний размер кристаллитов не превышал 89 нм. Полученный катализатор показал отличные каталитические характеристики, сравнимые с катализаторами из благородных металлов.
Gao c коллегами [59] разработали простую стратегию пиролиза в быстро движущемся слое (Fast Moving Bed Pyrolysis, FMBP) для синтеза катализаторов ВЭС, содержащих до 10 металлов (Mn, Co, Ni, Cu, Rh, Pd, Sn, Ir, Pt и Au). В качестве подложек они использовали углеродную сажу, оксид графена, γ-Al2O3 и цеолит (пермутит) (рис. 1). Реакция восстановления проходила при температуре 923 К в течение 5 с. Сплавы представляли собой нанодисперсные ГЦК-ВЭС с узким распределением частиц (около 2 нм). Испытания показали, что пятикомпонентный (FeCoPdIrPt) НЧ-ВЭС обладает высокой активностью (в 26 раз выше, чем у коммерческого Pt/C), и исключительной стабильностью (150 ч) при каталитическом расщеплении воды и выделении водорода.
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки ПБДС для синтеза НЧ-ВЭС [59].
3.3. Метод жидкофазной импульсной лазерной абляции
Метод лазерной абляции использует нисходящую стратегию получения наноразмерных материалов и заключается в облучении и абляции импульсным лазером высокой мощности металлической мишени в жидкой среде. В процессе облучения мишень нагревается, плавится и испаряется. При этом формируются наночастицы диспергированные в жидкой среде изучен [60, 61]. В зависимости от мощности лазера этот метод может обеспечить получение материала со скоростью примерно 1 г в минуту. Этот метод начал использоваться с начала 90-х годов и оказался полезен для получения НЧ-ВЭС (рис. 2) [62, 63]. Как правило, мишени для этого метода изготавливаются из объемных ВЭС, полученных методами дуговой плавки, сплавления или высокотемпературного твердофазного синтеза. Контроль химического состава и структурно-фазового состояния решается путем подбора режимов облучения и типа жидкости.
Рис. 2. Схема процесса лазерной абляции металлов в жидкости для получения НЧ-ВЭС: 1 – емкость с образцом; 2 – металл; 3 – растворитель; 4 – фиксирующий пинцет; 5 – линза; 6 – лазерный луч [63].
Waag и др. достигли высокой производительности (3 г/ч) сверхмалых НЧ-ВЭС CoCrFeMnNi (< 5 нм) со структурой ГЦК при пикосекундном импульсном лазерном облучении в водной среде без использования стабилизаторов [64]. При использовании этанола в качестве жидкой среды производительность уменьшалась в 50 раз. Jahangiri и др. при фемтосекундной импульсной лазерной абляции получили наночастицы (~18 нм) тугоплавкого высокоэнтропийного сплава HfTaTiNbZr с ГЦК структурой [65]. Для определения влияния параметров процесса абляции, они варьировали плотность мощности лазерного импульса (0.1, 0.16 и 0.23 мДж/см2) и типа жидкости (дистиллированная вода, этанол, н-гексан). Система Spectra-PhysicsSpitfireAce генерировала импульсы длительностью 120 фс вблизи длины волны 800 нм при частоте следования импульсов порядка 1 кГц. Наилучшие результаты (отсутствие примесей оксидов металлов, малый размер кристаллитов) были получены при использовании н-гескана в качестве жидкой среды, оптимальная плотность мощности лазерного импульса составила 0.1 мДж/см2.
В исследовании Rawat и др. был использован метод двухэтапной лазерной абляции для синтеза неэквиатомных НЧ-ВЭС Al40(SiCrMnFeNiCu)60 [66]. На первом этапе мишень состава Al40(SiCrMnFeNiCu)60 подверглась абляции в деионизированной воде с использованием наносекундного (8 нс) импульсного лазера с длиной волны 1064 нм и плотностью лазерного импульса 80 Дж/см2. Коллоидный раствор наночастиц, сохранил исходное фазовое состояние (тип B2 AlFe и Cr5Si3). Повторное облучение коллоидного раствора привело к образованию на поверхности наночастиц Cu-Ni нанопреципитата c ГЦК-структурой.
3.4. Механосинтезмонофазных НЧ-ВЭС и гибридных НЧ-ВЭМ в шаровых и вибрационных мельницах
Синтез НЧ-ВЭС в шаровых мельницах. Одним из традиционных методов получения наноматериалов является механическое сплавление порошков-прекурсоров в высокоэнергетической шаровой мельнице. Однако механосинтез требует много времени и сопровождается загрязнениями конечного продукта материалом мелющей гарнитуры, нежелательными фазовыми превращениям и рекристаллизацией. Для предотвращения всех этих процессов, а также для повышения эффективности синтеза, авторы [67] и [68] применили различные способы. Salemi и др. [67] получили однофазный эквиатомный ВЭС CuNiCoZnAl с ГЦК-структурой и размером кристаллитов 15 нм после 50 часов размола с помощью одновременного использования мелющих шаров (закаленная хромистая сталь) различного радиуса (20, 16 и 10 мм). Скорость вращения основного барабана составляла 350 об./мин. Shkodich и др. [68] получили однофазный твердый раствор CoCrFeNiCu с ГЦК-структурой и размером кристаллитов 8 нм в водоохлаждаемой планетарной мельнице в течение 120 мин. Смесь порошков элементарных Co, Cr, Fe, Ni и Cu механоактивировалась в среде аргона с использованием шаров из нержавеющей стали диаметром 7 мм, скорость диска составила 700 об./мин.
Синтез гибридных НЧ-ВЭМ. Метод «энтропийно-управляемой механохимии» был использован для синтеза гибридных высокоэнтропийных материалов на полиметаллическом цеолитовомимидазолатном каркасе (high-entropy zeolitic imidazolate framework – HE-ZIF) [69]. Материалы ZIF представляют собой подсемейство металлоорганических каркасов (MOК), обычно содержащих один или два металла, обладают высокой пористостью, богатым структурным разнообразием, исключительной химической и термической стабильностью и высокой каталитической активностью [70]. Материалы МОК находят применение в самых разнообразных областях: адсорбции, разделение газов, катализ, фотокатализ и др. Бурное развитие высокоэнтропийных материалов побудило создание высокоэнтропийных ZIF. Механохимия оказалась подходящим методом, поскольку не использует высокие температуры, которые приводят к разрушению органического материала. Xu и др. получили гибридный HE-ZIF с помощью измельчения в шаровой мельнице смеси оксидов ZnO, CuO, CdO, Ni(OAc)2, Co(OAc)2 с добавлением избыточного количества 2-метилимидазола в течение 120 мин [69]. Полученный HE-ZIF, содержащий пять металлов (Zn(II), Co(II), Cd(II), Ni(II) и Cu(II)), распределенные случайным образом на органическом каркасе (рис. 3) показал повышенную каталитическую конверсию CO2 в карбонат, по сравнению с материалами ZIF, состоящими из одного или двух металлов. Причиной повышенной каталитической активности авторы считают возникновение синергетического эффекта пятикомпонентного сплава.
Рис. 3. Схема синтеза гибридных НЧ-ВЭС. Конечный высокопористый НЧ-ВЭС состоит из металлических кластеров и органических мостиковых лигандов на цеолит-имидазолатном каркасе с большим количеством активных метало-органических центров (MIM – 2-метилимидазол) [69].
Синтез НЧ-ВЭС в вибрационной мельнице. Принципиально другой способ был разработан Kumar с сотрудниками [71]. Они спроектировали и создали вибрационную одношаровую криомельницу (рис. 4) с диаметром шара 5 см, материал гарнитуры WC. Размольная чаша мельницы располагалась в резервуаре с жидким азотом. Конструкция мельницы обеспечивала низкую температуру внутри мелющей чаши –160 ± 10оС, внутренний объем чаши продувался инертным газом для предотвращения окисления металлов. В качестве прекурсоров использовались три различных ВЭС: два сплава с ГЦК-структурой (Fe0.2Cr0.2Mn0.2Ni0.2Co0.2, Cu0.2Ag0.2Au0.2Pt0.2Pd0.2) и один сплав Fe0.2Cr0.2Mn0.2V0.2Al0.2 с ОЦК-структурой. Все исходные сплавы были приготовлены методом дуговой плавки в атмосфере аргона с последующей гомогенизацией при 1000оС в течение 6 ч. Перед измельчением в мельнице слитки дробились на более мелкие кусочки.
Рис. 4. (а) Схема одношаровой вибрационной криомельницы, изготовленной по индивидуальному заказу; (б) схема формирования НЧ-ВЭС в криогенной мельнице [71].
В результате криогенного измельчения размер кристаллитов составил 4–9 нм при оценке методом просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновский дифракционный анализ дал немного больший диапазон – 19–51 нм.
3.5. Метод дугового разряда
Суть метода дугового разряда (arc-discharge method) заключается в испарении исходного материала посредством дугового разряда между электродами с последующей конденсацией и ростом наночастиц (рис. 5). Традиционно этот метод используется для создания металлических, оксидных и углеродных наноструктур (нанотрубок, фуллеренов) [72, 73]. Mao и др. [74] модифицировали метод дугового разряда для синтеза НЧ-ВЭС, состоящих из пяти и шести элементов (Co, Cr, Cu, Fe, Ni и Al). Авторы изготовили мишени из микрозернистых порошков металлов диаметром 50 мм и толщиной 10 мм, которые поместили на графитовый тигель, служивший анодом. Катодом служила графитовая игла диаметром 5 мм. Испарение мишени проводилось в смеси газов Ar и H2. Наночастицы осаждались внутри камеры в виде сплава с размером частиц 80–180 нм. В данной работе было установлено влияние концентрации Al на эволюцию микроструктуры, коррозионную стойкость и магнитные свойства наночастиц. Для образцов с высоким содержанием Al (8.54 и 15.73 мас.%) микроструктура представляла собой смесь ГЦК и ОЦК фаз, а свежеприготовленные наночастицы демонстрировали типичное магнитомягкое поведение. В то же время, в этих составах снижалась коррозионная стойкость в 10% растворе HCl. Для образца с содержанием Al 2.72 мас.% кроме фазы ОЦК наблюдалась упорядоченная фаза L12 типа M3Al, которая способствует повышению коррозионной стойкости.
Рис. 5. Схема установки для синтеза НЧ-ВЭС методом дугового разряда [73]
Метод дугового разряда использовали Liao и др. [75] для синтеза наноразмерных материалов с фототермическим эффектом, представляющих собой сложные структуры типа ядро-оболочка: НЧ-ВЭС, заключенные в многослойные графитовые оболочки (ВЭС C-НЧ). Цилиндрические мишени, спрессованные из порошков металлов (Fe, Co, Ni, Ti, V, Cr, Mn, Cu), помещались в камеру дуговой плазменной установки и использовались в качестве анода, катодом служили углеродные стержни. Камера заполнялась метаном в качестве реакционного газа. Продолжительность процесса синтеза в дуговом разряде (U = 33 В, I = 230 А) составляла 5–10 мин. Нанокапсулы FeCoNiTiVCuC, FeCoNiTiMnCuC и FeCoNiVMnCuC были представлены однофазными ГЦК ядрами, тогда как Cr-содержащие составы формировали двухфазные ГЦК и ОЦК частицы. Средний размер наночастиц составлял 20–30 нм, а толщина углеродной оболочки 2–3 нм. В образце с наибольшим количеством элементов FeCoNiTiVCrMnCuC скорость испарения и эффективность преобразования энергии при одном солнечном облучении достигла практически значимых величин 2.66 кг∙м-2ч-1 и 98.2% соответственно.
Интересные результаты получили Bai с сотрудниками [76] при исследовании коррозионных свойств НЧ-ВЭСFeCoNiTiCu, полученного методом дугового разряда. Цилиндрическая мишень была спрессована из порошков металлов и подвергнута испарению в камере, заполненной водородом. Процесс синтеза занял 5–6 минут, в результате чего был получен НЧ-ВЭС с ГЦК структурой и размером частиц 93 нм. Исследовании эволюции материала при окислении в условиях нагрева на воздухе показало, что элементы начинают окисляться в следующем порядке Fe, Co, Ni и Cu. При этом обнаружилось, что НЧ трансформируются в структуры ядро/оболочка и полые структуры при различных температурах отжига.
3.6 Метод искрового разряда
Методика искрового разряда (spark discharge method) была разработана для получения наночастиц золота авторами [77], и позже адаптирована для синтеза наночастиц ВЭС [78]. Этот метод не требует сложного и дорогостоящего технического оборудования и позволяет получить наночастицы размером до 20 нм. Метод использует нисходящую стратегию получения наноматериала и основан на испарении поверхности электродов под воздействием разрядного тока, с последующей конденсацией паров и образованием наночастиц. В качестве электродов Wu и др. [78] использовали слитки ВЭС, полученные методом вакуумно-дуговой плавки в атмосфере аргона. Искру мощностью 500 Вт импульсами по 50 мкс генерировали с использованием источника постоянного тока между двумя движущимися друг к другу электродами цилиндрической формы 3 и 10 мм. Процесс проводился в резервуаре с дистиллированной деионизированной водой. Когда расстояние между двумя электродами достигало примерно 1 мм, появлялась искра и происходило испарение материала электрода (рис. 6). При этом атомы разных элементов испарялись и снова конденсировались в наночастицы, диспергированные в воде с образованием коллоидных суспензий. Чтобы избежать агломерации и сохранить НЧ в виде суспензии, в коллоидный раствор добавляли поливинилпирролидон (ПВП). Используя этот метод, Wu и др. [78] получили НЧ-ВЭСCoCrFeNiPt и CoFeNiCr0.5Pd0.8 размером ~ 20 нм, которые можно использовать в качестве катализаторов.
Рис. 6. Схема синтеза НЧ-ВЭС методом искрового разряда на постоянном токе [78].
Feng и др. сообщили, что искровая плазма позволяет контролировать состав наночастиц ВЭС путем смешивания паров различных металлов. Благодаря простоте смешивания полученные наночастицы представляют собой однородную однофазную структуру и могут применяться для аддитивного производства. Feng c коллегами синтезировали стабильные наночастицы ВЭС (<5 нм) путем закалки паровой смеси, содержащей различные металлические элементы (скорость закалки: 107–109 К∙с-1). Путем направленного потока воздуха и осаждения на поверхность был успешно синтезированы трехмерные наноструктурные бинарные FePd, трехкомпонентные IrCuPd, четырёхкомпонентные AuAgCuPd, пятикомпонентные NiCrFeCuPd и шестикомпонентные NiCrCoMoCuPd (всего 55 сплавов) со случайным элементным составом [79].
3.7 Методы «мокрой» химии
«Мокрая» химия (wet chemical methods) – это совокупность методов получения нано- и ультрадисперсных неорганических порошков из водных и неводных растворов путем совместного восстановления солей металлов. Метод реализует восходящую стратегию и может включать несколько стадий, включая нагрев (сольвотермический синтез). Процесс синтеза может занимать от нескольких часов до нескольких дней, поскольку химические реакции проводятся при низких температурах. До начала активных исследований ВЭС составы большинства синтезированных традиционными методами «мокрой» химии сплавов, не содержали больше трех различных металлов [80]. Для синтеза НЧ-ВЭС возникла необходимость усовершенствовать метод за счет вспомогательных стадий. Первыми попытку синтезировать НЧ-ВЭС предприняли Singh и др. [81] в 2015 году. Авторы сообщили о синтезе ВЭС FeCoCrCuNi с ГЦК структурой и сферической формой наночастиц размером ~26 нм. Хлориды металлов смешивали в бензиловом эфире и восстанавливали поэтапно при нагреве до 250оС в атмосфере аргона, сначала добавляя олеиновую кислоту и олеиламин, затем супергидрид (LiBEt3H). Синтез ультрамелких (<10 нм) однофазных НЧ-ВЭС является сложной задачей не только из-за большой разницы в химических и физических свойствах смешивающихся элементов. Для предотвращения агломерации наночастиц требуется использование стабилизирующих агентов.
Feng и др. [82] разработали синтез сверхмалых НЧ-ВЭС NiCoFePtRh со средним размером 1.68 нм. Синтез состоял из двух стадий. На первой стадии 7-, 6- и 4-водные сульфаты Fe, Ni, Co, Rh и Pt растворяли растворе серной кислоты в камере, наполненной аргоном, добавляли сажу, насыщенный водный раствор боргидрида натрия. Затем полученные прекурсоры переносили в трубчатую печь и восстанавливали в токе H2/Ar при 350оC в течение 3 часов до получения композита НЧ-ВЭС/C (5 мас.%). Композиты показали чрезвычайно высокие каталитические характеристики для электрокаталитического производства водорода.
Wu и др. [83] сообщили получении НЧ-ВЭС, который содержал пять металлов платиновой группы (Ru, Rh, Pd, Ir и Pt), с помощью простого однореакторного полиольного синтеза, в котором в качестве восстановители и, одновременно, растворителя использовался триэтиленгликоль. Полученные НЧ-ВЭС IrPdPtRhRu с различным соотношением металлов имели ГЦК структуру со средним диаметром частиц 5.5 нм. Полученные катализаторы показали гораздо более высокую каталитическую активность в реакции выделения водорода в кислых и щелочных растворах, чем монометаллические НЧ и коммерческие Pt/C-катализаторы. Кроме того, они продемонстрировали более высокую стабильность.
Сверхмалые частицы ВЭС для электрокаталитического окисления этанола синтезировала группа Jin и др. [84] простым одноэтапным методом без использования поверхностно-активных веществ для стабилизации частиц. Прекурсоры металлов Pt, Pd, Cd, Zn растворяли в олиеламине, к раствору добавляли восстановитель – глюкозу, обрабатывали ультразвуком в течение 1 часа, затем нагревали до 250оС и выдерживали при этой температуре в течение 9 часов. После промывки и центрифугирования были получены НЧ-ВЭС PtPdCdZnCo (НЧ= ~2.6 нм) со структурой ГЦК, который показал сверхвысокую массовую активность (2.86 и 11.1 А в кислой и щелочной средах соответственно). Повышенная активность катализатора объясняется оптимизированным составом за счет введения других элементов (помимо Pt), работающих как каталитические центры, благодаря синергетическому эффекту ВЭС.
С помощью одноэтапного метода «мокрой» химии группа Wei с сотрудниками [85] создали НЧ-ВЭС PtCoMoPdRh размером 2.0–2.4 нм с удивительной морфологией которой они дали название «эластичные наноцветы» (рис. 7). Авторы исследовали роль металлов в формировании «наноцветов» PtCoMoPdRh и установили, что Pd играет ключевую роль в формировании пятикомпонентного ВЭС, а Mo способствует образованию «наноцветов». Эффект скручивания «лепестков» «цветка», показанный на рис. 7 объяснен деформацией сжатия и растяжения вдоль кристаллографического направления (111) на 9.6 и 8.3 % соответственно относительно периода ГЦК решетки Pt, что является следствием многокомпонентности сплава. «Наноцветы» PtCoMoPdRh показали отличную каталитическую активность в реакции выделения водорода в щелочном электролите с массовой активностью 16.64 А , что в 6.38 раза выше, чем у коммерческого Pt/C. Экспериментальные результаты в сочетании с теоретическими расчетами показывают, что снижение энергетических барьеров диссоциации воды и облегчение адсорбции H в основном объясняются наличием нескольких.
Рис. 7. Изображение микроструктуры НЧ-ВЭС PtCoMoPdRh, имеющей вид «эластичного наноцветка», полученное с помощью высокоугловой кольцевой сканирующей просвечивающей электронной микроскопии в темном поле (high-angleannular dark-field scanning transmission electron microscope, HAADF-STEM) [85]
3.8 «Мокрая» химия с применением ультразвука
В отличие от традиционных методов «мокрой» химии, Liu и др. [80] использовали ультразвук (УЗ) для производства сверхмалых НЧ-ВЭС при облучении суспензии, содержащей прекурсоры ВЭС. Акустическая кавитация, возникающая в процессе ультразвуковой обработки, способна мгновенно генерировать огромную энергию и давления (Т~5000оС, P~ 2000 атм) в короткие промежутки времени (10–9 с) в локализованных микроскопических областях жидкости. Авторы синтезировали НЧ с размером частиц ~3 нм трех составов ВЭС: пятикомпонентного PtAuPdRhRu, четырехкомпонентного PtAuPdRh и трехкомпонентного PtAuPd. В качестве прекурсоров были использованы K2PdCl4, HAuCl4, H2PtCl6, RuCl3 и RhCl3, которые растворяли в эквимолярных количествах в этиленгликоле с добавлением расчетного количества углеродного носителя X-72 (сажа). Смесь подвергали ультразвуковому воздействию мощностью 750 Вт и частотой 20 кГц в течение 10 минут. Отфильтрованные и высушенные осадки представляли собой аморфные НЧ-ВЭС на углеродной основе, которые затем прокаливали в атмосфере N2 при 500 или 700оC в течение 2 часов для получения стабильных нанокатализаторов ВЭС НЧ/С. Полученные нанокатализаторы обладали повышенной электрокаталитической активностью в реакции выделения водорода, что объяснялось высокой энтропией ВЭС и сильным синергетическим эффектом.
Okejiri и другие [86] также использовали УЗ для синтеза высокоэнтропийного нанокатализатора AuPdPtRhRu с использованием спиртовых ионных жидкостей (рис. 8). Прекурсоры, углеродная основа и режимы ультразвуковой обработки были аналогичными тем, что применялись в [80], за одним исключением: авторы [86] получили AuPdPtRhRu/С без последующего прокаливания. Катализатор продемонстрировал превосходные каталитические характеристики для селективного гидрирования фенола в циклогексанон и превосходную производительность. Эта же группа использовала УЗ для синтеза высокоэнтропийных оксидов CeHfZrSnErOx со структурой флюорита для стабилизации нанокластеров благородных металлов в архитектуре ВЭО [87]. Полученный катализатор Pd/CeHfZrSnErOx продемонстрировал хорошие каталитические характеристики при окислении CO, превосходя традиционный катализатор Pd/CeO2 [87].
Рис. 8. Схема синтеза нанокатализаторов на основе ВЭС с помощью «мокрой» химии с применением УЗ и спиртовой ионной жидкости [86].
Кekha с сотр. [88] разработали двухэтапный способ получения НЧ-ВЭС/графен с антикоррозийными свойствами с использовали УЗ. На первом этапе порошок графита высокой чистоты механически измельчали совместно с порошками металлов (Ni, Cr, Co, Cu, Fe) в среде толуола в течение 80 часов в шаровой мельнице с гарнитурой из хромистой стали для получения механической высокодисперсной смеси металлов и графита. Затем этот композит обрабатывали ультразвуком в растворе спирта и лаурилсульфата натрия в течение 2 часов для синтеза твердого раствора ВЭС и эксфолиации графита. Различными методами анализа было установлено, что композит представлял собой графен с декорированными на нем НЧ-ВЭС NiCrCoCuFe с ГЦК структурой. Испытания показали, что композит обладает превосходной коррозионной стойкостью и может быть использован в качестве защитного покрытия.
3.9 Темплатные методы
Темплатные методы являются простым и эффективным решением синтеза нанокомпозитных материалов размером, морфологией, структурой и архитектурой которых можно эффективно управлять. Преимуществами являются также простота и дешевизна оборудования, а также относительно высокие скорости химических реакций. Методом хорошо зарекомендовал себя при синтезе наноматериалов в виде нанопроволок, нанолент, нанотрубок, нанолистов и других наноструктур, используемых в катализе, фотокатализе, адсорбции разделении газов. Процесс синтеза включает в себя следующие основные этапы: 1) приготовление жесткого темплата; 2) введение прекурсоров в жесткий темплат; 3) удаление жесткого темплата. В последние годы темплатные методы получилиновый импульс для дальнейшего развития при создании НЧ-ВЭС.
Массивы нанотрубок из пятикомпонентного сплава PdNiCoCuFe методом темплатного электроосаждения были получены Wang с сотр. [89]. Синтез включал 3 стадии: 1) электроосаждение ZnO на титановую подложку в растворе нитрата цинка и нитрата аммония (создания массива наностержней ZnO), электроосаждение сплава PdNiCoCuFe из хлоридов Pd, Fe, Co, Cu и Ni на поверхность наностержней; 3) растворение наностержней ZnO в растворе щелочи NaOH (рис. 9). Внутренний диаметр, толщина стенок и длина полученных нанотрубок сплава PdNiCoCuFe составили 300–400 нм, 150 нм и 1.8 мкм соответственно. Нанотрубки показали превосходную каталитическую активность и долговременную стабильность цикла электроокисления метанола, что было объяснено с точки зрения синергетического эффекта ВЭС [89].
Рис. 9. Схема изготовления нанотрубок ВЭС PdNiCoCuFe методом темплатногоэлектроосаждения [89].
Группа Huang и др. [90] разработалитемплатный метод получения электрокатализаторовдля разложения воды или кислородсодержащих сред для получения кислорода. Катализаторы представляли собой наностержни из пятикомпонентного ВЭС MnFeCoNiCu, выращенные на поверхности углеродной ткани. В качестве прекурсоров были использованы пятикомпонентные МОК выращенные в форме наностержней диаметром около 200 нм на поверхности углеродной ткани (темплат) сольвотермическим методом. Исходными металлсодержащими соединениями были (Mn(NO3)2·4H2O, Fe(CO2CH3)2, Co(NO3)2·6H2O, Ni(NO3)2·6H2O, Cu(NO3)2·3H2O), в качестве растворителя использовалась 2,5-дигидрокситерефталевая кислота. Последующий пиролиз в атмосфере H2/Ar при контролируемой температуре 350оС и 450оС и времени 1 и 2 часа для каждой стадии соответственно привел к образованию однофазных наночастиц ВЭС (MnFeCoNiCu) размером менее 5 нм. Наночастицы представляли собой ГЦК кристаллы с большой концентрацией различных дефектов кристаллической решетки (двойники, дислокации, дефекты упаковки), что способствовало повышению их каталитической активности. Исследование электрокаталитических свойств показало не только высокую каталитическую активность при разложении водного щелочного раствора, но и высокую долговечность по сравнению с биметаллическими наносплавами (CoNi, FeNi, FeCo, MoNi), а также тройными наносплавами (IrNiCo, NiCoFe) [90].
Tzukamoto и др. [91] использовали в качестве темплатафенилазометиновый дендример для получения «субнанокластеров» ВЭС состава Ga1In1Au3Bi2Sn6. Соли металлов (GaCl3, InBr3, AuCl3, BiCl3, SnBr2) осаждались на иминных центрах дендримера PyTPM-G4 с образованием комплекса дендримера с пятью солями металлов (GaCl3)1(InBr3)1(AuCl3)3(BiCl3)2(SnBr2)6@PyTPM-G4, а затем восстанавливались с помощью NaBH4 (рис. 10). В результате были получены «субнанокластеры» размером ~ 1 нм. Авторы подчеркивают, что матрица дендримера способствует синтезу многокомпонентых субнанокластеров, позволяет контролировать их размер и подавляет агрегацию. Анализ энергии связи элементов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) позволил сделать вывод о наличии гибридизации атомных орбиталей, что, по мнению авторов, делает возможным синтез мультикомпонентных сплавов.
Рис. 10. Схема темплатного синтеза «субнанокластеров» ВЭС с использованием дендримера [91].
Li с сотрудниками [92] предложили «синергетическую стратегию сдерживания» для контроля роста НЧ-ВЭС FeCoNiCuPd во время нагрева до 1273 К. В качестве подложки (темплата) был выбран двумерный мезопористый нитрид углерода (C3N4), на который были нанесены прекурсоры металлов. Регулярные ароматические гетероциклы C–N служили координационными центрами для закрепления прекурсоров металлов и предотвращения роста кристаллитов. Затем этот гибрид был покрыт слоем полидофамина, чтобы еще больше ограничить рост наночастиц во время процесса нагрева. Анализ методом просвечивающей электронной микроскопии показал, что наночастицы FeCoNiCuPd диаметром около 150 нм были равномерно диспергированы на ультратонких углеродных нанолистах. Усиление электрокаталитических характеристик авторы объясняют синергетическим эффектом мультикомпонентного сплава.
Zhu и др. [93] получили НЧ высокоэнтропийного сплава FeCoNiCuPd на обогащенных азотом мезопористых углеродных нанолистах (nitrogen-richmesoporous carbon, mNC) методом межфазной самосборки. Синтез включал два ключевых этапа: 1) подготовка органо-неорганических композитов с гомогенным распределением атомов металлов; 2) термообработка композита в атмосфере NH3 или N2 (рис. 11).
Рис. 11. Схема синтеза структурно упорядоченных НЧ-ВЭС на двумерных мезопористых углеродных нанолистах, богатых азотом (mNC) и рентгеновские дифрактограммы исходного неупорядоченного ВЭС-mNC и упорядоченного ВЭС-mNCcatalysts [93].
В раствор диблок-сополимеров PEO-b-PMMA (polyethyleneoxide-b-polymethylmethacrylate, полиэтиленоксид-полиметилметакрила) в тетрагидрофуране при добавлении H2O и этанола, происходило образование мицелл PEO-b-PMMA; в этот же раствор добавляли дофамин и соли металлов, которые реагировали между собой с образованием комплѐкса Me-катехоламин (metal–catecholamine, MС); в результате взаимодействия между мицеллами PEO-b-PMMA и MС образовался композита MC/PEO-b-PMMA. Затем этот композит осаждали на листах оксида графена (ГО). При этом частицы композита не только закрепились на поверхности ГО за счет электростатического притяжения, но и продолжили рост вокруг мономицелл образуя непрерывную сеть на поверхности ГО. После отжига полученного слоистого материала в атмосфере NH3 или N2 при температуре 750оС авторы наблюдали наночастицы ВЭС FeCoNiCuPd на двумерном мезопористом углеродном сэндвич-каркасе, обогащенном азотом. Интересно, что ВЭС с неупорядоченной ГЦК-фазой формировалсяпри отжиге в атмосфере N2. При отжиге в атмосфере аммиака на поверхности углеродных нанолистов формировался упорядоченный ВЭС со сверхструктурой L12. Анализ показал, что в этой фазе упорядочиваются атомы Fe, Co, Pd и Cu, в то время как атомы Ni распределены по всей решетке случайным образом. Исследования каталитического восстановления кислорода показали, что наночастицы с упорядоченным ВЭС демонстрируют значительно улучшенные каталитические характеристики, высокую долговечность по сравнению с неупорядоченным ВЭС и коммерческие катализаторы Pt/C.
3.10 Микроволновый нагрев
Микроволновой (МК) нагрев – это нагрев материала за счет преобразования электромагнитной энергии в тепловую, в результате которого порошки уплотняются и спекаются с получением сплавов. По сравнению с традиционным спеканием метод МК спекания обладает многими преимуществами, такими как низкое энергопотребление, высокая скорость нагрева, короткое время спекания (в том числе за счет улучшения процессов диффузии элементов), замедленный рост зерен.
Танг и др. [94] разработали новый двухстадийный метод синтеза катализаторов на основе ВЭС, последняя стадия которого включала МК облучение. На первой стадии порошки Co, Cr, Fe, Ni и Mo механически активировались с помощью планетарной шаровой мельницы в течение 6 часов при скорости 250 об/мин. Затем к смеси добавляли порошок Mg в качестве агента, способствующего образованию пор, и перемешивали еще 2 часа. Полученную смесь прессовали в цилиндры, помещали в диэлектрический контейнер и спекали с помощью микроволнового нагрева в течение 20 мин в атмосфере аргона для предотвращения окисления. Спекание проходило с частотой 2.45 ГГц и мощностью 5 кВт; скорость микроволнового нагрева до 950оC составила 20–30 оC/мин. В процессе спекания магний испарялся, оставляя развитую пористую структуру ВЭС (рис. 12). Полученный катализатор Co35Cr15Fe20Ni20Mo10 имел ГЦК структуру и содержал многочисленные дефекты упаковки и двойники. Дефектность увеличивала удельную активную поверхность катализаторов, обеспечивала большое количество активных центров, благодаря чему ВЭС Co35Cr15Fe20Ni20Mo10 показал превосходные каталитические характеристики электрохимического расщепления воды и выделения кислорода. Та же группа в работе [95] наблюдала образование фосфатов Co и Ni с морфологией «наноцветов», выращенные in situ на пористом высокоэнтропийном сплаве CoCrFeNiMo, который был получен методом, подобным тому, что был применен в [94]. Фосфаты металлов, по мнению авторов, могут способствовать образованию гидроксидов с высокой каталитической активностью на поверхности катализатора.
Рис. 12. Схема процесса приготовления пористого НЧ-ВЭС CoCrFeNi методом микроволнового нагрева [95].
Qiao и др. [96] разработали метод синтеза наночастиц ВЭС МК спеканием с использованием подложки частично восстановленного оксида графена (ВОГ), которая обеспечивала равномерный нагрев прекурсоров. Прекурсоры, которые представляли собой соли металлов, растворяли в деионизированной воде и перемешивали. Смесь наносили на пленку оксида графена, высушивали и герметизировали в стеклянной емкости, наполненной аргоном, и подвергали МК нагреву в течение 10 с. Именно благодаря ВОГ, который из-за большого количества дефектов способен эффективно поглощать МК излучение, температура в композите достигала 1850 К. Такие условия позволили за несколько секунд получить НЧ-ВЭС PtPdFeCoNi со средним размером зерна ~12 нм. Более низкие температуры генерировались при использовании альтернативных углеродных подложек, таких как углеродные нановолокна и трехмерная карбонизированная древесина (>1400 К).
Группа Nair и др. [97] разработала износостойки покрытия на основе ВЭС различных составов AlxCoCrFeNi (x = 0.1–3), используя метод МК гибридного нагрева и исследовала их трибологические характеристики. Предварительно подготовленная смесь порошков Al, Co, Cr, Fe и Ni была нанесена на нержавеющую сталь 316L, помещена в корундовый тигель, который был покрыт графитовым листом, и установлена в микроволновую печь, работающую на частоте 2.45 ГГц и мощности 900 Вт. Максимальная температура составила 1560оС, скорость нагрева – 3.2 оC/с, продолжительность облучения – 8 минут. В результате получили три однофазных сплава с различным заданным содержанием Al, которые имели хорошую связь с подложкой. При увеличении содержания Al наблюдался фазовый переход от ГЦК к ОЦК структуре с выделением интерметаллидных фаз по границам ячеистых зерен (σ и В2). Покрытия из ВЭС продемонстрировали превосходную стойкость к разрушению при различных трибологических воздействиях.
МК спекание было успешно применено при синтезе высокоэнтропийных оксидов [98] и антимонидов [99], разрабатываемых в последние годы в качестве электродного материала в аккумуляторах и суперконденсаторах. Высокоэнтропийные материалы, такие как оксиды, антимониды и др. представляют собой твердый раствор с простой кристаллической структурой (ОЦК, ГЦК), образованной множеством катионов с примерно равным молярным соотношением. Атомы каждого элемента в твердом растворе случайным образом занимают эквивалентные позиции кристаллической решетки, так что расположение атомов в дальноупорядоченных и ближнеупорядоченных состояниях демонстрирует уникальную химическую и физическую сложность. Кроме того, высокая энтропия может стабилизировать кристаллическую структуру и препятствовать фрагментации и разрушению кристаллов во время зарядки и разрядки; высокая энтропия способствует увеличению реакционоспособности активных центров, что улучшает обратимую емкость накопителя энергии и, таким образом, обнаруживает более высокую плотность энергии.
Синтез оксида (Mg, Cu, Ni, Co, Zn)O [98] и антимонида NiCoFeZnSb [99] выполняли спеканием прекурсоров (нитраты, тригидраты, хлориды) растворенных в этаноле или деионизированной воде, в микроволновой печи при мощности 850–1000 Вт в течение 3 минут (рис. 13). Высокоэнтропийный оксид имел структуру каменной соли со средним размером частиц 44 нм [98]. Он продемонстрировал замечательную обратимую емкость более 250 мА/г при плотности тока 5 А/г и превосходное сохранение емкости более 98% после 1000 циклов при 1 А/г [98]. Антимонид NiCoFeZnSb имел гексагональную структуру P63/mmc с размером зерна 10–100 нм [99]. Его емкость составила 1850 Кл/г, а долговечность цикла – 82.0% после 10 000 циклов.
Рис. 13. Схема синтеза НЧ-ВЭО (Mg, Cu, Ni, Co, Zn)O с помощью микроволнового облучения [98].
Метод микроволнового спекания использовался в ряде работ для получения улучшенных механических характеристик композитов, содержащих ВЭС [100, 101]. Wang и др. получили гибридные композиты, которые представляли собой алюминиевую матрицу, армированную микро- и наночастицами Al2O3 (0–14 мас.%) и FeCoNiCrMn (ВЭС) (15 мас.%), которые, как было установлено, синергетически замедляли распространение межфазных трещин [100]. Gao и др. синтезировали мелкозернистый высокопрочный композит FeCoNi1.5CrCu/Al, представляющие собой алюминиевую матрицу, армированную FeCoNi1.5CrCu [101]. Между частицами ВЭС и матрицей образовался атомно-диффузионный слой со структурой твердого раствора ОЦК, который прочно связывал матрицу с арматурой.
Сверхбыстрая скорость (несколько минут), низкая температура, способность обеспечить наноразмерное состояние, высокая чистота продуктов в сочетании с низкой стоимостью затрат делают микроволновое спекание отличным методом синтеза широкого круга высокоэнтропийных материалов.
3.11 Методы напыления
Методики напыления используют стратегию «сверху вниз» и широко используются в качестве нанесения защитных покрытий. Процесс напыления происходит конденсацией из паровой (газовой) фазы на подложку (physical vapor deposition, PVD), а фазовое состояние и толщина покрытий контролируется технологическими режимами и техническими характеристиками оборудования. При напылении используется электрически возбужденная газовая плазма в вакуумной системе. Ионы в плазме ускоряются к катоду, который при бомбардировке катода (мишени) выбивает из ее поверхности нейтральные атомы. Эти атомы с высокой кинетической энергией переносятся на поверхность подложки и конденсируются на ней, в конечном итоге образуя тонкие пленки или металлические наночастицы. Методики PVD были разработаны ранее для производства металлических, биметаллических, нитридных и др. покрытий. Производство покрытий из ВЭС потребовало модернизации существующих методик, которые получили название комбинаторных. Впервые комбинаторный метод был предложен Konig с сотрудниками [102] и заключался в совместном распылении двух элементарных мишеней, расположенных напротив друг друга. Угол наклона мишени в 28о по отношению к нормали к подложке приводил к приблизительно линейному градиенту состава на подложке (рис. 14).
Рис. 14. Слева: схема комбинаторного совместного осаждения из двух распыляемых мишеней на подложку с массивом полостей, заполненных ионной жидкостью (ИЖ). Справа: Схема предполагаемого процесса формирования НЧ в ИЖ [102].
Shi и др. [103] использовали комбинаторную методику магнетронного совместного распыления двух мишеней: эквиатомного состава CoCrFeNi и чистого Al для создания библиотеки ВЭС составов Alx(CoCrFeNi)100-x (x = 4.5–40). Бомбардировка ионами Ar+ продолжалась в течение 2 минут для очистки, 60 мин для распыления мишеней и 2 минуты для удаления окисленных поверхностных слоев. Толщина покрытия составляла ~ 240 нм при скорости распыления около 4 нм/мин. Рентгенографическим и микроскопическими анализами было установлено, что с увеличением содержания Al кристаллическая структура ВЭС переходит от ГЦК к ОЦК модификации. Морфология пленок представляла собой цилиндрические столбики около 20–30 нм, содержащими обширные дефекты упаковки. С увеличением содержания Al ширина столбцов увеличивается до 30–40 на, а морфология меняется на наклонные цилиндры. Также с увеличением Al ухудшаются коррозионные свойства пленок.
Schwarz и др. [104] использовали комбинаторную методику для изготовления серии ВЭС CoCrFeNi1–x(WC)x магнетронным напылением двух мишеней: эквимолярного CoCrFeNi и карбида вольфрама WC. Варьированием мощности осаждения обеих мишеней регулировалось содержание WC (до 17–18 ат.%). Рентгенографический анализ подтвердил образование однофазного ВЭС с ГЦК структурой. С увеличением содержания вольфрама твердость по Виккерсу монотонно возрастала от (651±20) HV до (1108±34) HV. При этом размер зерна увеличивался от (20±8) нм до (353±28) нм.
Cheng с сотрудниками [105] получил тугоплавкие НЧ-ВЭС (TiZrHf)x(NbTa)1–x с ОЦК структурой и размером частиц 21–33 нм с помощью комбинаторной стратегии магнетронного распыления двух мишеней составов TiZrHf и NbTa. По мере увеличения x модуль упругости уменьшался от 153 до 123 Гпа, а твердость сначала снижалась с 6.5 ГПа (x = 0.07) до наименьшего значения (4.6 ГПа, x = 0.48), а затем увеличивалась до максимального значения (7.1 ГПа, x = 0.90). Вопрос о причине такой тенденции остался открытым.
Loffler и др. [106] успешно применили методику комбинаторного совместного магнетронного распыления одиночных мишеней для создания катализаторов восстановления кислорода, не содержащих благородные металлы. Высокая активность катализаторов достигалась высокоэнтропийной природой и синергетическим эффектом мультикомпонентных ВЭС Cr–Mn–Fe–Co–Ni, также известных как «канторовские сплавы» [107]. В качестве технологического газа использовался высокочистый Ar, а в качестве источников элементов – одноэлементные мишени размером 4 дюйма из хрома, марганца, железа, кобальта и никеля высокой чистоты. Вместо традиционной твердой подложки авторы использовали ионные жидкости. Полученный пятикомпонентный катализатор показал активность, сравнимую с катализатором из Pt, а последовательное удаление компонентов приводило к падению активности. Осажденный материал состоял из НЧ в кристаллическом и аморфном состояниях с узким распределением (~1.7 ± 0.2 нм).
Чтобы получить кристаллические НЧ, группа Garzón Manjón [108] использовала три способа обработки: 1) облучение электронным лучом in situ в ПЭМ (просвечивающий электронный микроскоп), 2) нагрев exsitu в вакууме и 3) использование процедуры мощного импульсного магнетронного распыления. Они обнаружили, что кристаллическая структура НЧ-ВЭС состава CrMnFeCoNi различается в зависимости от методов обработки. Например, во время электронно-лучевой кристаллизации in situ образуется ОЦК структура, тогда как более длительный отжиг exsitu приводит к образованию ГЦК структуры. Размер частиц ВЭС находился в диапазоне от 1.7–4.8 нм.
3.12 Метод селективного деаллоинга
Метод деаллоинга является популярным методом получения нанопористых материалов, в основе которого лежит избирательное травление одного или нескольких металлов в сплаве. Этот метод был разработан сравнительно недавно [109] и использовался для получения высокопористых бинарных или тройных сплавов [110, 111]. Получение высокопористых ВЭС требует специального подхода из-за необходимости учитывать большие различия характеристик атомов в многокомпонентных сплавах. В последнее время число публикаций, посвященных синтезу пористых ВЭС методом деаллоинга возросло. Как правило, процесс включает несколько стадий: сначала синтезируют однофазный ВЭС, затем из расплава методом спиннингования получают ленты, которые подвергаются деаллоингу с применением химических растворителей.
Методом деаллоинга группа Liu и др. [112] успешно cинтезировали нанопористый ВЭС NiCoFeMoMn со сверхвысокой каталитической активностью. Исходный однофазный ГЦК сплав был синтезирован последовательно методом дуговой плавки, спиннингованием и одностадийным деаллоингом в 1.0 М (NH4)2SO4 для частичного вытравления Mn. Следует отметить, что элемент Mn был выбран потому, что он легко образует твердые растворы с другими переходными металлами, такими как Ni, Cu, Fe, Co, V и т. д. В то же время достаточно низкий стандартный окислительно-восстановительный потенциал Mn2+/Mn позволяет селективно растворять Mn в растворе слабой кислоты, сохраняя при этом другие элементы с более высокими окислительно-восстановительными потенциалами. Материал имел иерархический нанопористый скелет с небольшими нанопорами размером примерно 5 нм на поверхности и нанопорами размером примерно 40 нм внутри областей с сегрегацией на их границах Mo. Катализатор обладал высокой каталитической активностью для реакции выделения водорода и кислорода.
Помимо Mn, в стратегии деаллоинга широко используется Al, поскольку его также можно избирательно удалять химическими растворителями. Qui и др. [113] получили высокопористые катализаторы на основе 6- и 8-компонентных ВЭС, содержащих благородные металлы (AlNiCuPtPdAu, AlNiCuPtPdAuCoFe) и 6-компонентный ВЭС без благородных металлов (AlNiCuMoCoFe). Сначала были синтезированы сплавы-прекурсоры с высоким содержанием Al методом дуговой плавки и последующим спиннингованием, а затем большая часть Al была химически удалена 0.5 М раствором NaOH. Все катализаторы кристаллизовались в ГЦК-структуре и имели высокопористую микроструктуру с размерами лигаментов ~2–3 нм. Все катализаторы продемонстрировали повышенную высокотемпературную стабильность (до 600оC) и активность окисления CO. Аналогичным способом были также успешно изготовлены нанопористые ВЭС γ-Al2O3/AlNiCuPtPdAu [113], Al1Ni1Co1Ir1X1 (X=Mo, Nb, V) [114] и Al-Cu-Ni-Pt-Mn [115]. Подобным способом был синтезирован нанопористый композит типа сплав/(окси)гидроксид для бифункционального кислородного электрокатализа и воздушно-цинковых аккумуляторов, который представлял собой ВЭС AlFeCoNiCr, покрытый естественно окисленными многокомпонентными поверхностными оксидами [116].
Yoshizaki и др. [117] методом деаллоинга синтезировали и охарактеризовали катализаторы из нанопористых ВЭС, содержащих 14, 15 и 23 элемента. Слитки прекурсоров полиметаллических сплавов: Al89Ag0.5Au0.5Co0.5Cr0.5Cu0.5Fe0.5Hf0.5Ir0.5Mn0.5Mo0.5Nb0.5Ni0.5Pd0.5Pt0.5Re0.5Rh0.5Ru0.5Ta0.5Ti 0.5V0.5W0.5Zr0.5 (23 элемента, ВЭС23), Al87Ag1 Au1Co1Cu1Fe1Ir1Mo1Ni1Pd1Pt1Rh1Ru1Ti1 (14 элементов, ВЭС14) и Al93Co0.5C r0.5 Cu0.5Fe0.5Hf0.5Mn0.5Mo0.5Nb0.5Ni0.5Ta0.5Ti0.5V0.5W0.5Zr0.5 (15 элементов ВЭС15) (ат. %) получали методом дуговой плавкой из чистых порошков металлов (>99.99%) в атмосфере чистого аргона. После проверки составов из слитков были изготовлены ленты толщиной около 20 мкм и шириной 2 мм путем переплавки и спиннингования на холодной поверхности вращающегося медного ролика со скоростью 40 м/с. Затем ленты выдерживали в 0.5 М растворе NaOH в течение 3 часов (рис. 15).
Рис. 15. Схема изготовления нанопористых ВЭС с использованием деаллоинга [117].
Структура сплавов была исследована методом сетевой визуализации с помощью алгоритмов Gephi и ForceAtlas2 [117]. В результате были получены элементные карты, которые показали, что в твердых растворах существует сродство между элементами. В атомной сети можно было различить группы «драгоценных элементов», «тугоплавких элементов» и «элементов канторовых сплавов», а также наблюдать взаимодействие между группами (рис. 16). Испытания каталитических свойств показали, что все нанопористые ВЭС демонстрируют замечательную термическую и фазовую стабильность до 873 К.
Рис. 16. Сетевое описание, визуализирующее родство твердых растворов между элементами в ВЭС, с использованием алгоритмов Gephi и ForceAtlas2: (a) ВЭС23, (б) ВЭС14 и (в) ВЭС15 [117].
Группой Abid и др. [118] были разработаны и успешно синтезированы пены ВЭС CoCrFeMnNi (сплав Кантора) с различной степенью пористости. Исходный высокоэнтропийный сплав, полученный методом дуговой плавки, содержал медь, которая удалялась в процессе электрохимического деаллоинга в 5%-ном водном растворе азотной кислоты (70%) в течение 24 ч. Исследования показали, что медь плохо растворялась в ГЦК структуре твердого раствора и, вместо этого, сегрегировалась в междендритных областях. Возможно, благодаря именно этому, полученный материал показал превосходные электрохимические характеристики, которые позволяют использовать их в качестве электродных материалов для суперконденсаторов.
Zheng и др. показали, метод деаллоинга может быть использован для получения нанопористого однофазного эквиатомного сплава CrCo: селективное растворение Ni в среднеэнтропийном сплаве CrCoNi выполнялось с использованием жидкого Bi [119]. Joo и др. также использовали жидкий металл (расплав Mg-10 ат.% Ca) для селективного растворения никеля в сплаве-прекурсоре (TiVNbMoTa)25Ni75с ГЦК и ГПУ структурами для получения нанопористого TiVNbMoTa с ОЦК структурой [120]. Процесс растворения Ni происходил в две стадии и сопровождался двумя фазовыми превращениями: ГЦК ⇒ ГПУ ⇒ ОЦК. Используя метод деаллоингав жидком металле (жидкий Mg), группа Okulov и др. получили нанопористый высокоэнтропийный сплав Ta19.1Mo20.5Nb22.9V30Ni7.5 (ат.%) из прекурсора (TaMoNbV)25Ni75 (ат.%) [121].
Деаллоинг позволяет создавать 3D-нанопористые материалы с уникальной топологией, протяженными взаимосвязанными порами и лигаментами, большой площадью поверхности. Этот метод имеет огромный потенциал для синтеза нанопористых ВЭС с высокой проводимостью, эффективным массопереносом, высокой каталитической активностью для таких приложений, как катализ, электрохимическое преобразование и хранение энергии.
4 ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
4.1 Синтез НЧ-ВЭС, с помощью спилловера водорода
Уникальный метод синтеза на основе спилловера водорода был предложен авторами [122]. Явление спилловера основано на поверхностной миграции диссоциированных атомов водорода, обусловленной градиентом его концентраций. Наночастицы ВЭС CoNiCuRuPd, были синтезированы на подложке TiO2 (CoNiCuRuPd/TiO2), методом импрегнирования оксида титана в водном растворе соответствующими прекурсорами (RuCl3·nH2O, Cu(NO3)2·3H2O, Co(NO3)2·6H2O, Ni(NO3)2·6H2O, Na2PdCl4) и последующим восстановлением в атмосфере H2 при 400 оС. При выборе элементов руководствовались соотношениями атомных радиусов (δ<6.6%) и допустимым диапазоном значений энтальпии смешения ∆Hmix (–11.6–3.2 кДж/моль), которые гарантируют образование пятикомпонентного твердого раствора. Кроме того, авторы учитывали значения восстановительных потенциалов (E0) элементов Co2+/Co0, Ni2+/Ni0, Cu2+/Cu0, Ru3+/Ru0, Pd2+/Pd0, среди которых палладий, имеющий самый высокий потенциал, играл основную роль в процессе спилловера водорода.
Механизм образования CoNiCuRuPd/TiO2 включал следующие стадии (рис. 17). Прекурсор Pd2+ сначала частично восстанавливался в атмосфере H2 с образованием ядер (рис. 17а). После этого H2 диссоциировал на поверхности ядер Pd с образованием частиц Pd-H (стадия 1). На следующем этапе (стадия 2) происходило восстановление Ti4+ до Ti3+ и перенос атомов H от ядер Pd на границах раздела металл-носитель, что сопровождалось миграцией электронов от ионов Ti3+ к соседним ионам Ti4+. Это способствовало последующей одновременной передаче протонов анионам O2–, связанных с соседними ионами Ti4+ (стадия 3). Таким образом, атомы водорода, перемещаясь по поверхности TiO2, быстро достигали всех ионов металлов (стадия 4), которые одновременно восстанавливались с образованием НЧ-ВЭС (стадия 5), что сопровождалось регенерацией Ti4+.
Рис. 17. (a) – последовательность элементарных стадий синтеза НЧ-ВЭС CoNiCuRuPd на подложке TiO2 (101) методом спилловера водорода, полученная из расчетов ТФП, (б) – экспериментальные рентгеновские дифрактограммы НЧ-ВЭС (верхняя), осажденного на подложке TiO2 (нижняя) [122].
Формирование пятикомпонентного ВЭС на подложке TiO2 подтверждено методом рентгеновской дифракции (рис. 17б). Анализ тонкой структуры рентгеновского поглощения in situ (XAFS) при нагревании, проведенные в атмосфере H2, подтвердили описанный выше механизм восстановления оксидов и образование сплава CoNiCuRuPd.
Полученный таким способом нанокомпозит CoNiCuRuPd/TiO2, показал как хорошую каталитическую активность, так и чрезвычайно высокую прочность в процессе реакций гидрирования СО2. Теоретические исследования методом ТФП (density functional theory, DFT), показали, что «коктейль»-эффект и медленная диффузия являются следствием синергетического эффекта, вызванного комбинацией нескольких металлов, и что искажения решетки играют решающую роль в повышении прочности этого материала.
4.2 Карботермический удар
Возможности синтеза НЧ-ВЭС в последние 5 лет значительно обогатились за счет методов, основанных на стратегии быстрого джоулева нагрева, одним из которых является карботермический удар (Сarbothermal shock, CTS) [123]. Реализуемый в этих методах подход «снизу вверх» позволяет создавать метастабильные наноматериалы с уникальными физическими и химическими свойствами. Сверхбыстрый синтез предусматривает необычные кинетические процессы, предоставляя широкие возможности для синтеза метастабильных материалов со множеством структурных дефектов (дислокации, дефекты упаковки, двойники, дефекты Френкеля и дефекты Шоттки и другие), которые определяют свойства для возможных функциональных приложений.
Метод CTS был разработан группой Yao с сотрудниками [123] в 2018 году для синтеза восьмикомпонентного ВЭС PtPdCoNiFeCuAuSn. Синтез включал 2 этапа. На первом этапе хлориды металлов растворяли в этаноле и наносили на специально подготовленные углеродные нановолокна. После сушки пленка из углеродного нановолокна, покрытая прекурсорами подвергалась воздействию электрических импульсов от источника постоянного тока в боксе, заполненном Ar (рис. 18). Нагрев образца достигал ~2000 К за 55 мс при скорости нагрева/охлаждения от ~105 К/c. Соли металлов одновременно разлагались и образовывали капли металла на несмачиваемом углеродном носителе. Быстрое охлаждение позволяло подавить фазовое расслоение и успешно получить однофазные сплавы.
Рис. 18. Схема синтеза НЧ-ВЭС методом карботермического удара: подготовка образца и временная эволюция температуры во время теплового удара длительностью 55 мс [123].
Полученный 8-компонентный ВЭС имел ГЦК структуру с размером частиц ~5 нм. Одним из достоинств метода является возможность синтезировать твердые растворы из элементов, имеющих большую разницу в геометрических размерах и электронной структуре. Так, например, Pt, Pd, Ni, Co, Fe, Au, Cu и Sn имеют диапазон значений атомных радиусов от 1.24 до 1.44 Å, большую разницу восстановительных потенциалов (от –0.25 до 1.5 В по сравнению со стандартным водородным электродом), различные предпочтительные кристаллические структуры (ГЦК, ОЦК, ГПУ, тетрагональная), а также различные температуры плавления (от 500 до 2000 К). Такие различия обычно препятствуют образованию твердых растворов. Авторы продемонстрировали универсальность метода, синтезировав твердые растворы с различным количеством разнородных элементов: однокомпонентные (Pt, Au и Fe), бинарные (PtNi, AuCu и FeNi), тройные (PtPdNi, AuCuSn и FeCoNi), (PtCoNiFeCu и PtPdCoNiFe), шестикомпонентные (PtCoNiFeCuAu), семикомпонентные (PtPdCoNiFeCuAu) и восьмикомпонентные (PtPdCoNiFeCuAuSn) твердые растворы.
В качестве проводящих подложек в этом методе используются различные углеродные материалы: углеродные нановолокна [123], пленка/аэрозоль восстановленного оксида графена (rGO) [123, 124], углеродные нанотрубки (УНТ) [123], бумага, ткань, карбонизированная древесина [125, 123].
Группа Abdelhafiz и др. [125] сообщила о синтезе in situ катализаторов на основе высокоэнтропийных оксидов (ВЭO) из неблагородных металлов на углеродных волокнах с помощью CTS метода, используя сверхбыстрое циклическое изменение температуры. Многокомпонентные оксиды типа шпинель образовывались, по мнению авторов, именно благодаря отсутствию в составе благородных металлов. Наночастицы ВЭO трех и шести металлов (Fe, Ni, Co, Cr, Mn, V) демонстрируют более высокую активность в катализе реакции выделения кислорода по сравнению с катализатором из благородного металла IrO2. Синтезированные ВЭО также демонстрируют на два порядка более высокую стабильность, чем IrO2.
Метод карботермического удара имеет большие перспективы синтеза не только ВЭС, но и более широкого круга материалов. С помощью точного контроля параметров термического удара (температура, продолжительность, скорость нагрева/охлаждения) можно эффективно настраивает структуру, размер и морфологию частиц. Синтез может быть адаптирован для крупномасштабного производства наноматериалов, где быстрая и энергоэффективная процедура синтеза может обеспечить высокую производительность. Возможности CTS открывают также новые перспективы для создания и оптимизации любых материалов, у которых необходимо тщательно контролировать элементный состав и энтропию смешения.
5 ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ВЭС
Наночастицы высокоэнтропийных сплавов имеют следующие основные предпосылки для их будущих применений: 1) высокая энтропия обеспечивает стабильность структуры, высокую механическую прочность, вязкость разрушения, стойкость к окислению и коррозии; 2) наличие в твердом растворе нескольких компонентов позволяет проявлять характеристики каждого из них, а также комбинированные свойства нескольких компонентов; 3) возможность большого выбора компонентов обеспечивает гибкую и точную настройку состава под конкретные задачи; 4) ультратонкий наноразмерный масштаб обеспечивает низкую плотность, большую удельную поверхность и высокую активность; 5) наноразмерные эффекты способствуют проявлению необычных электрических, магнитных, оптических и др. физических свойств. В связи с этим НЧ-ВЭС имеют огромные перспективы применения их в качестве конструкционных (в основном в виде защитных покрытий) и функциональных материалов. Мы проанализируем лишь некоторые из потенциальных применений наноразмерных ВЭС, которые были широко представлены в литературе в последние годы.
5.1 Защитные покрытия
Эксплуатационные характеристики материалов деталей машин и механизмов нередко зависят от качества их поверхности, которая подвергается наиболее интенсивному воздействию. Для повышения конструктивной прочности на поверхность изделий наносят покрытия, которые защищают их от химических и физических воздействий: коррозия, радиация, механические повреждения (истирание, удар). Кроме того, с помощью покрытий можно изменить магнитные и электрические свойства, а также повысить термостойкость. Разработка покрытий на основе ВЭС является одним из приоритетных направлений исследований в последние годы.
Исследования радиационной стойкости ВЭС в микро- и нано-состояниях активно ведутся многими группами. Эль-Атвани и др. [126] разработали тонкие пленки ВЭС на основе W с превосходной радиационной стойкостью. Пленки состава W38Ta36Cr15V11 с ОЦК структурой были получены магнетронным распылением, имели бимодальное распределение зерен (100 и 500 нм), а также уникальную пластинчатую структуру с толщиной полос 4 нм. Авторы наблюдали множество дефектов структуры, такие как точечные дефекты, сегрегация Cr и V по границам зерен и тройным стыкам в виде второй фазы, которая после облучения трансформируется в квазисферические выделения. Наряду с высокой радиационной устойчивостью пленки обладали повышенной твёрдостью (14 Гпа), которая увеличивалась после термического отжига и после облучения. Группа Su с сотрудниками [127] добилась высокой радиационной стойкости ВЭС Ni19.8Co19.8Fe19.8Cr19.8Mn19.8C0.5N0.5 за счет внедрения элементов C и N в междоузлия ГЦК решетки. Углерод и азот повышали химический ближний порядок, увеличивали деформацию решетки, понижали свободное междоузельное пространство, что создавало барьер диффузии междоузельных атомов и кластеров, создаваемых облучением, изменяя скорость и пути этих дефектов, тем самым замедляя рост пустот и развитие дислокационных петель. Обобщение и анализ обширных оригинальных результатов исследований радиационно упрочненных ВЭС, перспективы их применения был сделан в недавнем обзоре [128].
ВЭСы открывают большие перспективы для разработки материалов с исключительной износостойкостью и пониженным трением. За последнее десятилетие исследователи проявляют повышенный интерес к ВЭС с улучшенными трибологическими свойствами, недостижимые с помощью традиционных сплавов. Важная роль во многих исследованиях отводится наноразмерным эффектам. В работе [129] были разработаны и испытаны защитные тонкопленочные покрытия ВЭС FeNiCoCrMox (x = 0; 0.15; 0.20; 0.25) для нержавеющих сталей. Покрытия наносились лазерным напылением и обеспечивали увеличение микротвердости на 90.5%, а также снижение скорости изнашивания на 38.9%. относительно основного материала изделия. Методом ультразвуковой лазерной наплавки были получены наноламеллярные покрытия AlCoCrFeMn0.5Mo0.1Nbx (x = 0.4 доэвтектический, 0.65 эвтектический и 0.8 заэвтектический сплавы) [130]. Все сплавы состояли из твердых растворов ОЦК и фаз Лавеса, но отличались микроструктурой зерен. Скорости изнашивания полученных покрытий (5.5·10–6 мм3/Н·м для покрытия x = 0.4, 5.3·10–6 мм3/Н·м для покрытия x = 0.65 и 8·10–6 мм3/Н·м для покрытия x = 0.8) были существенно ниже, чем у большинства металлических и металлокерамических композиционных материалов. Для стабилизации наноразмерного состояния ВЭС FeCrNiMnAl с ОЦК структурой и формирования однородной микрокристаллической морфологии He и др. [131] использовали наночастицы CeO2. Композиционное покрытие увеличило среднюю микротвердость почти на 91.5%, а скорость изнашивания достигла 3.12·10–6 мм3/Н·м. Фрикционные характеристики покрытия также оказались оптимальными,
Повышенная износостойкость может быть получена не только нанесением покрытий на поверхность изделий, но и при помощи модификации поверхности. Одним из таких методов является борирование, или диффузионное насыщение поверхности металлов и сплавов бором при нагревании и последующей выдержке в химически активной среде. В работе [132] методом порошкового борирования сплавов CoCrFeMnNi и CoCrFeNi, имеющих ГЦК кристаллическую решетку, удалось существенно увеличить микротвердость и износостойкость поверхности. Сплавы были получены методом дуговой плавки, борирование осуществлялось с помощью коммерческого агента, содержащего кремний (5% B4C + 5% KBF4 + 90% SiC). В результате обработки образовывался двойной слой, обогащенный кремнием и бором, а таже фазы, обогащенные никелем. Yang и др. [133] исследовали влияние борирования на трибологические свойства и механизм изнашивания сплавов Fe40Mn20Cr20Ni20 в диапазоне 20–600оC и установили, что борированные образцы показали более высокую износостойкость при 20–600оC, более низкие коэффициенты трения, чем неборированные сплавы. Износостойкость может быть также улучшена за счет создания аморфно-нанокристаллической структуры ВЭС, полученной отжигом аморфных прекурсоров. Например, Gloriant и др. [134] обнаружили, что твердость и износостойкость ряда аморфных сплавов, включая объемные аморфные сплавы ZrAlNiCu, PdNiCuP, LaAlNiCoCu, значительно повышаются после нанокристаллизации, индуцированной отжигом. В 2009 году Ченг и др. [135] методом проволочно-дугового напыления получил аморфно-нанокристаллическое покрытие FeBSiCrNbMnY на подложке из нержавеющей стали. Они обнаружили, что относительная износостойкость покрытия примерно в три раза выше, чем у покрытий из мартенситной нержавеющей стали.
Более полная информация по улучшению износостойкости поверхности ВЭС с помощью различных обработок представлена в обзоре [136]. Кроме того, в 2023 году Kumar опубликовал большой обзор, посвященный исследованию трибологических свойств покрытий на основе ВЭС, а также модифицированных поверхностей ВЭС, [137].
Проблема достижения высокой коррозионной стойкости ВЭС решается не только путем подбора необходимого химического состава, но и на уровне микроструктурных характеристик материала: варьирование размера зерен, частичная аморфизация (или частичная нанокристаллизация аморфных сплавов), дисперсионное упрочнение и т. д.Wang и др. исследовали влияние размера зерна ВЭС CoCrFeMnNi на коррозионное поведение в 0.5 М H2SO4 [138] и установили, что по мере уменьшения размера зерен коррозионная стойкость сначала возрастает, а затем снижается. Мелкозернистый ВЭС (<1.24 мкм) имеет протяженные границы зерен, которые ускоряют скорость растворения ионов и могут быстро образовывать пассивирующие пленки, однако из-за нестабильности они быстро разрушаются. Крупнозернистый образец (≥ 145.9 мкм) имел меньше каналов для диффузии ионов, что затруднило формирование пассивирующей пленки и снизило коррозийную стойкость. Однако Mao и др. [139] разработали сплав, содержащий Al, состава FeCoCrNiMnAl0.5 с размером зерна 50–100 нм для защиты стали Q235 от коррозии. Сначала двухфазный (ОЦК и ГЦК) сплав был получен методом интенсивного помола в шаровой мельнице, затем нанесен на сталь методом плазменного напыления на воздухе. В процессе напыления формировалось покрытие с ГЦК структурой и аморфного оксида алюминия в качестве пассивирующей пленки. Скорость коррозии покрытия составила 1/2 от скорости коррозии нержавеющей стали. Группа Li с сотрудниками разработали иерархические тонкие наноструктурированные пленки Fe25.2Co25.2Ni27.4Cr22.2, сочетающие высокую прочность и отличную коррозионную стойкость [140]. Пленки, состоящие из внешнего наноламеллярного слоя и внутреннего равноосного слоя, были получены двухэтапным магнетронным распылением с контролируемой температурой. Внешний наноламеллярный слой имел не только более высокую нанотвердость (~8.1 ГПа), но и более низкие значения поверхностного потенциала (~ –261 мВ), чем нижний слой (~5.9 ГПа и ~–150 мВ).
Активно разрабатываются аморфно-нанокристаллические сплавы, которые проявляют превосходные антикоррозийные свойства. К ним относятся сплавы на основе алюминия [141, 142], железа [143, 144, 145] и никеля [Bekish2010]. Tan с соавторами [142] показали, что коррозия магниевого сплава снижается на два порядка в 0.6М растворе NaCl после нанесения аморфно-нанокристаллического сплава Al–Cu–Zn. Ye и др. [141] разработали серию аморфно-нанокристаллических пленок Cr-Al-Si-N с замечательными антикоррозионными характеристиками в морской воде для защиты нержавеющей стали 316L. Аморфно-нанокристаллические покрытия на основе Fe (Fe-Cr-B-Si-Nb-W, Fe-Cr-Si-B-Mn, Fe–Co–Cr–Mo–C–B–Y) показали более высокий коррозионный потенциал и меньшую плотность тока коррозии, чем традиционные покрытия из хрома и нержавеющей стали 316L в растворе NaCl [143–145]. Присутствие в этих сплавах тугоплавких элементов, таких как Cr, Mo и W способствует образованию пассивирующей пленки и улучшает способность пленок к репассивации. Присутствие аморфной фазы в этих покрытиях смягчает вредное воздействие микроструктурных неоднородностей, которые подвержены локальному коррозионному воздействию. Xiao и др. синтезировали аморфно-нанокристаллический композиционный материал, FeMnCoCrNi, методом магнетронного распыления, который был представлен наночастицами, заключенными в аморфную оболочку [146]. Такое композитное покрытие продемонстрировало превосходные антикоррозионные характеристики благодаря тому, что Cr быстро диффундируя из внутренних слоев к поверхности, образует пассивирующую пленку. При отжиге аморфная оболочка становилась тоньше, а коррозионная стойкость понижалась [146].
5.2 Водородная энергетика
Водород имеет огромный потенциал для использования в качестве альтернативного топлива, если создать условия его безопасного и эффективного хранения. Хранение водорода в химически связанном состоянии в виде гидридов металлов с высоким соотношением H/металл (H/M = 2) является одним из основных, рассматриваемых в настоящее время, безопасных способов. Основными требованиями, предъявляемыми к материалам хранения водорода, являются хорошая водородная емкость, высокая кинетика гидрирования/дегидрирования, термодинамическая стабильность и циклическая устойчивость [147–149].
В 2016 году Sahlberg и др. [150] сообщили, что однофазный ОЦК-сплав TiVZrNbHf поглощает большое количество водородаcсоотношением атомов водорода и металла H/M=2.5. Это очень важное открытие послужило причиной для создания и изучения ВЭС, как материала для хранения водорода.Группа ученых Monteroи др. [151] сосредоточились на оптимизации системы Ti-V-Zr-Nb и ее производных. Исходный четырехкомпонентный сплав Ti0.325V0.275Zr0.125Nb0.275 представлял собой однофазный ОЦК-сплав, который, поглощая водород до Н/М = 1.8 (2.7 мас.%), образовывал дигидрид с ГЦК-решеткой [151]. Далее они изучили влияние добавления пятого элемента в количестве 10% по следующей формуле: Ti0.30V0.25Zr0.10Nb0.25M0.10 (M = Al, Mg, Ta). Способность поглощения водорода составом М=Al составила 1.6 Н/М (2.6 мас.%) с образованием объемно-центрированного тетрагонального (ОЦТ) гидрида [151]. Основные улучшения от добавления Al связаны с десорбционными и циклическими свойствами материала: температура выделения водорода снизилась примерно на 100оC, и сплав показал превосходную циклическую стабильность и более высокую обратимую емкость хранения. Состав М=Mg с ОЦК структурой при поглощении водорода трансформировался в гидридную ГЦК фазу с абсорбцией водорода при комнатной температуре Н/М = 1.7, что составило 2.7 мас.%. При этом улучшились циклическиесвойства абсорбции/десорбции водорода по сравнению с исходным четырехкомпонентным сплавом [152]. Способность поглощения водорода составом М = Ti достигла Н/М = 2.0 (2.5 мас.%), при этом десорбционные свойства были также улучшены по сравнению с исходным сплавом [153].
Известно, что наиболее благоприятной для поглощения водорода с образованием твердых растворов внедрения является ОЦК фаза, поскольку плотность упаковки атомов в этой фазе самая низкая (0.68) [154]. Для сравнения ГЦК и ГПУ структуры имеют плотность упаковки 0.74. Именно поэтому ВЭСы с ОЦК изучаются наиболее интенсивно в качестве материалов для хранения водорода. Например, Shen и др. [155] разработали ВЭС TiZrHfMoNb с хорошей термической стабильностью и однофазной обратимостью ОЦК↔ГЦК в циклах поглощения и выделения водорода. Silva и др. [156] получили три состава ВЭС для хранения водорода с ОЦК-структурой: (TiVNb)85Cr15, (TiVNb)95.3Co4.7 и (TiVNb)96.2Ni3.8, в которых соотношение Н/М = 2 (3.1–3.2 мас.%). Karlsson и др. [157] разработали ВЭС HfNbTiVZr с ОЦК структурой, который претерпевает фазовое превращение в ОЦТ гидридную фазу с размещением водорода как тетраэдрических, так и октаэдрических междоузлиях.
Высокоэнтропийные сплавы с гексагональнойструктурой (фазы Лавеса, С14) также рассматриваются в качестве кандидатов для хранения водорода в связи с их высокой стабильностью, повышенной химической инертностью и большим сроком службы. Kao и др. исследовали влияние Ti, V и Zrв сплаве CoFeMnTiVZr [158] на водородную емкость и циклическую стабильность. Подобные исследования были выполнены с гексагональными TiZrNbFeNi [159], ZrTiVNiCrFe [160], CoFeMnTiVZr [161], ZrTiVCrFeNi [162], TiZrCrMnFeNi [163], TixZr2-xCrMnFeNi (x = 0.4–1.6) [164]. Большой обзор материалов на основе ВЭС для твердотельного хранения водорода сделан в недавнем обзоре [165].
Улучшение свойств материалов для твердотельного хранения водорода может быть достигнуто за счет уменьшения размера частиц. Уменьшение размера частиц увеличивает площадь поверхности материала и тем самым увеличивает скорость адсорбции (поскольку адсорбция является поверхностным явлением). Более короткие пути диффузии уменьшают время достижения водородом активных центров металла или сплава, а дефекты кристалла улучшают термодинамику.
Влияние размера зерна на сорбцию/десорбцию водорода высокоэнтропийными сплавами изучали в нескольких работах [166–171]. Zhao и др. [166, 172] исследовали наноразмерные эквиатомные ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi с ГЦК структурой и показали, что что границы зерен действуют как ловушки водорода и, таким образом, значительно увеличивают содержание водорода в нанокристаллических образцах. Luo и др. [167] изучили нанокристаллические сплавы V47Fe11Ti30Cr10RE2 (RE=La, Ce, Y, Sc) и показали, что микроструктура сплавов с многочисленными интерфейсами и границами зерен имеет множество дефектов, которые могут служить хорошими каналами для диффузии атомов водорода. Сплав V47Fe11Ti30Cr10Y2 показал выдающуюся емкость 3.41 мас.% при 295 К [167]. Verna и др. использовали нанокристаллический ВЭС Al20Cr16Mn16Fe16Co16Ni16 как катализатор в процессе гидрирования/дегидрирования соединения MgH2, являющегося наиболее часто используемым материалом для твердотельного хранения водорода. Катализатор ускорил кинетику гидрирования/дегидрирования MgH2: всего за 2 мин при температуре 300 оC гидрид магния сорбировал 6.1 мас.% водорода, процесс десорбции 5.4 мас.% занял 40 минут [168]. Циклическая устойчивость полученного композита также возросла. Несмотря на преимущества гидридов как сред хранения водорода [173], сильная химическая связь в гидриде приводит к замедленной кинетике, которая, впрочем, может быть ускорена с помощью катализаторов на основе ВЭС.
5.3 Катализ
Поиск каталитических материалов на основе ВЭС в последние несколько лет ведется бурными темпами. К настоящему времени почти половина опубликованных работ, касающихся ВЭС, связана с катализом [174, 175]. Развитая поверхность является необходимым условием для катализа. Наночастицы высокоэнтропийных сплавов имеют естественные преимущества, такие как множество активных центров, высокая адсорбционная способность, наноразмерный эффект, решеточные деформации, поверхностные дефекты что, в сочетании с хорошей стабильностью, делает их хорошими кандидатами для катализа. Использование большого спектра компонентов в ВЭМ (ВЭС, ВЭО, разнообразные гетероструктуры) открывает перспективу использования их в широком диапазоне каталитических применений: разложение аммиака, окисление аммиака, восстановление кислорода, восстановление CO2/CO, электролиз воды, выделение водорода и кислорода. Ожидается, что катализаторы на основе многокомпонентных соединений заменят или сократят использование драгоценных металлов, тем самым уменьшая экономические расходы.
Yao и др. [123] получили наночастицы высокоэнтропийного катализатора PtPdRhRuCe для реакции окисления аммиака, эффективность которого достигла почти 100% при относительно низкой температуре реакции (700 оC), а селективность составила >99% по отношению NO + NO2 при длительных операциях. Элементы Ru и Ce были введены для улучшения общей каталитической активности и снижения содержания Pt.
Xie и др. [176] c помощью карботермического ударного метода синтезировали серию однофазных (ГЦК) наночастиц CoxMoyFe10Ni10Cu10 (x + y = 70) с различным соотношением Co/Mo (ВЭС–CoxMoy) для катализа разложения аммиака. Наиболее активный катализатор ВЭС–Co25Mo45 достиг массового удельного расхода 0.74 гNH3∙м-2·ч-1 при 500оC, что почти в 24 раза выше биметаллического Co-Mo катализатора и в 19 раз выше Ru-катализатора. Этот катализатор также продемонстрировал выдающуюся термическую и химическую стабильность, при незначительном снижение активности в течение 50 часов при непрерывной работе при 500оC.
Yao с коллегами [177] использовали модифицированный метод карботермического удара для синтеза катализаторов для реакции восстановления кислорода (РВК). Мультиметаллические нанокластеры PtPdRhNi и PtPdFeCoNi продемонстрировали гораздо более высокую активность РВК по сравнению с контрольным Pt-катализатором. Schuhmann с коллегами [106, 178] систематически исследовали электрокатализаторы ВЭС на основе переходных металлов для реакции восстановления кислорода, используя метод совместного магнетронного распыления в ионной жидкости. Наночастицы Cr-Mn-Fe-Co-Ni размером менее 2 нм продемонстрировали неожиданно высокую активность РВК, сравнимую с эффективностью Pt в тех же условиях. Активно разрабатываются высокоэнтропийные фотокатализаторы выделения кислорода на основе ВЭО TiZrNbTaWO12 группой Edalati с сотрудниками [179].
Chen с сотрудниками [180] методом деаллоинга получили нанопористые сплавы НЧ-PtRuCuOsIr, полуволновой потенциал которых составил 0.900 В относительно обратимого водородного электрода сравнения (reversible hydrogen electrode, RHE), что было выше полуволнового потенциала коммерческих Pt/C-катализаторов. Катализатор НЧ-PtRuCuOsIr с трехмерной бинепрерывной лигаментно-канальной структурой демонстрирует значительно более высокую каталитическую активность и устойчивость в реакции восстановления кислорода на катоде, высокую каталитическую активность в отношении электроокисления метанола, а также хорошую устойчивость к CO на аноде по сравнению с коммерческим катализатором Pt C.
Электрохимическое расщепление воды – одна из ключевых «зеленых» технологий производства водорода. Однако медленная кинетика реакции выделения кислорода в значительной степени ограничивает общую эффективность расщепления воды. В настоящее время широко используемыми катализаторами анодной реакции выделения кислорода являются IrO2 и RuO2, но они имеют такие проблемы, как плохая коррозионная стойкость, стабильность и высокая стоимость. Вдохновленные выдающимися возможностями ВЭС Jin с коллегами синтезировали библиотеку нанопористых пятикомпонентных ВЭС на основе иридия AlNiCoIrX (X = Mo, Cu, Cr, V, Nb), используя простой метод сплавления и деаллоинга [114]. Все полученные пятикомпонентные ВЭСы показали отличные каталитические характеристики благодаря пористой структуре, облегчающей перенос электронов. Авторы предположили также, что улучшению каталитических характеристик способствовали ВЭС-эффекты, такие как эффект высокой энтропии и эффект медленной диффузии [114]. В частности, рекордно высокая электрокаталитическая активность реакции выделения кислорода была достигнута с использованием катализатора AlNiCoIrMo [114]. Вскоре Qiu и др. изготовили серию нанопористых ВЭС, не содержащих благородных металлов, AlCoNiFeX (X = Nb, Mo, Cr, V, Zr, Mn, Cu), которые были покрыты высокоэнтропийными (окси)гидроксидами(ВЭО) [181]. Было установлено, что решающую роль в повышении каталитической активности играет состав основного сплава, при этом наибольшую активность проявляет комбинация AlNiCoFeX (X = Mo, Nb, Cr).
Постоянное использование ископаемого топлива приводит к образованию огромных объемов антропогенных парниковых газов, главным образом, из-за увеличения содержания углекислого газа в атмосфере (CO2). Преобразование CO2 в ценные химические вещества, включая муравьиную кислоту, этанол и ацетон, а также топливо, играет важную роль в удовлетворении возобновляемых потребностей глобальных источников энергии, а также снижает экологические проблемы, вызванные выбросами CO2. Однако реакция восстановления CO2 в водных растворах сопровождается конкурентной реакцией выделения водорода и генерированием H2 в качестве побочного нежелательного продукта. Поэтому, в настоящее время активно исследуются высокоэффективные и селективные электрокатализаторы для восстановления CO2 экспериментально и теоретическими методами [182, 183]. В частности, ВЭС и высокоэнтропийные составы (оксиды, сульфиды и др.) привлекают все большее внимание, как эффективные электрокатализаторы для восстановления CO2. Pedersen и др. провели теоретическое исследование, объединив метод ТФП (Теория функционала плотности, density functional theory, DFT) и машинное обучение, и предложили новые катализаторы для селективного восстановления CO2 и CO на основе ВЭС: CoCuGaNiZn и AgAuCuPtPd с ГЦК структурой. [184] Авторы предсказали энергии адсорбции CO и H на всех участках поверхности (111) обоих неупорядоченных ВЭС, что позволило оптимизировать композиции ВЭС с точки зрения селективности и каталитической активности. Данный подход продемонстрировал способность прогнозировать эффективность катализаторов без базовых знаний о каталитических свойствах, а также открыл возможность дальнейшей оптимизации состава. Nellaiappan и др. [185] реализовали это предсказание, синтезировав НЧ-ВЭС AuAgPtPdCu (размер зерна 16±10 нм) методом плавления и криоразмола. Испытания полученного катализатора для электрокаталитической конверсии CO2 показали, что ВЭС AuAgPtPdCu демонстрирует высокую фарадеевскую эффективность ~100% по отношению к газообразным продуктам при низком приложенном потенциале. Высокая электрокаталитическая активность была объяснена наличием в составе меди, а также синергическим эффектом, оказываемым совокупностью металлов, что также было подтверждено с помощью исследований ТФП. Ведутся исследования фотокаталитического восстановления CO2, например, с помощью высокоэнтропийных оксинитридов TiZrNbHfTaO6N3 [186], ZnCoCdNiCu-ZIF [69].
Показанные в данном разделе примеры потенциального применения НЧ-ВЭС являются лишь небольшой частью выполняемых в настоящее время исследований. Наночастицы высокоэнтропийных сплавов и их производные имеют бесчисленное множество вариантов. Накопление знаний об этом новом типе материалов может решить многие текущие теоретические и прикладные проблемы, раскрыть механизм взаимосвязи структура-состав-активность, чтобы в конечном итоге перейти к крупномасштабному инженерному применению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем обзоре мы показали прогресс в разработке новых стратегий синтеза наноразмерных высокоэнтропийных материалов, имеющих большое практическое значение для материаловедения. Мы обсудили ряд модернизированных традиционных методов и новейших разработок (такие, как, карботермический ударный метод (CTS), пиролиз в быстродвижущемся слое, метод управляемого спилловера водорода и др.) а также затронули методы теоретического моделирования и прогнозирования. Необходимо отметить, что каждый из упомянутых в обзоре методов имеет свои преимущества и недостатки. В частности, к преимуществам метода CTS, несомненно, можно отнести быстрый синтез ВЭС и сплавление разнородных элементов, благодаря чему быстро расширились библиотеки ВЭС. Однако синтезированные ВЭСы в основном закреплялись на специальных углеродных носителях, подготовка которых предполагает удлинение технологической цепочки. Кроме того, конечным продуктом являются гетероструктуры, а не монофазный материал. То же самое относится к методам печного пиролиза, как в неподвижном, так и в быстродвижущемся слое, которые используют гранулированные подложки. Метод искрового разряда является энергетически выгодным, поскольку использует непосредственное воздействие электрическим током, однако размер и морфологию синтезированных ВЭС трудно контролировать.
Теоретические методы прогнозирования образования ВЭС и их физико-химических свойств показали свою эффективность. Однако точность и универсальность теоретического прогноза во многом зависят от возможностей инструментов, включая аппаратное и программное обеспечение. Тем не менее, вычислительные методы, включая расчеты ТФП и машинное обучение послужили ценным инструментом для открытия новых ВЭС и управления их физико-химическими процессами. Для достижения практического применения ВЭС полезно объединить экспериментальные подходы с теоретическим предсказанием с помощью вычислений, чтобы помочь открыть новые практически значимые материалы на основе ВЭС с уникальными свойствами.
Для масштабного получения НЧ-ВЭС необходимо дальнейшее развитие стратегий синтеза. Для этого существует целый комплекс разнообразных параметров: подбор подходящих прекурсоров металлов, варьирование соотношений металлов, использование для синтеза газо-, жидко- и твердофазных реакций, воздействие температурой и давлением, модификация поверхности наночастиц (введение решеточных дефектов в качестве активных центров), создание наноморфологий для увеличения площади поверхности. Практически неограниченное пространство для настройки параметров способствует дальнейшей оптимизации электронной структуры, магнитной подсистемы, размера частиц, морфологии, архитектуры. Это преимущество обеспечивает основу для применения ВЭС в передовых областях, включая фотокатализ, фототермический катализ, хранение энергии (суперконденсаторы, литиевые батареи, солнечные элементы). Очевидно, что использование ВЭС не ограничится этими областями, и будет расширяться по мере разработки новых составов. Соответственно будут прогрессировать методы и стратегии их синтеза. Непрерывный рост публикаций, привлечение значимого финансирования исследований ВЭС-тематики во многих странах говорят нам о том, что бурное развитие высокоэнтропийных материалов продолжится в ближайшем будущем.
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН в рамках Программы фундаментальных исследований государственных академий (тема 122013100200–2).
Об авторах
В. А. Полухин
Институт Металлургии УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: p.valery47@yandex.ru
Россия, Екатеринбург
С. Х. Эстемирова
Институт Металлургии УрО РАН
Email: esveta100@mail.ru
Россия, Екатеринбург
Список литературы
- Fu M., Ma X., Zhao K., Li X., Su D. // iScience. 2021. 24. № 3. P. 102177. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102177
- Gelchinski B.R., Balyakin I.A., Yuryev A.A., Rempel A.A. High-entropy alloys: properties and prospects of application as protective coatings // Russ. Chem. Rev. 2022. 91. № 6). P. RCR5023.
- Li F.C., Liu T., Zhang J.Y., et al. // Mater. Today Adv. 2019. 4. P. 100027. https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2019.100027
- Pavithra C.L.P., Dey S.R. // Nano Select. 2023. 4. P. 48–78. https://doi.org/10.1002/nano.202200081
- Yeh J.-W., Chen S.-K., Lin S.-J., et al. // Adv. Eng. Mater. 2004. 6. P. 299–303. https://doi.org/10.1002/adem.200300567
- Miracle D.B. High entropy alloys as a bold step forward in alloy development // Nat Commun. 2019. 10. P. 1805.
- Miracle D.B., Senkov O.N. A critical review of high entropy alloys and related concepts // Acta Mater. 2017. 122. P. 448–511.
- Braic V., Vladescu A., Balaceanu M., et al. Nanostructured multi-element (TiZrNbHfTa)N and (TiZrNbHfTa)C hard coatings // Surf. Coat. Technol. 2012. 211. P. 117–121.
- Lin M–I., Tsai M-H., Shen W-J., Yeh J-W. Evolution of structure and properties of multi-component (AlCrTaTiZr)Ox films // Thin Solid Films. 2010. 518. P. 2732–2737.
- Gu J., Zou J., Sun S.K. et al. // Sci. China Mater. 2019. 62. P. 1898–1909. https://doi.org/10.1007/s40843–019–9469–4
- Chang S-Y., Lin S-Y., Huang Y-C., Wu C.-L. // Surf. Coat. Technol. 2010. 204. P. 3307–3314. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2010.03.041
- Cantor B. Multicomponent high-entropy Cantor alloys // Prog. Mater. Sci. 2021. 120. P. 100754.
- Pogrebnjak A.D., Bagdasaryan A.A., Yakushchenko I.V., Beresnev V.M. The structure and properties of high-entropy alloys and nitride coatings based on them // Russ. Chem. Rev. 2014. 83. № 11. P. 1027–1061.
- Gao M.C., Miracle D.B., Maurice D., Yan X., Zhang Y., Hawk J.A. High-entropy functional materials // J. Mater. Res. 2018. 33. № 19. P. 3138–3155.
- Perrin A., Sorescu M., Burton M.T. et al. // JOM. 2017. 69. 2125–2129. https://doi.org/10.1007/s11837–017–2523–3
- Law J.Y., Franco V. // J. Mater. Res. 2023. 38. P. 37–51. https://doi.org/10.1557/s43578–022–00712–0
- Fan Z., Wang H., Wu Y., et al. // RSC Adv. 2016. 6. P. 52164–52170. https://doi.org/10.1039/C5RA28088E
- Zhao K., Li X., Su D. // Acta Phys. Chim. Sin. 2021. 37. № 7. P. 2009077 (1–24). https://doi.org/10.3866/pku.whxb202009077
- Kashkarov E., Krotkevich D., Koptsev M., et al. // Membranes. 2022. 12. P. 1157. https://doi.org/10.3390/membranes12111157
- Lei Z., Liu L., Zhao H. et al. // Nat Commun. 2020. 11. P. 299. https://doi.org/10.1038/s41467–019–14170–6
- Oses C., Toher C., Curtarolo S. High-entropy ceramics // Nat Rev Mater. 2020. 5. P. 295–309.
- Bérardan D., Franger S., Meena A.K., Dragoe N. Room temperature lithium superionic conductivity in high entropy oxides // J. Mater. Chem. A. 2016. 4. P. 9536–9541.
- X. Huang, G. Yang, S. Li, et al. // J. Energy Chem. 2022. 68. P. 721–751. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2021.12.026
- Yao Y.G., Dong Q., Brozena A., et al. High-entropy nanoparticles: synthesis-structure-property relationships and data-driven discovery // Science. 2022. 376. P. eabn3103.
- Wan W., Liang K., Zhu P., He P., Zhang S. Recent advances in the synthesis and fabrication methods of high-entropy alloy nanoparticles // J. Mater. Sci. Technol. 2024. 178. P. 226–246.
- Yu L., Zeng K., Li C., et al. // Carbon Energy. 2022. 4. № 5. P. 731–761. https://doi.org/10.1002/cey2.228
- Zheng H., Luo G., Zhang A., Lu X., He L. // ChemCatChem. 2020. 13. P. 806–817. https://doi.org/10.1002/cctc.202001163
- Cahn RW, Haasen P. Physical metallurgy. 4th ed. Cambridge: Univ Press; 1996.
- Zhang Y., Zhou Y.J., JLin. P., Chen G.L., Liaw P.K. Solid-Solution Phase Formation Rules for Multi-component Alloys // Adv. Eng. Mater. 2008. 10. № 6. P. 534–538.
- Guo S., Liu C.T. // Prog. Nat. Sci. 2011. 21. № 6. P. 433–446. https://doi.org/10.1016/S1002–0071(12)60080-X
- Yang X., Zhang Y. Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys // Mater. Chem. Phys. 2012. 132. P. 233–238.
- Guo S., Ng C., Lu J., Liu C.T. Effect of valence electron concentration on stability of fcc or bcc phase in high entropy alloys // J. Appl. Phys. 2011. 109. P. 103505.
- Wang C.W., Wang H.M., Li G.R., et al. // Vacuum. 2020. 181. P. 109738.
- https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109738
- Tsai M-H., Yeh J-W. High-Entropy Alloys: A Critical Review // Materials Research Letters. 2014. 2. № 3. P. 107–123.
- Liu W.H., Wu Y., He J.Y., Nieh T.G., Lu Z.P. // Scr. Mater. 2013. 68. P. 526–529. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2012.12.002
- Xiao L., Zheng Z., Huang P., Wang F. Superior anticorrosion performance of crystal-amorphous FeMnCoCrNi high-entropy alloy // Scr. Mater. 2022. 210. P. 114454.
- Ranganathan S. Alloyed pleasures: Multimetallic cocktails // Curr Sci. 2003. 85. № 10. P. 1404–1406.
- Lei H., Chen C., Ye X. et al. // J. Mater. Res. Technol. 2024. 28. P. 3765–3774. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.01.003
- B. Gludovatz, A. Hohenwarter, D. Catoor, et al. A fracture-resistant high-entropy alloy for cryogenic applications // Science. 2014. 345. P. 1153.
- Fan X.J., Qu R.T., Zhang Z.F. // J. Mater. Sci. Technol. 2022. 123. P. 70–77. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.01.017
- Ju S-P., Lee I-J., Chen H-Y. // J. Alloys Compd. 2021. 858. P. 157681. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157681
- Yan J., Yin S., Asta M. et al. // Nat Commun. 2022. 13. P. 2789. https://doi.org/10.1038/s41467–022–30524-z
- Song B., Yang Y., Rabbani M., et al. In situ oxidation studies of high-entropy alloy nanoparticles // ACS Nano. 2020. 14. № 11. P. 15131–15143.
- Xiang T., Du P., Cai Z., et al. // J. Mater. Sci. Technol. 2022. 117. P. 196–206 https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.12.014
- Song H., Lee S., Lee K. // Int J Refract Hard Met 2021. 99. P. 105595. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105595
- Daryoush S., Mirzadeh H., Ataie A. // Mater. Lett. 2022. 307. P. 131098. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.131098
- Kipkirui N.G., Lin T-T., Kiplangat R.S., et al. HiPIMS and RF magnetron sputtered Al0.5CoCrFeNi2Ti0.5 HEA thin-film coatings: Synthesis and characterization // Surf. Coat. Technol. 2022. 449. P. 128988. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.128988
- Zhu Z., Meng H., Ren P. CoNiWReP high entropy alloy coatings prepared by pulse current electrodeposition from aqueous solution // Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 2022. 648. P. 129404.
- Sun Y., Dai S., High-entropy materials for catalysis: A new frontier // Sci. Adv. 2021. 7. P. eabg1600.
- Takeuchi A., Inoue A., Makino A. // Mater. Sci. Eng. A. 1997. 226–228. P. 636–640. https://doi.org/10.1016/S0921–5093(96)10698–5
- Inoue A., Takeuchi A., Makino A., Masumoto T. Hard Magnetic Properties of Nanocrystalline Fe–Nd–B Alloys Containing α-Fe and Intergranular Amorphous Phase // Mater. Trans. 1995. 36. № 5. P. 676–685.
- Yoshizawa Y., Oguma S., Yamauchi K. New Febased soft magnetic alloys composed of ultrafine grain structure // J. Appl. Phys. 1988. 64. P. 6044.
- Belyakova R.M., Kurbanova E.D., Polukhin V.A. // Physical and chemical aspects of the study of clusters nanostructures and nanomaterials. 2022. 14. P. 512–520. https://doi.org/10.26456/pcascnn/2022.14.512
- Kulik T. // J Non Cryst Solids. 2001. 287. № 1. P. 145–161. https://doi.org/10.1016/S0022–3093(01)00627–5
- Vatolin N.A., Polukhin V.A., Sidorov N.I. // Russ. Metall. 2021. 2021. P. 905–907. https://doi.org/10.1134/S0036029521080206
- Li J., Lu K., Zhao X., et al. // J. Mater. Sci. Technol. 2022. 131. P. 185–194. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.06.003.
- Tripathy B., Malladi S.R.K., Bhattacharjee P.P. // Mater. Sci. Eng. A. 2022. 831. P. 142190. https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142190.
- Sun Y.Y., Song M., Liao X.Z., Sha G., He Y.H. Effects of isothermal annealing on the microstructures and mechanical properties of a FeCuSiBAl amorphous alloy // Mater. Sci. Eng. A. 2012. 543. P. 145–151.
- Gao S., Hao S., Huang Z. et al. // Nat Commun. 2020. 11. P. 2016. https://doi.org/10.1038/s41467–020–15934–1.
- Wong A., Liu Q., Griffin S., et al. Synthesis of ultrasmall, homogeneously alloyed, bimetallic nanoparticles on silica supports // Science. 2017. 358. P. 1427–1430.
- Ding K., Cullen D.A., Zhang L., et al. // Science. 2018. 362. P. 560–564. https://doi.org/10.1126/science.aau4414
- Fojtik A., Giersig M., Henglein A. // Phys. Chem. 1993. 97. № 11. P. 1493–1496. https://doi.org/10.1002/bbpc.19930971112
- Neddersen J., Chumanov G., Cotton T.M. Laser Ablation of Metals: A New Method for Preparing SERS Active Colloids // Appl. Spectrosc. 1993. 47. № 12. P. 1959–1964.
- Waag F., Li Y., Ziefuß A.R., et al. Kinetically-controlled laser-synthesis of colloidal high-entropy alloy nanoparticles // RSC Advances. 2019. 9. P. 18547–18558.
- Jahangiri H., Morova Y., Asghari A., et al. // Intermetallics. 2023. 156. P. 107834. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2023.107834
- Rawat R., Singh B.K., Tiwari A., et al. // J. Alloys Compd. 2022. 927. P. 166905. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166905
- Salemi F., Abbasi M.H., Karimzadeh F. // J. Alloys Compd. 2016. 685. P. 278e286. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.05.274
- Shkodich N.F., Kovalev I.D., Kuskov K.V., et al. Fast mechanical synthesis, structure evolution, and thermal stability of nanostructured CoCrFeNiCu high entropy alloy // J. Alloys Compd. 2022. 893. P. 61839.
- Xu W., Chen H., Jie K., et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2019. 58. P. 5018–5022. https://doi.org/10.1002/anie.201900787
- Butova V.V., Soldatov M.A., Guda A.A., et al. Metal-organic frameworks: structure, properties, methods of synthesis and characterization // Russ. Chem. Rev. 2016. 85. P. 280.
- Kumar N., Tiwary C.S. Biswas K. // J Mater Sci. 2018. 53. P. 13411–13423. https://doi.org/10.1007/s10853–018–2485-z
- Arora N., Sharma N.N. // Diam Relat Mater. 2014. 50. P. 135–150. http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2014.10.001
- Khan W., Sharma R., Saini P. Carbon nanotube-based polymer composites: Synthesis, properties and applications // In Carbon Nanotubes Current Progress of their Polymer Composites. IntechOpen: London. UK. 2016.
- Mao A., Ding P., Quan F., et al. // J. Alloys Compd. 2018. 735. P. 1167–1175. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.11.233
- Liao Y., Li Y., Ji L., et al. // Acta Mater. 2022. 240. P. 118338. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118338
- Bai H., Su R., Zhao R.Z., et al. // J. Mater. Sci. Technol. 2024. 177. P. 133–141. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.07.074
- Lunga J-K., Huanga J-C., Tien D-C., et al. Preparation of gold nanoparticles by arc discharge in water // J. Alloys Compd. 2007. 434–435. P. 655–658.
- Wu Q., Wang Z., He F. et al. High Entropy Alloys: From Bulk Metallic Materials to Nanoparticles // Metall Mater Trans A. 2018. 49. P. 4986–4990.
- Feng J., Chen D., Pikhitsa P.V., et al. // Matter. 2020. 3. № 5. P. 1646–1663. https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.07.027
- Liu M., Zhang Z., Okejiri F., et al. // Adv. Mater. Interfaces. 2019. 6. P. 1900015. https://doi.org/10.1002/admi.201900015
- Singh M.P., Srivastava C. Synthesis and electron microscopy of high entropy alloy nanoparticles // Mater. Lett. 2015. 160. P. 419–422.
- Feng G., Ning F., Song J., et al. // J. Am. Chem. Soc. 2021. 143. № 41. P. 17117–17127. https://doi.org/10.1021/jacs.1c07643
- Wu D., Kusada K., Yamamoto T., et al. // Chem. Sci. 2020. 11. P. 12731. https://doi.org/10.1039/D0SC02351E
- Jin Y., Li R., Zhang X., et al. Ultrafine high-entropy alloy nanoparticles for extremely superior electrocatalytic methanol oxidation // Mater. Lett. 2023. 344. P. 134421.
- Wei M., Sun Y., Ai F., et al. // Appl. Catal. B. 2023. 334. P. 122814. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122814
- Okejiri F., Yang Z., Chen H. et al. // Nano Res. 2022. 15. P. 4792–4798. https://doi.org/10.1007/s12274–021–3760-x
- Okejiri F., Fan J., Huang Z., et al. // iScience. 2022. 25. № 5. P. 104214. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104214
- Rekha M.Y., Mallik N., Srivastava C. First Report on High Entropy Alloy Nanoparticle Decorated Graphene // Sci Rep. 2018. 8. P. 8737.
- Wang A-L., Wan H-C., Xu H., et al. // Electrochim. Acta. 2014. 127. P. 448–453. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.02.076
- Huang K., Zhang B., Wu J., et al. // J. Mater. Chem. A. 2020. 8. P. 11938–11947. https://doi.org/10.1039/D0TA02125C
- Tsukamoto T., Kambe T., Nakao A. et al. // Nat Commun. 2018. 9. P. 3873. https://doi.org/10.1038/s41467–018–06422–8
- Li H., Zhu H., Shen Q., et al. // Chem. Commun. 2021. 57. P. 2637. https://doi.org/10.1039/D0CC07345H
- Zhu G., Jiang Y., Yang H., et al. // Adv. Mater. 2022. 34. P. 2110128. https://doi.org/10.1002/adma.202110128
- Tang J., Xu J.L., Ye Z.G., Li X.B., Luo J.M. // J. Mater. Sci. Technol. 2021. 79. P. 171–177. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.10.079
- Tang J., Xu J.L., Ye Z.G., et al. // J. Alloys Compd. 2021. 885. P. 160995. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160995
- H. Qiao, M.T. Saray, X. Wang, et al. Scalable Synthesis of High Entropy Alloy Nanoparticles by Microwave Heating // ACS Nano 2021. 15. 9. P. 14928–14937.
- Nair R.B., Arora H.S., Boyana A.V., Saiteja P., Grewal H.S., Tribological behavior of microwave synthesized high entropy alloy claddings // Wear. 2019. 436–437. P. 203028.
- M. Kheradmandfard, H. Minouei, N. Tsvetkov, et al. // Mater. Chem. Phys. 2021. 262. P. 124265. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124265
- Ren L., Liu J., Liu X., et al. Rapid synthesis of high-entropy antimonides under air atmosphere using microwave method to ultra-high energy density supercapacitors // J. Alloys Compd. 2023. 967. P. 171816. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.171816
- Wang H.M., Su W.X., Liu J.Q., et al. // J. Mater. Res. and Technology, 2023. 24. P. 8618–8634. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.05.100
- Gao L., Li G., Wang H., Yan Y. // Materials Characterization. 2022. 189. P. 111993. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2022.111993
- König D., Richter K., Siegel A., Mudring A.-V. Ludwig A. // Adv. Funct. Mater. 2014. 24. P. 2049–2056. https://doi.org/10.1002/adfm.201303140
- Shi Y., Yang B., Rack P.D., et al. // Mater. Des. 2020. 195. P. 109018. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.109018
- Schwarz H., Uhlig T., Lindner T., et al. // Coatings. 2022. 12. P. 269. https://doi.org/10.3390/coatings12020269
- Cheng C., Zhang X., Haché M.J.R. et al. // Nano Res. 2022. 15. P. 4873–4879. https://doi.org/10.1007/s12274–021–3805–1
- Löffler T., Meyer H., Savan A., et al. Discovery of a multinary noble metal–free oxygen reduction catalyst // Adv. Energy Mater. 2018. 8. № 34. P. 1802269.
- Cantor B., Chang I.T.H., Knight P., Vincent A.J.B. Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys // Mater. Sci. Eng. A. 2004. 375–377. P. 213–218.
- Garzón-Manjón A., Meyer H., Grochla D., et al. // Nanomaterials. 2018. 8. P. 903. https://doi.org/10.3390/nano8110903
- Sang Q., Hao S., Han J., Ding Y. Dealloyednanoporous materials for electrochemical energy conversion and storage // EnergyChem. 2022. 4. № 1. P. 100069.
- Asao N. Nanocatalysts fabricated by a dealloying method // The Chemical Record. 2015. 15. P. 964–978.
- Hakamada M., Mabuchi M. Fabrication, Microstructure, and Properties of Nanoporous Pd, Ni, and Their Alloys by Dealloying // Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 2013. 38. № 4. P. 262–285.
- Liu H., Qin H., Kang J., et al. // Chem. Eng. J. 2022. 435. № 1. P. 134898. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134898
- Qiu H-J., Fang G., Wen Y., et al. // J. Mater. Chem. A. 2019. 7. P. 6499–6506. https://doi.org/10.1039/C9TA00505F
- Jin Z., Lv J., Jia H.L., et al. // Small. 2019. 15. P. 1904180. https://doi.org/10.1002/smll.201904180
- Li S., Tang X., Jia H., et al. // Journal of Catalysis. 2020. 383. P. 164–171. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2020.01.024
- Fang G., Gao J., Lv J., et al. // Appl. Catal. B. 2020. 268. P. 118431. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118431
- Yoshizaki T., Fujita T. // J. Alloys Compd. 2023. 968. P. 172056. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172056
- Abid T., Akram M.A., Yaqub T.B., et al. // J. Alloys Compd. 2024. 970. P. 172633. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172633
- Zeng L., You C., Cai X., et al. // J. Mater. Res. and Technology. 2020. 9. № 3. P. 6909–6915. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.01.018
- Joo S-H., Okulov I.V., Kato H. // J. Mater. Res. and Technology. 2021. 14. P. 2945–2953. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.08.100
- Okulov A.V., Joo S.-H., Kim, H.S. et al. Nanoporous high-entropy alloy by liquid metal dealloying // Metals. 2020. 10. P. 1396.
- Mori K., Hashimoto N., Kamiuchi N. et al. // Nat Commun. 2021. 12. P. 3884. https://doi.org/10.1038/s41467–021–24228-z
- Y. Yao, Z. Huang, P. Xie, et al. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles // Science. 2018. 359. P. 1489–1494.
- Cui M., Yang C., Hwang S., et al. Multi-principal elemental intermetallic nanoparticles synthesized via a disorder-to-order transition // Sci. Adv. 2022. 8. № 4. https://doi.org/10.1126/sciadv.abm4322
- Abdelhafiz A., Wang B., Harutyunyan A.R., Li J. // Adv. Energy Mater. 2022. 12. P. 2200742. https://doi.org/10.1002/aenm.202200742
- El-Atwani O., Li N., Li M., et al. // Sci. Adv. 2019. 5. № 3. https://doi.org/10.1126/sciadv.aav2002
- Su Z., Ding J., Song M., et al. // Acta Mater. 2023. 245. P. 118662. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118662.
- Cheng Z., Sun J., Gao X., et al. // J. Alloys Compd. 023. 930. № 2. P. 166768. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166768.
- Wu H., Zhang S., Wang Z.Y., et al. // International Int J Refract Hard Met 2022. 102. P. 105721. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105721.
- Wen X., Cui X., Jin G., et al. // Intermetallics. 2023. 156. P. 107851. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2023.107851.
- He R., Wu M., Jie D., et al. // Surf. Coat. Technol. 2023. 473. P. 130026. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2023.130026.
- Lindner T., Löbel M., Sattler B., Lampke T. // Surf. Coat. Technol. 2019. 371. P. 389–394. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.10.017.
- Yang R., Guo X., Yang H., Qiao J. // Surf. Coat. Technol. 2023. 464. P. 129572. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2023.129572.
- Gloriant T. // J. Non Cryst Solids. 2003. 316. № 1. P. 96–103. https://doi.org/10.1016/S0022–3093(02)01941–5.
- Cheng J., Liang X., Xu B., Wu Y. // J Non Cryst Solids. 2009. 355. № 34–36. P. 1673–1678. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2009.06.024
- Meijun L., Xu L., Zhu C., et al. // J. Mater. Res. and Technology. 2024. 28. P. 752–773. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.011.
- Kumar D. Recent advances in tribology of high entropy alloys: A critical review // Prog. Mater. Sci. 2023. 136. P. 101106.
- Wang Y., Jin J., Zhang M., et al. // J. Alloys Compd. 2021. 858. P. 157712. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157712
- Mao X., Wang Y., Jiang J., et al. // Mater. Lett. 2022. 314. P. 131855. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.131855
- Li Y., Luo H., Li W., Xu C., Min N. // Mater. Des. 2023. 231. P. 112049. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2023.112049
- Ye Y., Liu Z., Liu W., et al. // Tribology International. 2018. 121. P. 410–419. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2018.01.064
- Tan C., Zhu H., Kuang T., et al. // J. Alloys Compd. 2017. 690. P. 108–115. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.08.082
- Wang S.L., Zhang Z.Y., Gong Y.B., Nie G.M. // J. Alloys Compd. 2017. 728. P. 1116–1123. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.08.251
- Qin Y., Wu Y., Zhang J., et al. // T Nonferr Metal Soc. 2015. 25. № 4. P. 1144–1150. https://doi.org/10.1016/S1003–6326(15)63709–8
- Cheng, J.B., Wang, Z.H. Xu B.S. // J Therm Spray Tech. 2012. 21. P. 1025–1031. https://doi.org/10.1007/s11666–012–9779–5
- Xiao L., Zheng Z., Huang P., Wang F. // Scr. Mater. 2022. 210. P. 114454. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.114454
- Pastukhov E.A., Sidorov N.I., Polukhin V.A., Chentsov V.P. Short order and hydrogen transport in amorphous palladium materials // Defect and Diffusion Forum. 2009. 283–286. P. 149–154.
- Belyakova R.M., Kurbanova E.D., Sidorov N.I., Polukhin V.A. // Russ. Metall. 2022. № 8. P. 851–860. https://doi.org/10.1134/S0036029522080031
- Belyakova R.M., Polukhin V.A., Sidorov N.I. // Russ. Metall. 2019. № 2. P. 108–115. https://doi.org/10.1134/S0036029519020058.
- Sahlberg M., Karlsson D., Zlotea C., et al. Superior hydrogen storage in high entropy alloys // Sci Rep. 2016. 6. P. 36770.
- Montero J., Zlotea, C., Ek G., et al. // Molecules. 2019. 24. P. 2799. https://doi.org/10.3390/molecules24152799
- Montero J., Ek G., Laversenne L., et al. // Molecules. 2021. 26. P. 2470. https://doi.org/10.3390/molecules26092470
- Montero J., Ek G., Laversenne L., et al. // J. Alloys Compd. 2020. 835. P. 155376. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155376
- Sidorov N.I., Estemirova S.K., Kurbanova E.D., Polukhin V.A. // Russ. Metall. 2022. № 8. P. 887–897. https://doi.org/10.1134/S0036029522080158
- Shen H., Zhang J., Hu J., et al. A Novel TiZrHfMoNb High-Entropy Alloy for Solar Thermal Energy Storage // Nanomaterials (Basel). 2019. 9. № 2. P. 248.
- Silva B.H., Zlotea C., Champion Y., Botta W.J., Zepon G. // J. Alloys Compd. 2021. 865. P. 158767. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158767
- Karlsson D., Ek G., Cedervall J., Zlotea C., et al. // Inorg. Chem. 2018. 57. № 4. P. 2103–2110. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b03004
- Kao Y-F., Chen S-K., Sheu J-H., Lin J-T, et al. Hydrogen storage properties of multi-principal-component CoFeMnTixVyZrz alloys // Int. J. Hydrog. Energy. 2010. 35. № 17. P. 9046–9059.
- Floriano R., Zepon G., Edalati K., et al. Hydrogen storage in TiZrNbFeNi high entropy alloys, designed by thermodynamic calculations // Int. J. Hydrog. Energy. 2020. 45. № 58. P. 33759–33770.
- Zadorozhnyy V., Sarac B., Berdonosova E., et al. Evaluation of hydrogen storage performance of ZrTiVNiCrFe in electrochemical and gas-solid reactions // Int. J. Hydrog. Energy. 2020. 45. № 8. P. 5347–5355.
- Sarac B., Zadorozhnyy V., Berdonosova E., et al. Hydrogen storage performance of the multiprincipal-component CoFeMnTiVZr alloy in electrochemical and gas–solid reactions // RSC Adv. 2020. 10. P. 24613.
- Kunce I., Polanski M., Bystrzycki J. Structure and hydrogen storage properties of a high entropy ZrTiVCrFeNi alloy synthesized using Laser Engineered Net Shaping (LENS) // Int. J. Hydrog. Energy. 2013. 38. № 27. P. 12180–12189.
- Edalati P., Floriano R., Mohammadi A., et al. // Scr. Mater. 2020. 178. P. 387–390. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2019.12.009
- Mohammadi A., Ikeda Y., Edalati P., et al. // Acta Mater. 2022. 236. P. 118117. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118117
- Luo L., Chen L., Li L., et al. // Int. J. Hydrog. Energy. 2024. 50. Part D.P. 406–430. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.07.146
- Zhao Y., Park J.-M., Murakami K., Komazaki S., et al. // Scr. Mater. 2021. 203. P. 114069. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.114069.
- Luo L., Li Y., Yuan Z., et al. // J. Alloys Compd. 2022. 913. P. 165273. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165273.
- Verma S.K., Mishra S.S., Mukhopadhyay N.K., Yadav T.P. Superior catalytic action of high-entropy alloy on hydrogen sorption properties of MgH2 // Int. J. Hydrog. Energy. 2024. 50. Part D.P. 749–762.
- Polukhin V.A., Sidorov N.I., Kurbanova E.D., Belyakova R.M. Characteristics of amorphous, nanocrystalline, and crystalline membrane alloys // Russ. Metall. 2022. № 8. P. 869–880.
- Polukhin V.A., Sidorov N.I., Kurbanova E.D., Belyakova R.M. Characteristics of amorphous, nanocrystalline, and crystalline membrane alloys // Russ. Metall. 2022. 2022. № 8. P. 869–880.
- Polukhin V.A., Gafner Yu. Ya., Chepkasov I.V., Kurbanova E.D. // Russ. Metall. 2014. № 2. P. 112–125. https://doi.org/10.1134/S0036029514020128
- Polukhin V.A., Sidorov N.I., Kurbanova E.D., Belyakova R.M. // Russ. Metall. 2022. № 8. P. 797–817. https://doi.org/10.1134/S0036029522080110
- Polukhin V.A., Kurbanova E.D., Belyakova R.M. // Met. Sci. Heat Treat. 2021. 63. № 1–2. P. 3–10.https://doi.org/10.1007/s11041–021–00639-z
- Sun Y., Dai S. High-entropy materials for catalysis: A new frontier // Sci. Adv. 2021. 7. P. eabg1600.
- Xu H., Jin Z., Zhang Y., Lin X., Xie G., Liub X., Qiu H.-J. Designing strategies and enhancing mechanism for multicomponent high-entropy catalysts // Chem. Sci. 2023. 14. P. 771.
- Xie P., Yao Y., Huang Z. et al. // Nat Commun. 2019. 10. Р. 4011. https://doi.org/10.1038/s41467–019–11848–9.
- Yao Y., Huang Z., Li T., et al. High-throughput, combinatorial synthesis of multimetallic nanoclusters // PNAS. 2020. 117. № 12. P. 6316–6322.
- Garzón Manjón A., Löffler T., Meischein M., et al. // Nanoscale. 2020. 12. P. 23570. https://doi.org/10.1039/d0nr07632e.
- Edalati P., Itagoe Y., Ishihara H., et al. Visible-light photocatalytic oxygen production on a high-entropy oxide by multiple-heterojunction introduction // J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry. 2022. 433. P. 114167.
- Chen X., Si C., Gao Y., et al. // J. Power Sources. 2015. 273. P. 324–332. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.09.076
- Qiu H.-J., Fang G., Gao J. // ACS Mater. Lett. 2019. 1. № 5. P. 526–533. https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.9b00414
- Shaikh J.S., Rittiruam M., Saelee T., et al. // J. Alloys Compd. 2023. 969. P. 172232. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172232
- Rittiruam M., Khamloet P., Ektarawong A., et al. // Appl. Surf. Sci. 2024. 652. P. 159297. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.159297
- Pedersen J.K., Batchelor T.A.A., Bagger A., Rossmeisl J. High-entropy alloys as catalysts for the CO2 and CO reduction reactions // ACS Catalysis. 2020. 10. № 3. P. 2169–2176.
- Nellaiappan S., Katiyar N.K., Kumar R., et al. High-Entropy Alloys as Catalysts for the CO2 and CO Reduction Reactions: Experimental Realization // ACS Catalysis. 2020. 10 № 6. P. 3658–3663.
- Akrami S., Edalati P., Shundo Y., et al. // Chem. Eng. J. 2022. 449. P. 137800. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137800
Дополнительные файлы